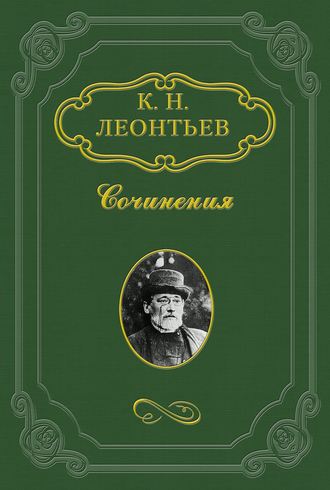
Константин Николаевич Леонтьев
Плоды национальных движений на православном Востоке
IX
Итак, мы видим, что при Императоре Николае I правительство русское славянской эмансипации и славянскому объединению не потворствовало. У себя строго монархическое и дворянское, оно не желало расшатывать этим потворством и охранительную, чисто государственную, ничуть не племенную Австрию. Что касается до действий нашей дипломатии в тогдашней Турции, то и без изучения архивов того времени можно утверждать вообще, что в 30 и 40 годах политика наша на Востоке имела гораздо более вероисповедный характер, чем племенной.
Разумеется, что и при Николае Павловиче наши посланники и консулы заступались за всех христиан без различия племени, когда было возможно, за славян, румын и греков одинаково. Но главным орудием наших действий в то время были или сами турки, или православное греческое духовенство, преобладавшее тогда над всем восточно-христианским миром. Турки в то время боялись русского правительства; христиане, подавленные турецкою властью, повиновались русским дипломатам и консулам. Дружа с «больным человеком», не позволяя никому, ни грекам, ни славянам, ни египетскому паше противу него бунтовать и вместе с тем беспрестанно давая ему чувствовать свою силу, – опираясь, с другой стороны, в случаях прямых действий на христиан, на тысячелетний авторитет Греческих Патриархов и Епископов, русская дипломатия того времени могла делать много частного добра православным подданным султана – и делала его. В Салониках, например, существует такое предание.
Своими победами в 29 году и Адрианопольским миром Россия много облегчила участь христиан во всей Турецкой империи, но сразу и она не могла достичь всего того, чего желала и требовала. А требовала она тогда для единоверцев своих лишь некоторой, приблизительной обеспеченности жизни и имущества и вообще обыкновенных гражданских прав.
Во многих местах самоуправство пашей и после подвигов Дибича было еще жестоко, и подавленный фанатизм мусульман давал себя там и сям все-таки сильно чувствовать.
В Салониках один паша в 30-х годах, в угоду мусульманской черни, имел обыкновение каждую пятницу вешать публично по нескольку христиан. Весьма возможно и даже вероятно, что их не хватали зря на улицах и не брали без причины в домах; они, быть может, были заключены в тюрьму и судимы за какие-нибудь провинности и небольшие преступления, ни в каком случае не заслуживающие смертной казни. В Салониках в то время был консулом грек, русский подданный, Мустоксиди. Узнавши об этих ужасах, г. Мустоксиди поехал к паше и сказал ему: «Удивляюсь я, как теперь, когда у Императора нашего мир и дружба с султаном, вы решаетесь вешать каждую пятницу единоверцев наших, как собак! Я буду вынужден написать об этом посланнику». Этих простых слов консула было достаточно. Жестокий обычай немедленно был оставлен и никогда не возобновлялся более.
Еще пример… Когда во время сирийских волнений 41 года друзы подступили к христианскому городу Захле (в Ливане), – христиане обратились с просьбою о помощи к русскому консулу Базили, который был в то время в Дамаске для переговоров с пашою о защите христиан. Базили был человек энергический. С небольшой конной стражей он внезапно явился в лагерь друзов, готовых напасть на Захле и предать в нем все мечу и огню. Вождь друзов, Шиб-ли-Ариан, тотчас же заключил с жителями Захле перемирие и отступил. По настоянию того же Базили был пашею немедленно назначен особый отряд для защиты этого города.
Консулы наши в то время имели огромное влияние. Христиан в частных случаях, подобных этому, они могли с успехом защищать; но все это делалось во имя единоверчества, человеколюбия и нашей силы, а не во имя принципиальной свободы их. Греческая демагогия и сербские либерально-чиновничьи инзуррекции не могли быть по вкусу нашему строгому правительству, и оно вовсе не спешило эмансипировать христиан политически, не находило удобным создавать из них новые независимые государства или усиливать их и увеличивать уже существующие территориальными приращениями..
Самая война 53-го года возгорелась не из-за политической свободы единоплеменников наших, а из-за требований преобладания самой России в пределах Турции.
Наше покровительство гораздо более, чем их свобода, – вот, что имелось в виду!
Сам Государь считал себя вправе подчинить себе султана, как монарха Монарху, – а потом уже, по своему усмотрению (по усмотрению России, как великой Православной Державы), сделать для единоверцев то, что заблагорассудится нам, а не то, что они пожелают для себя сами. Вот разница – весьма, кажется, важная.
Наши права, права Государя, права России имелись тогда в виду гораздо более, чем права самих крещеных подданных султана. Политика того времени имела характер более религиозный и государственный, чем эмансипационный и племенной. Это была политика православного руссизма, так сказать, политика, справедливо недоверчивая ко всем чисто племенным движениям.
Война 53 года была конечным результатом этой прекрасной по духу и прямой политики.
Она была несчастлива – это правда – как война; но она была уже тем хороша, что в глубоких основаниях имела характер более государственный, чем племенной и освободительный.
Служа сам в Турции, я не раз слыхал и от христиан, и от турок, что не вмешайся тогда в спор Европа и победи Россия Турцию, то и Святые Места стали бы почти в прямую от нас зависимость и все православные подданные султана оказались бы настолько же под нашим покровительством и под нашею властью, насколько находились католики Турции под фактическою властью и покровительством Франции.
Но (прибавляли мои восточные собеседники) католиков мало в Турции, и потому, по исключению для них, и можно было допустить значительные привилегии. Православных же очень много, и в европейской Турции они – большинство.
Россия при таких условиях, при таком договоре, – и не присоединяя значительных земель, господствовала бы в Турецкой империи почти так же, как Англия в Индостане. Султан стал бы скоро великим Моголом. Христиане были бы тогда и малым надолго довольны… Для них в то время достаточно было бы и того, чтобы их не убивали без суда и безнаказанно, чтобы не били и не грабили их зря.
Вот что говорили мне уроженцы Турции.
Чем же это было бы дурно для нас?
Подобные мысли, конечно, руководили политикой нашей и тогда, когда мы в 33 году, после усмирения египетского восстания, заключали с султаном союз и тайный договор о закрытии Дарданелл для военных судов всех наций, оставляя Босфор открытым, и тогда, когда, в 53 году, мы предъявляли те требования наши, которые повели к войне.
Мы потерпели неудачу. Неудача эта не была последствием политики, ложной по существу своему. Эта политика была, положим, не особенно в духе века. Но в XIX веке, за немногими исключениями, все то именно и хорошо, что не в его специальном духе; то, что сохранилось и сложилось вопреки его главному (всеравняющему) направлению. Специальную эту идею XIX века можно и должно иногда эксплуатировать в пользу идеалов высших, можно ей уступать по нужде, но служить ей искренно и преднамеренно, избави нас, Боже, – отныне и впредь! Довольно с нас!
Неудача нашей дунайской и крымской войны была, скорее всего, результатом того, что мы неверно разочли тогда вещественные силы наши, преувеличили их себе.
К тому же я опять, при подобном обсуждении, предпочитаю отступить подальше от подробностей и взглянуть и на эти события с точки зрения моей общей гипотезы таинственно движущих историю сил.
Важны тут не стратегические ошибки русских генералов, не ошибочные расчеты видимых сил, – важна сила невидимая; важно то, что либерализму и эгалитарности суждено было сделать еще несколько успешных и больших шагов и по Западной Европе, и по восточным ее странам.
X
Либерализму суждено было еще раз пройти по свету вихрем… На этот раз – по Турции и по самой России…
Здесь, на востоке Европы, уже в 50-х годах случилось то же самое, что позднее и с несравненно большей (к нашему счастью!) выразительностью происходило во всей Западной Европе. Не узнана была никем всемирная демократическая революция.
Два восточных самодержавных государства – православное и мусульманское, оба к тому же весьма не эгалитарные и не либеральные по принципам и по строю своему; оба дотоле каждое по-своему весьма охранительные – были одновременно, хотя и не в равной мере, побеждены и унижены.
Турция была уже тем унижена, что слабость ее была признана всем Западом, который соединился для ее спасения против нас. Одну, без посторонней помощи, ее уже не считали способною устоять.
Россия, после геройской обороны Крыма, должна была тоже сделать уступки и подписать Парижский трактат. Обе эти охранительные державы, обе, можно сказать, по-своему церковные, – Россия, дотоле столь давно и крепко-сословная, и Турция, в недрах своих столь неравенственная (по преобладанию мусульман над христианами), обе были разом развенчаны; обе более или менее усумнились в пригодности своих прежних порядков и приступили, так или иначе, вольно или принудительно у себя дома к эмансипационным реформам новоевропейского стиля.
Либерализм и тут восторжествовал над охранением силой европейского оружия. Англия, в то время еще довольно аристократическая, еще не расстроенная так, как теперь, уравнительными реформами Гладстона и его единомышленников; императорская Франция и самодержавная еще тогда и католическая Австрия соединились как будто бы только для того, чтобы обуздать на Востоке тоже самодержавную и дворянскую Россию и спасти Турцию, столь нелиберальную и неравенственную в принципах своих. Но вся эта западная коалиция, ведомая охранительными силами против охранительных же сил России, привела только к тому, что обе восточные державы, каждая по-своему, демократизовались.
Я сказал: «Как будто бы только для того, чтоб обуздать». Этим я вовсе не хотел сказать, что Наполеон III, лорд Пальмерстон и австрийские государственные люди все притворялись, что они «будто бы» только хотят ослабить Россию и оградить Турцию, а в самом деле они все желают лишь либеральных реформ в обеих восточных империях.
Разумеется, я, выражаясь так: «будто бы», выражение это относил в этом случае не к личному или дипломатическому притворству руководителей западной коалиции, а, напротив того, к той поистине странной ошибке, которой в подобных случаях страдают несколько более, несколько менее все, даже самые великие деятели XIX века. Все они с этой стороны являются лишь слепыми орудиями той таинственной воли, которая шаг за шагом ищет демократизировать, уравнять, смешать социальные элементы сперва всей романо-германской Европы, а потом, быть может (кто знает!), и всего человечества. Этот уравнительный, ассимиляционный процесс будет неудержимо продолжаться до тех пор, пока не достигнет, как и все в природе, своей точки насыщения. Когда человечество достигнет до этой точки, когда дальнейшее уравнение окажется уже нестерпимым, то где-нибудь, в каком-нибудь уголке земного шара люди опомнятся прежде других и найдут средства опять расслоиться и разбиться на группы в новых частных формах, но повинуясь древним, исконным, непобедимым законам социальной жизни.
XI
Коалиция западных монархических, католических и аристократических сил победила в 56 году самодержавную, православную и дворянскую Россию; она ее стеснила в пользу мусульманской, тоже самодержавной и к христианам нелиберальной Турции. Кажется, что бы за беда для общих дел охранения? Где же тут торжество либерализма и демократии?
Нет! Моя таинственная Сила разрушения свое дело знает! Она действует то прямо, то изворотами; она меняет образ свой; она ведет дело свое издалека! И какими же жалкими игрушками оказываются под ее глубокомысленным руководством все эти Кавуры, Наполеоны, Бисмарки!.. Все они покорные и слепые слуги всемирной революции – и только!
Россию победили. Она заключила Парижский мир. Но на совещаниях этого парижского съезда было сообща решено: облегчить участь христианских подданных султана, усилить их гражданские права, то есть сравнять их более прежнего с мусульманами Турции.
Эту уступку державы все-таки сделали православной России. Она была побеждена, положим; но, во-1-х, все державы понимали, что она не вполне истощена и может снова бороться; а во-2-х, моя таинственная «сила» подучила французских политиков поддержать Россию в этих требованиях.
Представители демократической Франции, потомки людей, провозгласивших так громко в 89 году «права человека», – не хотели идти слишком резко против человеколюбивых требований России и вдобавок находили в то время для Франции выгодным, обуздавши Россию, осадить и Англию, которая гораздо грубее и прямее Франции хотела поддерживать Турцию.
Для Турции же равноправность христиан, даже и такая неполная, какую им дал тогдашний гатти-гумайюн, была гибелью.{17}
В 56 году этими уступками были органически неизбежно подготовлены – события 76 и 78 годов. Из Парижского трактата истек трактат Берлинский. Последний же, хотя и вторично пытался ограничить Россию, но, в сущности, отодвинул назад ее мало, а только раздражил русских надолго{18}.
Турцию же он окончательно вычеркнул из ряда сильных держав, с которыми надо считаться один на один.
Гражданское возвышение христиан в 56-м году привело Турцию к ряду политических восстаний, к бессилию, к войне 77-го года и расчленению…
Сходит со сцены еще одно из тех великих и неравенственных государств, которые крепко сложились в монархической и аристократической Европе времен Возрождения (т. е. в веках 15-м и 16-м).
Исчезает из истории еще одно старое, знакомое зло или, вернее, полузло, полублаго, – ибо этот враждебный христианству турецкий мир, построенный сам на весьма идеальном начале, был все-таки значительным препятствием к распространению зла несравненно большего, – то есть общеевропейского утилитарно-безбожного стиля общественной жизни.
Посмотрим, каким это более чистым благом заменят полузло старой Турции все эти Стамбуловы и Христичи!
Дни Турции на самом Босфоре сочтены уже…
Организм ее, перенесенный в Европу четыре века тому назад лишь географически, связанный с историей Европы лишь по внешности равновесия, а не по сущности основ, не вынес и слабых приемов европейского, навязанного ему либерализма.
Это ясно, как ясно и то, что, побеждая Россию в Крыму и уступая ей несколько в Париже, западные державы подготовили невольно современное положение дел.
Все это разматывается неотвратимо, как непрерывная нить клубка.
Турция против воли, я сказал, приступила с 56 года к некоторой неполной эмансипации христиан. Она делала это неохотно, неискренно, с основательным страхом за будущность свою. Она была, таким образом, всех менее наивна; она уступала только необходимости и не верила во благо европейского прогресса.
В этом она была права. Она была только несчастнее, слабее всех, как государство; но она в основаниях своих была всех мудрее, всех правильнее смотрела, таким образом, на вещи.
Турция, подобно римскому папству, подобно всем аристократическим элементам Запада, легитимистам, бурбонам, юнкерству, лордам, подобно старой самодержавной Австрии, – была слишком консервативна в духе, чтобы победить или выйти в наше время из борьбы целой.
Посмотрим же теперь, что случилось с Россией после того же 56 года.
XII
Самобытную духом, оригинальную нравами, не доверяющую европейским идеалам Турцию державы демократизировали насильно после Крымской войны. Россия, с самых времен Петра I как бы влюбленная во все без разбора западные идеи, демократизировалась с увлечением сама.
Придержанная в течение 30 лет на вершине наклонной плоскости тем великим инстинктом охранения, который был отличительной чертой николаевского царствования, эта побежденная Европой, старая, почти тысячелетняя Россия – ринулась теперь с каким-то не по годам юношеским пылом вниз по этой плоскости всесвободы и всеравенства.
Я помню это время! Это, действительно, был какой-то рассвет, какая-то умственная весна… Это был порыв, ничем не удержимый!
Казалось, что все силы России удесятерились! За исключением немногих рассудительных людей, которые нам тогда казались сухими, ограниченными и «отсталыми», все мы сочувствовали этому либеральному движению.
Одни потому, что гордились сходством новых учреждений с европейскими, другие, напротив того, радовались потому, что в этих ничуть не оригинальных «новшествах» они сумели как-то распознать «дух древнего благочестия» (!!)
И так как правота людская в истории всегда бывает условна, то мы в то время, пожалуй, и правы были. Мы были, я скажу, даже не только сердечно, но и умственно правы. Мы основательно находили, что силы России удесятерились от этого толчка. Неправы мы были только в том, что простирали нашу веру слишком далеко во времени. Польза государственная была – это несомненно, но прочна ли эта польза? – вот новый и неожиданный вопрос!
Это всегда и везде так бывает. За долгое время неравноправности сословной, провинциальной, вероисповедной и т. д. накопляется, наконец, множество умственных, душевных и экономических не израсходованных, сдержанных сил, которым нужен исход, нужна только воля для наисильнейшего их проявления.
И даже, мне кажется, чем гуще в смысле разнородного неравенства было прежде замешано вековое это социальное тесто, чем сложнее и глубже была предыдущая и долговременная неравноправность, – и с другой стороны, чем сильнее и внезапнее эмансипационный толчок, тем несокрушимее и бурнее бывает общий взрыв сил, накопившихся в нации за все долгое время этой неравноправной разнородности, просуществовавшей века, где волей, а где и неволей, под общим единством власти и преобладающей религии.
Во Франции конца XVIII века все это выразилось с наибольшей резкостью, в России половины XIX века с несравненно меньшей, но все-таки довольно большою; в Англии и в остальной континентальной Европе – с гораздо меньшей, чем во Франции и России, ибо там везде неравноправный строй не был ни внезапно взорван снизу, как во Франции сто лет тому назад, ни видоизменен на скорую руку сверху, как у нас в 60-х годах, а таял медленнее и постепеннее. Что лучше и что хуже с исторической точки зрения, – не чувствую себя в силах разобрать и решить. Одно могу сказать, что для ближайшего будущего наш прием был, кажется, лучше и того, и другого, и слишком пламенного французского, и слишком медленного английского и немецкого. И лучше он не только потому, что движение шло сверху, а не снизу (хотя и это в высшей степени важно и для настоящего, и для будущего), но еще и потому, что слишком медленная и постепенная демократизация, хотя бы и посредством реформ сверху, больше входит в плоть и кровь народа, чем тот дух уравнения, который бывает плодом реформ не совсем удачных и сделанных кое-как на скорую руку. (Помнить прошу, что я постоянно имею в виду так называемое развитие, а никак не благоденствие общее на земном шаре, в которое я не верю и которого деревянный идеал нахожу даже низким.)
Разумеется, если даже и в конце XIX века упорно ставить конечным идеалом (no-старому) идеал всеобщего уравнения и однообразия, то лучше всего будут реформы очень медленные и обдуманно мирные. Ибо они, эти медленные реформы, войдут в жизнь, в привычки, «в кровь» и т. д. Если же отвергать этот идеал всеобщей плоскости, как следует отвергать его во имя всех высших принципов: во имя религии, государственности, живой морали и эстетики, то наше движение за истекшие 20 лет (от 61–81-го года) надо считать, пожалуй, – за наилучшее. С одной стороны, в глазах тех, кому реформы эти были выгодны или идеально-дороги, наша власть сохранила настолько свой престиж и свою популярность, что она в силах (мне думается) преуспеть и в обратном движении. А с другой стороны, некоторая торопливость и грубая подражательность этих самых уравнительных реформ очень скоро уронила, унизила, развенчала их, что, конечно, благоприятно тому же, т. е. обратному движению.
Эта-то неполная удача нашего либерально-эгалитарного процесса (неудача, вдобавок, еще сравнительно очень счастливо и дешево нам до сих пор обошедшаяся) и подает некоторую надежду на то, что мы еще можем уклониться от гибельного общеевропейского пути.
Да! Теперь я так думаю! Я даже начал так думать уже в конце 60-х годов, понявши из опыта жизни, чтения и бесед – куда все это ведет. Многие другие пришли к этому одновременно и позднее. Но не так думал и я в начале этих самых столь знаменательных 60-х годов!
В начале этих годов я был из числа тех немногих, которым уже не нравилось западное равенство и бездушное однообразие демократического идеала; но я, подобно людям славянофильского оттенка, воображал почему-то, что наша эмансипация совсем не то, что западная; я не мечтал, а непоколебимо почему-то верил, что она сделает нас сейчас или вскоре более национальными, гораздо более русскими, чем мы были при Николае Павловиче. Я думал, что мужики и мещане наши, теперь более свободные, научат нас жить хорошо по-русски, укажут нам, какими господами нам быть следует, – представят нам живые образцы русских идей, русских вкусов, русских мод даже, русского хорошего хозяйства, наконец! Особенно в хозяйство их мы все сначала слепо верили! Верили, кроме того, в знаменитый, какой-то особливый «здравый смысл», в могучую религиозность их, в благоразумное и почти дружеское отношение к землевладельцам и т. д.
О том же, что пришлось во всем этом скоро разочароваться, я не нахожу даже и нужным подробно говорить. Это случилось со столькими русскими патриотами, с одними раньше, с другими позднее, – все это до того, наконец, известно, что распространяться об этом не нужно: достаточно напомнить.
Русский простолюдин наш, освобожденный, и хотя и не во всем, но во многом с нами юридически уравненный, вместо того чтобы стать нам примером, как мы, «националисты», когда-то смиренно и добросердечно надеялись, стал теперь все более и более проявлять наклонность быть нашей карикатурой – наклонность заменить почти европейского русского барина почти европейскою же сволочью, с местным оттенком бессмысленного пьянства и беззаботности в делах своих. Карикатура эта, при малейшем потворстве властей, может стать к тому же и крайне опасной, ибо нет ничего вреднее для общественной жизни, как демократизация пороков или распространение в массе народа таких слабостей и дурных вкусов, которые прежде были уделом класса избранного и малочисленного[6].
Даже и добродетели не все одинаково полезны всем классам людей, например, сильное чувство личного достоинства в людях высшего круга порождает рыцарство, а разлитое в народной массе, оно возбуждает инзуррекции парижских блузников… Однообразие развития и тут оказывается антисоциальным. Можно сказать вообще, что даже и из добродетелей только три должны быть общими и равносильными во всех сословиях и классах для того, чтобы государство было крепко и чтобы общество процветало: искренняя религиозность, охотное повиновение властям и взаимное милосердие, ничуть в равенстве для проявления своего не нуждающееся.
Если однородность добродетелей не всегда полезна для общественной устойчивости и силы, то чего же можно ожидать от сходства пороков, дурных вкусов, слабостей и грехов, кроме дальнейшей революции? Нет! Платон остается вечно правым! Для одних нужна мудрость, для других – храбрость, для большинства повиновение!
Мирная революция сверху, производя вскорости некоторое уравнение во вкусах, понятиях и потребностях, располагает и к некоторому обмену пороков и хороших свойств; а это новое и трудно удержимое уравнение ведет позднее уже к немирным движениям снизу!
Оно облегчает их – подготовляет.
Состояние однородности есть состояние неустойчивого равновесия, – говорит Г. Спенсер.
Итак, вот к чему привели национальные надежды тех, которые в 60-х годах (подобно мне), отвратившись с негодованием от учений «Современника» и «Русского слова», стали жить идеями, более или менее близкими к идеям Хомякова и Аксакова.
Мы почему-то верили, что наш либерализм принесет непременно особые, хорошие, национальные плоды! Мы думали, что на нашей «почве» – европейская поливка даст чисто русский урожай!
Мы находили, что Россия Николая Павловича была недостаточно своеобразна в высших сферах своих, что она была слишком похожа на Европу. Мы с радостью увидали позднее некоторое принижение этих высших сфер и значительное возвышение низших. Мы думали, что, погрузившись в это «народное море», мы и его еще более сгустим, и сами окрасимся его оригинальными, яркими, неевропейскими красками. И что же? Высшие утратили свою силу, низшие – стремятся утратить понемногу свой цвет! И теперь, в самые последние годы, когда повеяло, наконец, действительной потребностью духовной и культурной самобытности, когда мы тщимся произвести всему пережитому спасительный синтез, нам приходится беспрестанно и во многом возвращаться к принципам, руководившим Государя Николая I и его помощников, даже и немецких фамилий!
Поможет ли нам Господь хоть половину утраченного возвратить?! Это Он Один знает! А мы пока, обращая взоры наши к всему этому уже пережитому, можем только сказать себе так: справимся ли мы или нет по-своему с первыми признаками нашего эгалитарного разложения, но несомненно одно – это то, что Россия после Крымской войны, хотя и не вполне, но все-таки по-европейски демократизировалась.
Итак, коалиция охранительных сил Запада, сил монархических и аристократических Франции, Англии и Австрии (не без участия и католического «благословения»), победивши в Крыму православную, самодержавную и дворянскую Россию – и желая сохранить Турцию, своим торжеством – способствовала как подражательной демократизации первой, так и либеральному разложению второй.
Страшно!..
Не правда ли, что страшно?







