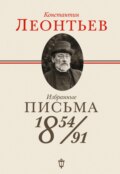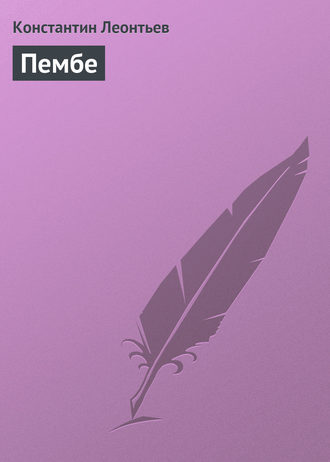
Константин Николаевич Леонтьев
Пембе
IV
Не прошло и недели после разлуки Гайредин-бея с его гаремом, как доктор Петропулаки позвал его на холостую вечернюю пирушку. С тех пор как французский консул похвалил Пембе, и доктору она стала больше нравиться, он позвал цыган на свой вечер. Цыгане эти, с которыми ездила Пембе, знали немного и европейскую музыку. От захождения солнца и до утренней зари не умолкали скрипки, кларнеты и тамбурины в просторном доме доктора. Все веселилось; были тут корфиот, золотых дел мастер, Цукала, который звал себя археологом, были двое консульских драгоманов, был один родственник доктора, молоденький афинский студент, щеголь такой, что в Янине и не видали еще. Он приехал в отпуск к отцу и на всех смотрел свысока. Был еще один пожилой член того же меджлиса, в котором приехал заседать Гайредин, семейный и умный человек, кир-Костаки Джимопуло. Он и золотых дел мастер оживляли всех; только старик, рослый, крепкий на вино и осторожный, удивлял всех достоинством, с которыми он умел пировать и шутить, а Цукала опьянел сразу и стал как исступленный. К утру Гайредин-бей был без ума от Пембе. Проплясала она раз и, звеня колокольчиками, уж не просто остановилась перед беем, как на еврейской свадьбе, а села, улыбаясь, на его колени. Бей смутился немного, особенно, когда все закричали «браво!» Он дал ей золотой, она сошла с его колен, прошлась еще раз кругом комнаты и села к старику; старик тоже скоро отпустил ее. Так она обошла всех поочередно; но когда дошла очередь до студента, то он долго держал ее и твердил ей: «Пембека моя! Пембула моя! Как ты мила!» Он говорил ей это по-гречески, а она кроме «благодарю» да «здравствуй» по-гречески ничего не знала. Этим бедный мальчик так надоел ей, несмотря на то, что был очень свеж и красив, что она другой раз во весь вечер не подпускала его к себе и говорила ему: гид! гид! (Ступай вон!)
Все уже были выпивши; выпил и Гайредин, но настолько чтобы не забыться, а лишь повеселеть. Джимопуло подавал всем пример веселья. Он приказывал, чтобы слуги доктора прежде всех подавали сладости и кофе, и вино Пембе, как делают европейцы с дамами.
За ним и доктор, надев лорнет, пытался быть любезным; студент становился пред цыганкой на колена, несмотря на то, что она кричала ему «гид! гид!»
Цукала был вне себя; он кидался из угла в угол, плясал пред Пембе, с разбегу вскакивал на диван и соскакивал с него, декламировал пред Пембе трагические стихи:
Где ты? Где я? Огонь и кровь! О ужас!..
О ужас дней моих и жизни преступленье!
Томись, душа моя, в безвыходном томленье!
Вонми!..
Пембе слушала с насмешкой и прикладывала руку ко лбу и сердцу. Так и видел бей на лице ее: «какой чудак этот гяур!» Внимательна Пембе была только к хозяину дома, к Джимопуло и к Гайредину. Гайредин как увидал, что все с ней шутят и обращаются нарочно, как с госпожой, ободрился тоже и забыл свою мусульманскую скромность. Она отдыхала на диване, он сел около нее и спросил у ней, зачем она гонит студента. «Красивый мальчик», – сказал он ей по-турецки. Кроме Джимопуло и двух драгоманов никто этого языка не знал, а они все трое ушли в другие покои.
– Зачем ты гонишь этого мальчика? – спросил опять Гайредин.
– Мальчик, – отвечала Пембе.
– Чем моложе, тем лучше, – сказал Гайредин.
– Нет; я таких молодых не люблю, – сказала цыганка. – Те люди, у которых борода растет, больше знают.
Что за угрюмое и что за усталое лицо было у ней, когда она так льстила Гайредину.
– У старых больше денег, – сказал с усмешкой бей.
– Я не деньги люблю, а человека! – отвечала Пембе.
– Не деньги? – сказал бей; – а если я тебе новое платье сделаю, ты будешь рада… не лги!
– Сделай, – отвечала она, – это уж старо. Да еще мне курточку золотую нужно.
И все говорила она тихо, не спеша, и в глаза ему глядела, точно тоскуя или болея от усталости и пляски.
Недолго просидели они одни; Цукала прибежал как безумный, крича: «Ewiva! Да здравствует наш добрый бей!» и закрыл его вместе с Пембе полотняною покрышкой с дивана. Пембе хотела было оттолкнуть его, но бей тихо удержал ее и под полотном приблизил губы свои к ее губам. Пембе поцеловала его крепко, а потом сбросила полотно и сказала:
– Цукала, ты что? с ума сошел сегодня…
– Zito! да здравствует Пембе-ханум! – закричал археолог, поднимая бокал…
– Zito… Пембе! – кричал студент.
– Греми музыка в честь бея! – воскликнул хозяин.
Музыка заиграла, бокалы поднялись и чокнулись.
– Zito Пембе! – закричали все греки. Пембе благодарила всех, не смущаясь.
За ужином Пембе сидела с господами, а других музыкантов и старуху, тетку ее, которая играла на тамбурине, отправили вниз есть со слугами. Часовщику пришла мысль посадить Пембе за стол; доктор взял ее сам под руку и повел вперед. Пембе немного испугалась и, отталкивая его, озиралась и спрашивала:
– Не вар? Не вар?[13] Куда он меня ведет?..
Гайредин, смеясь, успокоил ее, и как только она поняла, что от нее ничего не требуют, а хотят лишь величать ее, тотчас же приняла опять свой задумчивый и суровый вид. Детская непринужденность ее обращения снова во все время ужина пленяла Гайредина. Хозяин посадил ее около бея; Джимопуло сам накладывал ей кушанья; советовал ей кушать руками, не стесняясь: «мы люди старые, не брезгаем этим, а молодые простят тебе это за твои чорные глаза», – говорил старик. Но Пембе ничего не ела; раз взяла пальцем немного мозга из головы барашка и чуть касалась губами вина, которое ей беспрестанно предлагали. Она все время глядела на Гайредина и улыбалась, когда он улыбался ей.
– Паша мой! – сказала она ему наконец тихо, под звук стаканов и шум разговора, – паша мой! а паша мой?
– Чего ты хочешь? – спросил Гайредин.
– Люблю тебя! – отвечала Пембе.
Гайредин покраснел и с радостью заметил, что никто не слыхал ее слов.
– Паша мой, – сказала Пембе, – я больна, кузум,[14] – паша мой.
– Чем же ты больна, дочь моя? – спросил Гайредин.
– Лихорадка давно у меня; оттого я так худа. Потрогай мои руки, паша мой, видишь, какие они нежные. Я прежде не была так худа. И после, если пройдет лихорадка, я стану опять красивая и толстая.
Слов Пембе не слыхал никто, но движение бея, когда он взял руку Пембе, не скрылось от других гостей.
– Наш бей идет вперед! – закричал хозяин дома. – Люблю бея, который умеет устраивать дела свои! Да здравствует бей! Zito! Да здравствуют албанцы, друзья наши!
Все греки закричали «Zito», и Гайредин благодарил греков и за себя, и за народ свой.
– Постойте, – сказал Цукала, встал, простер руку и начал так: – Албанцы, добрые соседи греков, издревле обожали свободу, подобно нам. Албанцы, по моему взгляду, не что иное, как древние пелазги. Эллины, устремившись с востока гораздо позднее…
– Довольно, – заметил Джипомуло, – избавьте нас теперь от археологии и политики. Здесь у нас другие заботы. Я вижу, что Пембе ничего не кушает. Выпьем лучше еще раз за здоровье Пембе и пожелаем ей долго жить, расти и выйти замуж за здорового молодца вот с такими плечами… Живи, моя бедная девушка! – прибавил старик и погладил Пембе по головке.
Все стали опять пить за здоровье цыганочки, которая очень почтительно и прилично благодарила всех, но сама от вина опять отказалась.
Цукала не хотел успокоиться; он был совсем пьян и предложил тост за православие, который всеми греками был принят с восторгом, кроме Джимопуло и одного из драгоманов (австрийского); они переглянулись; драгоман пожал плечами, а Джимопуло встал и хотел сказать что-то, но греческий драгоман, пламенный молодой корфиот, выпив свой бокал, произнес:
– Да здравствует православие! Пусть оно идет вперед, развивается на погибель всем врагам своим!.. (Он взглянул с дружескою насмешкой на своего австрийского товарища.)
Все еще раз выпили, вставши; и Гайредин, и Пембе тоже встали и приложили бокалы к губам.
Разгоряченный вином, криками и музыкой, которая в это время опять заиграла, корфиот хотел продолжать свою речь о православии (скрытый смысл ее понимал всякий), но Джимопуло возвысил голос и сказал твердо, внятно и внушительно:
– Мне кажется, мы больше окажем уважения и преданности святой религии, которую исповедуем, если не будем упоминать о ней на пирушке.
Все замолчали, и ужин кончился уже без новых политических намеков.
Во время ужина под столом Гайредин несколько раз клал в руку Пембе золотые монеты, так что к рассвету у нее собралось столько денег, сколько нужно бедной девушке в Турции на приданое.
Она шопотом благодарила его и клала деньги в карман своей курточки.
– Зачем же ты пляшешь так много, когда ты больна? – спросил он ее тихо, пока греки шумели и спорили.
– Хлеб нужен, милый паша мой; тетка меня бьет, когда я не пляшу… – отвечала она.
Уже рассветало, когда кончилась пирушка. Все гости, кроме Гайредина и старого Джимопуло, были так пьяны, что слуги развели их по домам; а хозяин уснул на диване, не простившись с гостями.
Джимопуло и Гайредин вышли вместе пешком. Слуги их шли вперед с погашенными фонарями; заря занималась уже над горою. В домах просыпались, и из старых гречанок многие уже вышли на пороги жилищ своих с пряжей и шитьем. Очаги начинали дымиться; в дальнем лагере слышался рожок, и одна молодая христианка, больная, бледная и грустная, вынесла на улицу своего ребенка и стала качать его в люльке.
Проходя мимо нее, Гайредин сказал старику Джимопуло:
– Как рано трудятся эти люди!
Бледная женщина подняла на них усталый взор и сказал с досадой:
– Что ж делать! мы не беи и не купцы, нам гулять некогда…
– Правду она говорит, – сказал Гайредин.
– Правду говорит, – сказал Джимопуло. – И хорошо делает бедный народ наш, что трудится. Ему нужны спокойствие, мирный труд, промышленность и школы, и большой грех берут на душу те люди, которые хотят увлечь греков несбыточными надеждами. Несчастные критяне! Несчастные будем и мы, если последуем их примеру или словам таких дураков, как этот корфиот…
– Да! – сказал Гайредин, – час он выбрал нехороший, чтобы пить за вашу веру.
Джимопуло проводил бея до дверей его дома и простился с ним. Уходя, он напомнил Гайредину, что спать им придется мало, потому что завтра будет меджлис…
– Будем проводить шоссе, – сказал он, улыбаясь.
– На бумаге? – прибавил, тоже улыбаясь, Гайредин.
– Наше дело бумага, – сказал Джимопуло. – Пусть другие разбивают скалы и месят грязь. Это дело самых больших людей и самых простых, а мы, ни самые большие, ни самые малые, должны заниматься бумагой…
Джимопуло так понравился Гайредину, что он просил его зайти, после отдыха, чтобы посоветоваться с ним о многом до заседания в меджлисе.
Спать Гайредин уже не мог; велел закрыть ставни и подать себе лампу, наргиле и кофе; заперся и, раздевшись, стал писать стихи.
Еще в Константинополе учил его персидской поэзии один старый турок, и еще тогда старик говорил ему: «читай, читай, мой сын, персидские стихи. Стихи великое дело! Стихи для души человеческой то же, что пение птицы в саду. Человек-стихотворец, мой сын, сам уподобляется саду, наполненному душистыми цветами».
V
Дня через два после пирушки доктора Пембе пришла к Гайредину вместе с теткой и с одним скрипачом. Набелилась, нарумянилась, насурмила немного брови, надела новое лиловое платье с большими ярками букетами. По улице она, как следует турчанке, открытая не ходила, а всегда в яшмаке[15] и чорном фередже.[16] Гайредин не узнал ее. Но только произнесла она «паша мой», как сердце бея уже забилось сильнее. Тетка сказала, что они пришли за обещанным платьем и золотою курточкой. Гайредин щедро одарил их, но просил не ходить в другой раз без зова, чтобы народ не заметил, и обещал через неделю пригласить их на пляску или к себе в дом, или на остров Янинского озера, где монастырь Св. Пантелеймона.[17]
Он не хотел сразу обнаружить много чувства. Его удерживали и стыд, и осторожность.
Всю эту неделю Гайредин прожил ожиданием. Один раз в течение этих дней проехал он с несколькими другими турками и с Джимопуло по тому бедному предместью, где жила Пембе в глиняной мазанке. На радость его, она стояла на своем пороге и поклонилась им. Старик Джимопуло поклонился ей вежливо, приложив руку к феске и спросил благодушно и шутливо о здоровье:
– Как твоя лихорадка, дочь моя? Молодой надо быть здоровою, – сказал он ей по-турецки.
Другие беи не обратили на это внимания, а Гайредин проехал вперед и чуть видно кивнул ей головой, даже не глядя на нее.
Под вечер он и все его спутники возвращались по той же дороге в город. Как только въехали в предместье, Гайредин пропустил всех беев и Джимопуло вперед, нарочно стал поправлять то узду, то стремя, и когда потерял их всех из виду за поворотом, пришпорил лихого коня своего и, гремя по скользким камням мостовой, понесся вскачь мимо бедной мазанки. Она уже ждала его у дверей.
– Добрый вечер, моя милая! – сказал он ей, не останавливаясь. – Прощай, до субботы!
– Добрый вечер, кузум-паша мой, – отвечала девушка, вышла за порог и провожала его долго глазами.
Увидев, что переулок пусть, он еще раз обернулся, и еще раз издали поклонился ей.
В субботу Пембе, по приглашению его, плясала на острове Янинского озера.
Гайредин хотел пригласить на остров всех тех греков, которые были на пирушке доктора, но Джимопуло отговорил его.
– Бей-эффенди мой! Немного будет нам добра от этих корфиотов… Пригласите лучше турецких чиновников. Это будет и вам, и мне полезнее. Теперь время смутное.
Гайредин послушался его. Пембе танцевала на острове с таким одушевлением и с такою выразительностью, какой еще не видал в ней никто. Она была уже не в прежнем старом платье, а в новом малиновом с восточными пестрыми разводами и в новой курточке, расшитой густо золотом и блестками; на бледной головке ее был газовый жолтый платочек с цареградскою бахромой удивительной работы.
– Хорошая девушка эта Пембе! Аферим, Пембе! Аферим,[18] дочь моя! – говорили турецкие чиновники.
Гайредин опять осыпал ее золотом. Дня через два после этого Пембе опять пришла к нему с теткой, благодарила его, поцеловала его руку и сказала, что после всех щедрот его у нее будет хорошее приданое и что на ней сбирается жениться тот музыкант, который играет на скрипке.
– Ты, паша мой, судьбу мою сделал, – говорила она и опять целовала его руку.
Гайредин только тут понял, как дорога она ему. Он начал уговаривать ее не выходить так рано замуж и обещал со временем или дать ей на приданое гораздо больше того, что она собрала, или даже взять ее к себе в гарем.
Старуха-тетка только этого и ждала.
– Не нужно нам денег, – сказала она, – она тебя любит, во сне тебя видит. Только и говорит: «не господин он мне, он мне отец!» Возьми ее к себе в гарем. Она все знает и жену твою почитать будет как старшую сестру… Возьми ее, паша!
На эту же ночь Пембе осталась ночевать у Гайредина.
С этих пор Пембе начала часто ходить к нему. Он стал оставлять ее у себя на целые дни. Настала осень, начались дожди, морозы и длинные вечера, затопились веселые камины. Гайредин не скучал с нежною баядеркой. С женою ему бывало много скучнее. Жена его была неразговорчива. Угощала его, кормила, подавала ему сама старательно чубук; хорошо смотрела за хозяйством; но не раз проходили целые дни в деревне, а он не слыхал от нее ничего кроме: «ба! как жарко!» либо «ба! как холодно!» А если случалось, что он ей говорил: «Сегодня жарко!» – она отвечала, важно покачивая головой: «Жарко. Лето теперь».
Не такова была Пембе. Смеяться сама она, правда, почти никогда не смеялась; изредка улыбнется Гайредину, когда захочет приласкаться, и скажет:
– Поцелуй же меня, бедную, паша мой…
Зато бей смеялся с ней много и над ней самой тешился, сердечно любуясь на ее ребячества.
Увидала она раз на улице сквозь решетчатое окно гарема разнощика сластей, что зовется шекерджи. Помучила она бедного старика!
«Шекерджи!» – звонко кричит она ему из окна. Старик ставит подставку наземь, смотрит, «где зовут», а Пембе уж из другого, дальнего окна другим голосом: «шекерджи!» Смотрит и туда разнощик. Никого нет, никто не выходит покупать. Постоял и пошел. Опять кричат: «шекерджи!» Пембе опять его зовет, опять прячется, пока, наконец, старик начал проклинать и браниться. Тогда она послала купить у него петушков сахарных. Зимой, сидя с Гайредином у очага, Пембе то рассказывала ему о себе и о родных своих и о том, что она успела видеть на детском веку своем, то забавляла его всякими расспросами.
– Паша, а, милый паша мой! – говорила она. – Правда это, милый паша мой, что которые турки свинину едят, так Бог их наказывает, и они по ночам свиньями становятся и бегают?
– Кто тебе это сказал? – спрашивал бей.
– Мне это Елена, другая танцовщица наша, христианка, говорила.
– Елена ничего не знает, кузум Пембе, она в школу не ходила. Как это может человек свиньей стать. Это детские слова, дитя мое!
– Смотри ты! – с удивлением воскликнула Пембе. – А я ведь думала, это правда. Елена сказывала, греки так все говорят… А я еще хочу тебе одно слово сказать, паша мой. Сказать?
– Говори.
– Греки все злые? Гайредин смеялся.
– Отчего все? Есть и у них добрые люди, во всякой вере есть люди добрые.
– А кто добрый? Кир-Костаки Джимопуло добрый? Я так думаю, что он добрый. Увидит меня, кланяется: «доброе утро, говорит, Пембе».
– Костаки добрый, и другие есть христиане добрые. У меня мать была христианка, она тоже была женщина добрая, сладкой души, тихая женщина!
– Ба, что ты говоришь! Твоя мать была христианка!
Гайредин рассказывал ей не раз, как мать спасла его отца, она сама просила сызнова все это повторить, и как только доходил Гайредин до того места, как его мать схватила под устцы лошадь сераскира, Пембе вскакивала и, хлопая руками, восклицала:
– Эй в'аллах! Простил султан! простил! Хороший был человек сераскир! Хорошая женщина была твоя мать! Эй в'аллах!
Видя ее радость, Гайредин с восторгом обнимал ее, и Пембе продолжала свои расспросы и замечания.