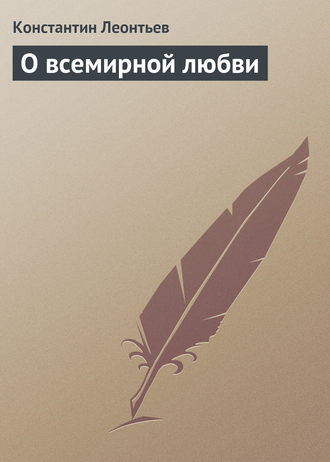
Константин Николаевич Леонтьев
О всемирной любви
Итак, говорю я, любовь может быть прежде всего двоякая: нравственная, или сострадательная, и эстетическая, или художественная. Нередко, я сказал, они действуют смешанно. В речи г. Достоевского, по поводу Пушкина, эти два чувства – совершенно разнородные и в жизненной практике чрезвычайно легко отделимые – вовсе не различены. А это очень важно. Лермонтов и другие кавказские офицеры, сражаясь против черкесов и убивая их, восхищались ими и даже нередко подражали им. Точно такое же отношение к горцам мы видим и у староверов казаков, описанных гр. Львом Толстым{11}. Этот же романист представил нам примеры подобных двойственных отношений русского дворянства к французам в эпоху наполеоновских войн{12}. Черкесы эстетически нравились русским, противникам своим. Русское дворянство времени Александра I восхищалось тогдашними французами, вредя им стратегически (а следовательно, и лично) на каждом шагу.
Речь г. Достоевского очень хороша в чтении, но тот, кто видал самого автора и кто слышал, как он говорит, тот легко поймет восторг, охвативший слушателей… Ясный, острый ум, вера, смелость речи… Против всего этого трудно устоять сердцу. Но возможно ли сводить целое культурное историческое призвание великого народа на одно доброе чувство к людям без особых, определенных, в одно и то же время вещественных и мистических, так сказать, предметов веры, вне и выше этого человечества стоящих, – вот вопрос?
Космополитизм православия имеет такой предмет в живой личности распятого Иисуса. Вера в божественность Распятого при Понтийском Пилате Назарянина, который учил, что на земле все неверно и все неважно, все недолговечно, а действительность и вековечность настанут после гибели земли и всего живущего на ней, – вот та осязательно-мистическая точка опоры, на которой вращался и вращается до сих пор исполинский рычаг христианской проповеди. Не полное и повсеместное торжество любви и всеобщей правды на этой земле обещают нам Христос и его апостолы, а, напротив того, нечто вроде кажущейся неудачи евангельской проповеди на земном шаре, ибо близость конца должна совпасть с последними попытками сделать всех хорошими христианами…
«Ибо, когда будут говорить: «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба… и не избегнут» (1-е поел. к Фессал. гл. 5, 3).
И еще: «Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас.
Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: «я Христос», и многих прельстят.
Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь: ибо надлежит всему тому быть; но это еще не конец.
Ибо восстанет народ на народ и царство на царство. и будут глады, моры и землетрясения по местам.
Все же это начало болезней» (Еванг. от Матф. гл. XXIV, 4, 5, 6, 7, 8).
«И, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь.
Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец.
Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную чрез пророка Даниила, стоящую на святом месте, – читающий да разумеет…» (Еванг. от Матф. гл. XXIV, 12, 13, 14, 15).
И так далее.
Даже г. Градовский догадался упомянуть в своем слабом возражении г. Достоевскому о пришествии антихриста и о том, что Христос пророчествовал не гармонию всеобщую (мир всеобщий), а всеобщее разрушение{13}. Я очень обрадовался этому замечанию нашего ученого либерала.
Хотя, видимо, г. Градовский писал это с улыбкой и хотел напоминанием о «светопреставлении» уязвить христианство; но это, как ему угодно, указание на эту существенную сторону христианского учения здесь очень кстати.
Итак, пророчество всеобщего примирения людей о Христе не есть православное пророчество, а какое-то общегуманитарное. Церковь этого мира не обещает, а кто «преслушает. Церковь, тебе, тот пусть будет как язычник и мытарь»{14} (то есть чужд тебе как вредный своим примером человек; конечно, до тех пор, пока он не исправится и не обратится).
Возвратимся к европейцам… Прежде, например, чем полюбить кого-либо из европейских либералов и радикалов, надо бояться Церкви.
Начало премудрости (то есть настоящей веры) есть страх, а любовь – только плод. Нельзя считать плод корнем, а корень плодом. Тут даже кстати можно продолжить с успехом именно это уподобление. Правда, плод или часть плода (семя) зарывается в землю так, что оно становится невидимым и перерождается в корень и другие части растения. В таком смысле я могу, например, полюбить даже и самого Гамбетту!..{15} Каким образом? Очень простым. Говорят, что один из самых пылких и, конечно, не робких жирондистов (кажется, Isnard{16}), спасаясь от гильотины, пробыл несколько дней в каменоломнях и от мучений страха стал христианином. Вот если бы Гамбетта, вследствие какого-нибудь подобного потрясения, захотел «облечься во Христа», пошел бы к священнику и сказал: «Отец мой, я понял, что республика – вздор, что свобода – изношенная пошлость, что нация наша, прежде действительно великая, теперь недостойна больше внимания, и сам себе я кажусь так глуп и так низок, что умираю от стыда и тоски, – научите меня… Обратите меня… Я знаю, что христианину необходимо усилие воли и скромность ума перед вашим учением… Я согласен принять все, даже и то, что мне противно и с чем отвратительная отупелость моего разума, воспитанного верой в прогресс, согласиться не может. Я в принципе решаюсь всякое сочувствие этому смешному, либеральному разуму считать заблуждением, ошибкой, tentation…[3]» и т. д.
Вот в таком случае я понимаю, что можно было бы полюбить Гамбетту всем сердцем и всею душой, «как самого себя», – полюбить его в одно и то же время и нравственно, и эстетически, – полюбить и с умственным восхищением, и с умилением сердечным… Теперь же, каюсь, я, считая себя не менее кого бы то ни было вправе называться русским человеком, при всей доброй воле моей, никак не могу ни умиляться, ни восхищаться, думая об этом энергическом воздухоплавателе… А он еще самый крупный и занимательный, кажется, из нынешних граждан самой европейской из наций Западной Европы.
Или возьмем пример ближе. Трудно себе представить, чтобы который-нибудь из наших умеренных либералов «озарился светом истины»… Но все-таки представим себе обратный процесс. Вообразить себе, что не страх довел которого-нибудь из них, как Isnard'a, до премудрости, а премудрость довела до страха рядом умозаключений ясных, но не в духе времени (с которым «живая» мысль принуждена считаться, но уважать который она вовсе не обязана). Трудно себе это представить, положим. Для того чтобы в наше время члену плачевной интеллигенции нашей стать тем, что зовется вообще «мистиком», – надо иной калибр ума, чем мы видим у подобных профессоров и фельетонистов. Но положим… положим, что либерал дошел премудростью человеческою до страха Божия… Ведь я сказал уже: сила Господня и в немощах наших нередко познается; русские либералы немощны, но Бог силен. Дошли они премудростью до страха и смирились – живут в томлении кроткого прозелитизма, писать вовсе перестали… Как бы они все были тогда привлекательны и милы!.. Сколько уважительного и теплого снисхождения возбуждали бы тогда эти скромные люди!..







