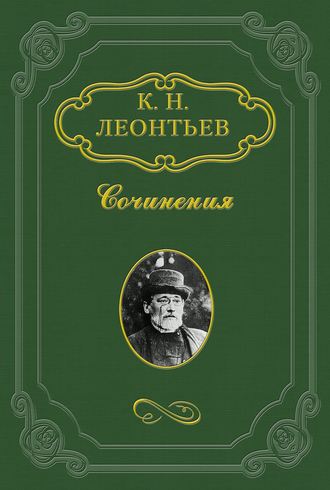
Константин Николаевич Леонтьев
Мои воспоминания о Фракии
IV
Золотарев уехал чрез три дня после моей» приезда. Он ехал в Россию через Балканы сухим путем на Белград (Сербию) вместе с английским вице-консулом г. Блонтом, тем самым Блонтом, который теперь, стал так известен у нас своею к нам враждой. Блонт ехал в Сербию управлять генеральным английским консульством в Белграде, на время отсутствия родственника своего г. Лонгворта (тоже одного из самых ожесточенных врагов России на Востоке). У англичан, насколько я слышал, консулы нередко сами предлагают себе заместителей на случай отъезда, и непотизм допускается у них охотнее, чем во всех остальных государствах. О г. Блонте мне придется говорить позднее еще много. О нем стоит говорить. В Адрианополе Блонт оставил будто бы управлять своего младшего брата Жоржа, юношу всего лет девятнадцати или двадцати, весьма ограниченного и необразованного, но довольно доброго малого, который отлично танцевал и ездил верхом. По странному сочетанию обстоятельств (я их объясню впоследствии), этот мосьё Жорж, управляя за брата британским консульством, был в то же время у нас вольнонаемным писцом за четыре турецкие лиры в месяц и даже поселился в одной комнатке в нижнем этаже нашего консульства по распоряжению г. Золотарева. Всю свою квартиру, мебель и утварь Золотарев уступил по обычаю мне как управляющему. Так делали почти всегда наши консулы на Востоке, когда уезжая надолго сдавали дела вместо себя управляющему.
Дождливым утром собрался народ пред нашим подъездом, верховые лошади, конные заптие и кавасы в красных одеждах, фургоны дорожные, известные во Фракии под названием брошов… Красивая белокурая мадам Блонт, несмотря на дурную погоду, села молодецки на свою вороную лошадку; муж ее, тоже лихой наездник, гарцевал суетясь около экипажей; но наш Золотарев ездил верхом нехорошо; сам он был очень красив и мужественен на вид, высок и величав, но ездить не умел, и супруги Блонты, которые жили тогда с ним душа в душу, в то время только что учили его верховой езде. Золотарев не хотел ехать верхом; он сел в повозку; верховую его лошадь повели в поводу, и караван тронулся весело в дальний и трудный путь.
Им было всем весело; а я остался один в незнакомом городе, с незнакомыми людьми, никому не доверяя, не имея еще понятия о текущих делах консульства, плохо зная по-гречески, по-болгарски почти ни слова и по-турецки слов тридцать, как я уже сказал. Уезжая, Золотарев оставил, однако, мне очень хорошую и ясную инструкцию на французском языке и послал с нее копию в Петербург и Константинополь. И на словах, и в самой инструкции официально он указал мне на драгомана консульства, адрианопольского уроженца, г. Э. С, которого знание дел и всей нашей местной политики после 1856 года внушало консулу полное доверие. Э.С. служил при трех консулах подряд, при людях весьма несхожих характеров и взглядов, и всем им внушал доверие. Золотарев разрешил мне официально пользоваться вначале смело и не колеблясь его советами.
Консул, сверх того, в течение этих трех дней, которые мы провели с ним вместе, представил меня толстому, красному Сулейман-паше, турку старого стиля, не из злых, а из лукаво-простодушных, и паша очень патриархально обещал Золотареву «любить меня как сына своего!» (Он был гораздо старше меня.) С западными консулами я также в эти три дня со всеми познакомился; не только с французским, английским и греческим, которые были действительные консулы, присланные, consuls envoyes, но мы объехали верхом и целую толпу почетных консулов (honoraires) Испании, Дании, Пруссии, Голландии, Бельгии и т. д. Все эти псевдоконсулы, не получавшие ни жалованья, ни повышения, а только изредка ордена, были из местных купцов-католиков, дети давних итальянских или французских переселенцев, нечто вроде цареградских перотов с провинциальным тяжелым оттенком. Все они были родня или почти родня между собою; все из двух родов: Бадетти и Вернацца, так что я сначала не мог их почти различать и не знал, что мне делать, кого как называть и кому что говорить…
– А теперь куда же мы еще едем? – спрашивал я Золотарева.
– Теперь к Фредерику Вернацца, – смеясь говорил Золотарев. – Погодите будет еще Антуан Вернацца, Франсуа Вернацца, Франсуа Бадетти.
Я терялся в этом лесу скучной, лукавой, тупой и враждебной нам западной буржуазии, которой надо было, если не любезности говорить, то, по крайней мере, оказывать какое-нибудь внешнее внимание… Те из греческих и болгарских влиятельных в городе лиц, которые были нашей партии и более или менее расположены к нам, пришли все сами в эти первые дни познакомиться со мною.
Когда Золотарев уехал, я остался пред целым архивом предыдущих бумаг и донесений, с которыми необходимо было познакомиться, чтобы хотя сколько-нибудь наглядно представить себе страну, ее интересы, положение и страсти, группировку партий, характер тех влиятельных лиц, с которыми мне придется иметь дело и с духом деятельности моих опытных и чрезвычайно способных предместников – Ступина, Шишкина и Золотарева. Я остался один, окруженный политическими врагами, знавшими страну и дела, которые захотят, вероятно, воспользоваться отсутствием влиятельного консула, уже успевшего приобрести значительный вес и в среде единоверцев, и в Порте, и в глазах своего русского начальства. Я остался с целою грудой неоконченных тяжебных дел русских подданных, которых, насколько помню, было здесь больше семидесяти; цифра эта вовсе не ничтожная, если взять, с одной стороны, в расчет, что все эти греки, болгары, евреи и армяне, снабженные русскими паспортами, люди торговые и оборотливые, все с расписками, что паспорта свои они всякими правдами и неправдами добыли в Кишиневе или Одессе; все охотники до тяжб и препирательств в судах, и почти всех их турки не признают в принципе русскими; а с другой стороны, если вспомнить, что консул на Востоке (консул всякой державы, а не только русской) в одно и то же время дипломат и нотариус, революционер и консерватор, смотря по нужде, по эпохе, интересам своей державы, по местности. Я же всю молодость мою провел с русскими помещиками, с военными в Крыму и отчасти с литераторами и учеными. Был военным врачом, жил отчасти помещичьего жизнью, отчасти военного, а потом в Петербурге. Все больше «нараспашку», по-русски, по-офицерски, по-студенчески; жил то старательным и точным доктором, то каким-то свободным поэтом… Но ничем, кроме больничных палат, не управлял и ни над кем, кроме крепостных слуг, фельдшеров и вестовых солдат, не начальствовал… Никого не судил юридически; стесняться в выражениях идей, вкусов и взглядов не привык; никаких нотариальных заметок в книги не заносил и книг таких не видывал; казенными деньгами никогда не распоряжался, а свои очень любил тратить; статистикой никакою не занимался; с иностранцами дел не вел… А здесь нужно было сейчас, сейчас, с завтрашнего дня, быть может, предстать во всеоружии: считать хотя бы и не очень большие казенные деньги, судить, управлять, бороться с иностранцами, остерегаться всех и всего, и при этом быть все-таки смелым и твердым; подданных судить и сноситься с Портой, с представителями западных держав, иногда защищать их с энергией, но и самих этих подданных, не всегда честных и покойных людей, держать в руках.
Консул на Востоке это в меньшем виде посол, и посол в Константинополе это в большем размере консул. Послы при европейских дворах имеют дело только с государем и министром. Послы при дворах восточных (особенно в Турции) имеют дело и со двором, и с населением, и к своим подданным отношения их гораздо проще в принципе и вместе с тем многосложнее в частности, чем в Европе. В Париже, Лондоне и Вене и т. д., русский посол не мешается прямо в дела судебные; русских подданных судят судами местными по законам страны; точно так же, как французские или австрийские подданные судимы в Москве русскою судебного властью по законам русским… В Турции было иначе, и судебную деятельность наших дипломатов и консулов в Турции можно было в то время разделить на три ветви: русский собственно суд в тех случаях, когда обе тяжущиеся стороны имеют русский паспорт; когда же случались ссоры, столкновения, какие-нибудь гражданские тяжбы или торговые препирательства между подданными русскими и подданными французскими, греческими, бельгийскими и т. д., то по договорам судило то консульство, которому подлежал не истец, а ответчик. Истец жалуется своему консулу на иностранного подданного; консул подписывает на прошении по-французски «читано» (vu) и препровождает в такое-то (чужое) консульство «pour fins, etc»… а консульство ответчика, получившее эту бумагу или само судило, или чаще назначало смешанную судебную комиссию из почетных и известных в городе лиц, которых тяжущиеся стороны имели, однако, право отвести. Так делалось большею частию в делах гражданских и коммерческих. Уголовные мелкие дела судили довольно патриархально и просто обыкновенно сами консулы. Подданные всех держав строго обязывались к безусловному повиновению. Крупные уголовные дела, особенно убийства, насилия и т. п., случались в Турции как-то редко между иностранными подданными, особенно между нашими. Может быть это потому, что большая часть этих русских подданных во Фракии были все скромные лавочники, мелкие торговцы, евреи-менялы и небольшие банкиры, учителя болгарские, греки хлебопеки и золотых дел мастера, каменщики и тому подобные мирные и осторожные люди и более или менее буржуазно-настроенные. Впрочем, в Адрианополе было двое севастопольских героев-охотников, оба греки, и один из них хлебопек (которого имя я забыл) был человек весьма энергический и с Георгиевским крестом за храбрость. Но и он жил, как многие герои, по возвращении к пенатам своим очень скромно. У греческих консулов, я понимаю, чаще случалось судить преступников; им были подведомственны: отважные островитяне, пылкие и страстные, жители Морей и Акарнании, стран, в которых молодечество выражается, между прочим, большою охотой к разбою и всяким приключениям…
На Дунае и у нас были уголовные дела серьезнее фракийских, но в Адрианополе, как я сказал, мелких дрязг судебных и полицейских было много.
Я отвлекся этим замечанием и не сказал о главном – о судебных отношениях к турецкой власти. Судебную власть Порты над иностранными подданными державы до последнего времени вообще не признавали. Отвержение это, с одной стороны, основывалось на том, что в Турции все дела уголовные и гражданские, по вопросам недвижимости и наследования и т, п. судились по шариату, по Корану муллой и кадием в белой чалме. С другой стороны, как объясняет один из европейских авторов (не помню кто именно), сама Порта находила более сообразным со своими обычаями допустить фактически для иностранцев некую фикцию «экстерриториальности», предположить, так сказать, что их тут и нет вовсе, что они не покидали вовсе своей страны и остаются вполне подведомственными своему начальству, чем в принципе дозволить иностранцам жить в Турции и считать их иностранцами. Мне это объяснение кажется темным и очень натянутым. Слабость Турции, издавна уже вынужденной обстоятельствами и географическим положением своим вести дела с европейцами, не позволяла ей отстаивать свои права на равенство с христианскими державами; вот причина и вот единственное объяснение этому факту. Коммерческий суд (тиджарет), устроенный отчасти по французскому образцу, хотя и вполне турецкий по внешним формам, державы признавали и в столице, и в провинции; туда ходили судиться и наши подданные в случае торговых тяжб с подданными турецкими (как христианами, так и мусульманами); но драгоман посольства и еще более драгоман консульства были всемогущи в тиджарете и редко случалось, чтобы турецкий подданный, даже и мусульманин, выигрывал бы тяжбу против иностранного подданного.







