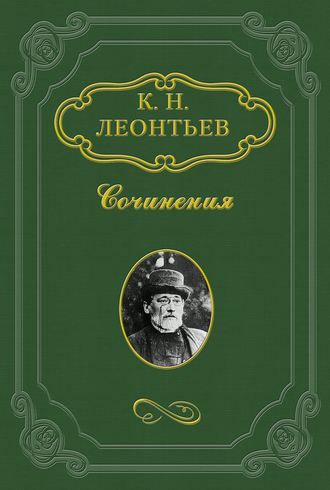
Константин Николаевич Леонтьев
Культурный идеал и племенная политика
То же лучше для опровержения этой ложной мысли, избитой уже достаточно другими и недостойной ума Владимира Сергеевича, как не ежедневное обращение неверующих людей к вере? Что может быть непосредственнее и даже стихийнее, как чувство богобоязненности, как желание молиться, просить чего-то у невидимого Высшего Существа. В своей, например, комнате и наедине – для кого притворяться? Нет ни простолюдина или детей, которым хочешь показать «все-таки полезный» пример; ни начальника, перед которым почему-нибудь выгодно показать себя хоть чтущим религию… Человек один с своей совестью и Богом; с Богом, в Которого он стихийно, но сознательно уверовал, Которого он и любит, и боится, Которому теперь он «со страхом служит и с трепетом радуется»!
Он не всегда веровал; он был долго неверующим или полуверующим; теперь, как говорят кощунственно-легкомысленные люди, «он дошел до просвир и лампадок». Он человек образованный, начитанный; он чисто наивным путем чувства не мог дойти до того, в чем растет ребенок и в чем неизменно живет неиспорченный простолюдин. Его стремление к вере было сознательным; он хотел уверовать; он сознательно искал таких встреч, таких книг, таких впечатлений и влияний, которые могли пробудить в нем остывшие мистические чувства; и найдя, он припал к этой вере с сознательной радостью. И такая сознательная вера – даже надежнее бессознательной. Наивную веру мужика, особенно не слишком старого, поколебать гораздо легче, чем поколебать сознательную веру хоть того же самого автора «Религиозных основ».
Да, сам г-н Соловьев, наверное, не забывал никогда (особенно при начале своего литературного и ученого поприща), что ему хочется внести в русскую жизнь что-то свое. И худое ли или хорошее вышло – это его свое, но он достиг цели, он внес его в русскую жизнь. Он всех нас заставил думать о том, о чем он первый у нас задумался.
Всякий психолог, тонко понимающий неизбежность некоторых тайных и личных душевных процессов наших, вероятно, согласится, что мое подозрение верно. Вл. Соловьев имел в себе с ранних лет залоги и для религиозности, и для самобытности мысли; он захотел сознательно их развить – и развил.
Точно то же может случиться и с целой нацией, если ее высшие представители, люди практической власти и люди умственного влияния искренно, страстно и сознательно захотят развить и утвердить в самих себе и в своей нации и религиозность, и житейскую, так сказать, самобытность. Народ рано или поздно пошел бы за ними и в том случае, если бы и в нем самом не было бы ни того ни другого; а в русском народе и то и другое еще и без них имеется.
Национальный идеал наш должен быть именно религиозно и житейски от Запада независимым.
Свобода ума от европеизма (новейшего, современного) и зависимость воли от веры – вот наш идеал. Таким был идеал Данилевского.
Данилевский мечтал о четырехосновной культуре; о типе полнейшем, чем все бывшие до сих пор в истории культурные типы. Религия своя есть, нужно хранить и утверждать ее; она и теперь не исключительность – племени или национальности, ибо и теперь она свойственна, кроме славян, еще и грекам, и румынам, и сирийским арабам, и грузинам. Но она именно при помощи сознательного, просвещенного к ней отношения может стать точно так же всемирной и распространенной, как и то папство будущего, которому г-н Соловьев так предан.
Государство свое сильное есть. Правда, нет до сих пор своей ясной и резкой государственности; нет целой и своей системы юридических и политических идей, воплощенных в законах и в самой жизни.
И даже (увы!) надо сознаться, что и та слабая степень государственного своеобразия, которой мы отличались в подробностях от других наций Европы, в XIX веке до реформ <18>60-х годов, стала после этих реформ еще много слабее. Реформы эти (за исключением наделения крестьян землей и некоторого охранения общины – и сохранения самодержавия) были совершенно европейскими в новейшем стиле.
Итак, следуя идеалу Данилевского, и с этой стороны надо желать и искать для великого государства нашего (а позднее и для православных союзников его) пути самобытной государственности. Кажется, что на это искание есть теперь кой-какие надежды.
Искусство и мысль (третья основа Данилевского). О ней я тоже умолчу здесь. Вы с этой стороны, кажется, даже ближе к Данилевскому, чем я, Вы ждете еще своей философии. Я же <…>
Экономическая сторона (четвертая основа). Об этом я пока тоже умолчу – совсем по другим причинам; по цензурным. На эту сторону у меня взгляд такой особенный, что я не могу об этом, не подготовившись, говорить.
Впрочем, и об этого рода самобытности в моих книгах говорилось кое-где, но без различных доказательств; в виде афористическом, по простому, но неискоренимому предчувствию.
Данилевский также в самобытное развитие наше на этом хозяйственном пути чрезвычайно твердо верил. А чувство таких мыслящих людей, как он, имеет и свое рациональное значение, как Вы, я думаю, сами готовы утверждать.
Я напомню Вам предположение Данилевского и мое собственное афористическое и бездоказательное пророчество.
Я хоть и вовсе не знаток ни в области сельского хозяйства, ни в области финансов, ни по вопросу торговли и промышленности, однако кой-что слыхал и видал и по этой части, и, нередко размышляя обо всем этом в общих чертах и в связи с политикой, постоянно наталкивался на ту мысль, что капитализм (т. е. господство подвижного капитала, денег, над капиталом наиболее недвижимым, над поземельной собственностью, с одной стороны, и над вольнонаемным трудом – с другой) подействовал в России в короткое время после своего недавнего воцарения (с <18>61 года) – гораздо вреднее (с экономической стороны), чем в свое время (чем целый век тому назад) на Западе. Это ведь не мое мнение, а взгляд многих людей более меня компетентных. Хозяйственное расстройство России, по мнению многих, так велико, что и самое блестящее финансовое управление одного даровитого министра может дать только благодетельный толчок дальнейшему делу, но не может искоренить основного зла, которое лежит в глубоком потрясении землевладения и земледелия.
Равноправность, либерализм и капитализм, видимо, теснейшим образом связаны между собою в жизни.
Все это вместе слишком усиливает подвижность социального строя (а против этой подвижности жизни и ее психического отражения и Вы восставали). Мне все кажется, что именно России суждено возвратить социальную жизнь к меньшей подвижности.
А эта меньшая подвижность возможна только при неравноправности и при различного рода прикрепощениях лиц к земле, к общинам, сословиям и другим учреждениям. (См., между прочим, «Грядущее рабство» Спенсера; эта книжка очень одностороння; она выражает лишь ужас либерала; но взять в расчет этот ужас не может.)
<Необходима> новая, сообразная с требованиями времени организация сословий и общин. А всякая организация есть по существу своему деспотизм и неравноправность. Помещичьи земли гибнут; владение ими слишком свободно; всякий может приобрести их и продавать. Заговорили основательно о неотчуждаемости дворянских земель. Крестьянские общины бедствуют; здесь нет <…> свободы отчуждения; но зато слишком много внутреннего равенства; понадобилось усилить дисциплину извне и также подумать о меньшей подвижности семейной и общинной жизни. Монастыри процветают не от жертв одних, это не надежно и не равно; они процветают хозяйственно потому, во-первых, что недвижимость их неотчуждаема; во-вторых, потому что внутри нет ни свободы, ни равенства (власть игумена; привилегии иеромонахов, иеродиаконов, мантийных и т. д.); в-третьих, потому что движущее ими начало не чисто хозяйственное, не рационалистическое, а супернатуральное, религиозное. Монастыри суть, таким образом, готовые образцы реального (т. е. возможного), но не рационалистического социализма. Не этот ли экономический идеал и предчувствовал для России Данилевский, когда говорил то-то и то-то.
Излишняя быстрота обмена и движения – психического, социально-экономического, политического (безграничное реформаторство, безграничная возня с новыми законами) – вот, мне кажется, механическая основа всему современному злу. (Я указываю здесь только на эту механическую сторону.)
Я имею об этом много еще сказать, но здесь не место распространяться об этом; я напомнил все это только, чтобы и с этой стороны доказать, что идеалу национальной культуры я не изменил ничуть и ничем.
Правда, мне случается, как бывало и прежде, возражать себе иногда скептически на все это.
Иногда я спрашиваю себя: а если и это все мечта? Если все мы, стремящиеся теоретически или иначе к этой самобытности, к этой национальной культуре, только мечтатели о несбыточном?..
И Хомяков, и братья Аксаковы, и Данилевский, и г-н Страхов, и Вы, и я.
Ибо бывают у наций и людей идеалы сбыточные, и бывают идеалы несбыточные.
Если наш идеал несбыточен? Если и революционные западники, и Вл. Соловьев, однако, правы, что с этой стороны надежды напрасны? Если разгадка всей этой пышной фантазии нашей очень пошлая: только политическая? Сперва на короткое время – конфедерация с восточными христианами (у которых вся интеллигенция сплошь пока еще европействующая, сочувствующая(?) и не сочувствующая(?) политически(?)); потом и Всеславянская конфедерация.
Простое политическое торжество, не торжество новой славяно-восточной какой-то культуры; и даже не специально-духовное преобладание Православия; а так – обыкновенная европейская пошлость – покрупнее других; новая европейская политическая единица; очень большая европейская держава, которой граждане так же либерально и рационалистически бесплодны, как французы скромного Карно, немцы ученого Вирхова или итальянцы какого-нибудь мерзавца, что ли… Но вся разница будет в том, что эти граждане говорят и пишут на языке славянском; но думают, говорят и пишут все то же, что думают, пишут и говорят европейцы на своих языках.
Ну – что делать…
В минуту таких колебаний мысли моя вера в русский культурный национальный идеал становится условной.
Я, все-таки веруя в самый идеал, в его достоинства, верую только меньше в Россию; в ее достоинства, в ее способность осуществить подобный идеал.
И говорю себе, как испанские гранды выражались в договорах своих с королями:
– А если нет – нет!
Если не пойдет Россия по пути Данилевского, то не избежать ей позднее пути Чернышевских и Желябовых… И счастье же будет великое, если она с такого пути обратится на третий – на путь Вл. Соловьева.
Ибо именно если нет третьего выбора, то лучше поцеловать туфлю папы, чем идти рука об руку с космополитизмом, либеральным и нигилистическим.
И когда я думаю так, то политика племенная, политика либеральных и безыдейных национальностей становится <…> очень страшной для моей дорогой Отчизны, для ее национальности, для ее культуры, не только идеальной и будущей, но и для той чуть-чуть самобытненькой, которой мы с непривычки теперь радуемся в нашей современной действительности.
– Неужели (думаю я тогда) мысли и мечты Киреевского, и Хомякова, и Данилевского и т. д. и современные реакционные попытки властей наших, и наши войны, и религиозное движение в современной России – все это было только необходимым средством для некоторого временного укрепления в России русского духа; для того чтобы этот подъем духа помог Русскому государству свершить чисто политические свои задачи на Востоке и Западе?.. А потом – все та же буржуазная всеобщая мерзость.
Это было бы истинно ужасно!
Вот как я нападаю и на национальность, и на национальный идеал, и на самое национальное начало наше. (Ибо Вы сказали, что я на все это разом нападаю!)
Это очень похоже на то, если (бы) Вы назвали нападением на Вашу личность, на Ваш личный идеал жизни и достоинства следующую речь искреннего друга:
– Послушайте, г-н Астафьев, Ваши личные особые черты… Вам характерные, отличающие Вас от других таких-то, таких-то знакомых наших, – мне очень дороги; эти черты я в Вас очень люблю; люблю, сверх того, и тот личный идеал, к которому, я знаю, Вы теперь стремитесь, стараясь усовершенствовать любимые мною черты Вашего характера и Вашего мышления. Но умоляю Вас, будьте осторожны в сближении с такими-то и такими-то соседями – и даже родными Вашими. Я понимаю, что это общение, к несчастью, необходимо для весьма существенных выгод Ваших; но, предупреждаю Вас, что если Вы будете мало-мальски невнимательны и к их духу, и к Вашему внутреннему состоянию, то все эти <… > особенности <… > сотрутся быстро, и Вы вспомните меня тогда, но будет поздно… Принудите себя понять, что я говорю Вам не блестящие парадоксы, а дело, и дело весьма практическое.
Сочли бы Вы эту речь нападением на Вашу личность, или на Ваш личный идеал, или даже на личное начало вообще?
Конечно нет! Вы бы сочли этот совет приятным за желание сохранить в чистоте Вашу личность, Ваше личное начало, Ваш личный идеал, Ваш eidos в настоящем и еще более в будущем.
Что же теперь случилось с Вами, что Вы меня не поняли?
Я Вам говорю, что известные специальные действия Ваши, известные специальные проявления Вашего личного начала (потому-то и потому-то) могут повредить Вашей личности, могут обесцветить ее, ослабить Ваш личный дух, могут Ваш личный идеал сделать решительно неосуществимым в ближайшем будущем; и, говоря это, привожу Вам десятки подходящих примеров из жизни других людей, – я порицаю лишь эти специальные проявления Вашей деятельности; Вы же видите в этом нападение наличное начало вообще…
Изумляюсь!..
V
Теперь – несколько слов о революции.
Посмотрим, как Вы понимаете это слово и как я. (До сих <пор> я думал, что мы с Вами и в этом согласны или хоть почти согласны.)
Прежде чем начать это письмо, я еще раз взглянул на Ваши строки; и, взглянувши, вспомнил поговорку: «Начал за здравие, а свел за упокой». Вы, наоборот, начали за мой упокой, а свели за мое здравие!
Последние строки Ваши следующие: «Что же все это может доказывать?! Конечно уж, не враждебность революции и консервативность начала космополитического…»
Превосходно! Я рад; мы опять почти согласны.
Взгляните на цитату – я не изменил ни одного Вашего выражения. Но исполнивши эту обязанность строго, я хочу теперь для большей ясности перефразировать Вас немного. Эта последняя мысль Ваша, сама по себе очень ясная, по моему мнению, несколько темновато выражена со стороны стилистической; но в связи со всем предыдущим она все-таки яснее, чем здесь у меня, в таком отрывочном виде. Мысль эта очень мне дорога для моих объяснений и возражений, и потому я ищу перефразировать ее поудобнее. Хочу, чтобы она, и отдельно от текста Вашего взятая, была вполне ясна.
«Космополитическое начало, конечно, не враждебно революции; оно вовсе не консервативно», – говорите Вы. Иными словами, космополитическое начало всеразрушительно.
Но ведь и я это самое хотел сказать. Стремление человечества ко всеобщей политической солидарности при всеобщем однообразии бытовом и умственном – это-то я зову (по-прудоновски) революцией; а никак не разные восстания, мятежи, цареубийства и другие насильственные беззакония народов и отдельных лиц. Самые мирные, закономерные и даже, несомненно, ко временному благу ведущие реформы могут служить космополитизму и всеуравнительной революции; и самый насильственный, кровавый и беззаконный с виду переворот может иметь значение государственное, национально-культурное, обособляющее, антиреволюционное (в моем и прудоновском смысле).
Вообразим себе ретроспективно ужасную для русского сердца и, слава Богу, теперь уже невозможную вещь. Вообразим себе на минуту, что в <18>81 году торжество нигилистов в России было бы полное. В России республика; члены дома Романовых частью погибли, частью в изгнании. Монастыри закрыты; школы «секуляризованы»; некоторые церкви приходские, так и быть, пока еще оставлены для глупых людей.
Чернышевский – президентом; Желябов, Шевич, Кропоткин – министрами; сотрудники наших либеральных газет и журналов – кто депутатами, кто товарищами министров. Правительство учреждено; оно продержалось даже 10 лет. Все реформы в высшей степени эгалитарные и космополитические. Но и недовольных очень много; недоволен и простой народ гонением на религию, хотя бы и осторожным. Если бы мы с Вами при таких порядках сумели бы поднять бунт, рискуя собственной жизнью, убили бы Чернышевского и министров, повесили бы с немного грешной радостью всех редакторов и депутатов, им преданных; открыли бы снова все монастыри и церкви и с торжеством возвратили бы на дедовский престол возлюбленный царский род наш, – конечно, это была бы тоже своего рода революция, в смысле кровавого и глубокого переворота, но, конечно, не в общем смысле служения космополитизму – или всеобщему претворению людей в «среднего и бесцветного европейца».
Прудон зовет этот эгалитарный прогресс революцией, и эта революция – это обращение людей в среднего европейца – его идеал… Я же принял его терминологию не по сочувствию этому идеалу, а по ненависти к нему. Прудон яснее всех, по-моему, указал на то, к чему именно идет человечество в XIX веке. Приятно и полезно знать имя своего врага и понимать ясно его характер и значение (см. «Византизм и славянство»).
Я позволяю себе даже думать (как Вам давно известно), что этот космополитизм губителен и для всего человечества, а не только для отдельных культур и наций (об этом последнем всякий и без нас знает).
И если бы, беседуя или споря со мной, космополит сказал бы мне: «Какое мне дело до ваших особых культур и наций. Я и единомышленники мои заботимся о всечеловечестве, а не об отдельных и оригинальных его группах, которых взаимная вражда и войны задерживают наступление эры всеобщего мира и солидарности, всеобщего благоденствия…»
Я отвечал бы на эти слова прежде всего тоже вопросом: «Вы желаете земного блага всему человечеству?»
– Да.
– Какое же может быть на земле благо человечеству, когда оно, достигши этого состояния высшего однообразия и смешения при наибольшей, неслыханной еще подвижности жизни, должно непременно гибнуть – вымирать постепенно или наложить на себя руки одним актом воли, как пророчит нам Эд. ф. Гартман.
Теперь, несмотря на все неудобства жизни, еще не лишенной разнообразия и не дошедшей в быстроте обмена до окончательного безумия, посягают на свою жизнь хотя и чаще прежнего, но все-таки немногие (либо от уныния и скуки, либо, гораздо реже, от пресыщения); тогда же, вероятно, настанут одновременно и всеобщее пресыщение дарами высшей цивилизации, и всеобщая тоска от невозможности выхода и возврата. Впрочем, думаю, что Гартман прав вообще относительно будущей скуки и гибели человечества; я не хочу утверждать, что он <…> форму гибели.
– Кто это докажет? Быть может, цивилизация изобретет такие утешения и такие ресурсы, которых мы и вообразить теперь не можем.
– Что она изобретет еще очень многое и неслыханное, это весьма вероятно. Но что наслаждаться устаревшее человечество этими изобретениями будет слабо, – это ясно уже из современных примеров; теперь все до того привыкли к железным дорогам и телеграфам, что, с одной стороны, <никто> отказаться от них не хочет, а с другой – ничуть не намерен считать себя более счастливым на свете, оттого что может скорее прежнего куда-нибудь доехать. Прежние страдания и отдельным человеком, и целым обществом легко забываются; новые же неудобства, во всем неизбежные, ощущаются глубоко и раздражают тем сильнее, чем более люди становятся нервны и впечатлительны от совокупности «цивилизующих» условий. Уже и в конце нашего XIX века заметен сильный упадок надежд, если сравнить наше время с концом XVIII столетия. В XVIII веке, оглядываясь назад, мечтали о небывалой идиллии золотой первобытности; устремляясь вперед, – ждали всех благ от царства безусловного разума. Теперь историю прошлого знают лучше и в разум будущего верят меньше. Тогда было страшнее, теперь скучнее. Тогда жизнь была гораздо разнообразнее нынешней по образам своим и много медленнее по движению и обмену, жизнь сама по себе тогда была поэтому глубже; и благодаря обильным запасам этой прежней глубины и этого прежнего богатства искусство и мысль в первой половине нашего века стали так неслыханно богаты и разнообразны. Усилившееся в конце XVIII и в начале XIX века обменное движение жизни еще не могло сразу посредством смешения превратить все цвета прежней жизни в один серый (буржуазно-прогрессивный). Это ускоренное движение придало только всему еще сохранившемуся больше психичности, так сказать, и усилило донельзя сознание европейского человечества. К половине нашего века движение это перешло за ту черту, за которой оно действительно одушевляло людей, усиливало сознание, не губя окончательно наивных начал и разновидность жизни; обменное движение это теперь все усиливается; разновидность же и бессознательность (на Западе, по крайней мере) гибнут все более и более… Все смешивается, все понижается, все, бледнея и бледнея, несется вперед в вихре, ужасающем ум. И самому неудержимо растущему самосознанию человеческому – этот вред и эта гибель мало-помалу становятся ясными. Один весьма умный и ученый знакомый мой, согласный со мной – относительно вреда подобного ускорения жизни в связи с упрощением ее образов, – выразился однажды так: «Этим путем можно дойти до того, что вся жизнь сделается похожей на жизнь в гостинице; один номер немного побольше, другой поменьше; один пониже, другой повыше; в одном обивка мебели коричневая, в другом синяя, в третьем красная; но фасон даже мебели везде одинаковый. И ни в одном из этих номеров больше двух-трех суток не позволяют обстоятельства прожить. Необходимо переходить из одного в другой. Беспрестанные перемены на фоне глубочайшего однообразия». Не правда ли, прекрасное уподобление? Будет невыразимо тяжело, когда все станет скучным и бесцветным. Жить не захотят.







