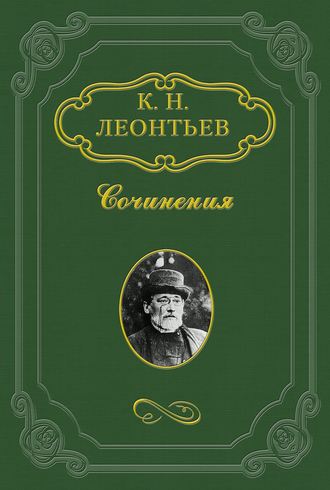
Константин Николаевич Леонтьев
Анализ, стиль и веяние. О романах гр. Л. Н. Толстого
Но вся точность эта, по-моему, испорчена заключительными словами, когда Анну уже потащило за спину колесо вагона: «И свеча, при которой она читала, исполненную тревог, обманов и зла, книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь, светом, осветила ей все то, что прежде было во мраке, затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла».
Что такое эти слова? – Эта свеча и т. д.? Красивое иносказание, и больше ничего! Ловкий оборот для прикрытия полного незнания и непонимания действительности в такую минуту. – Какая свеча? – Как это она и ярче вспыхнула, и затрещала? И в каком смысле навсегда потухла? – вникнув хоть немного в самое дело, снявши поэтичную оболочку красивых слов, – ничего и вообразить здесь нельзя…
«Обман» этих последних слов нельзя назвать даже и «возвышающим нас». Ведь в словах: «свеча навсегда потухла» заключается прямой намек на отрицание личного бессмертия. – Ибо не только человек, всем сердцем верующий в бессмертие души, но и тот, кто только допускает в уме возможность этого бессмертия, не может никак вообразить, что после смерти стало темнее, стало ничего не видно. – Напротив того, – независимо даже от безусловного подчинения нашего догматическим указаниям христианства, одним разумом такой человек, признающий бессмертие души, должен неизбежно дойти до предположения, что мы после смерти видим и понимаем все несравненно яснее и неизмеримо шире прежнего. Что-нибудь одно из двух: или нет бессмертия, и тогда, конечно, – все мрак и «нирвана», или есть бессмертие, и тогда душа освобождается от стесняющих ее уз земной плоти; другими словами – видит, слышит и понимает все лучше и яснее.
В какой мере видит яснее, в каких отношениях понимает лучше – мы не знаем; но во всяком случае предполагать, что душа видит хуже и понимает темнее после смерти – мы никак не можем. Такое предположение разума о более ясном посмертном понимании – ничуть не противоречит и учению церкви о загробных наградах и наказаниях, о вечном блаженстве и вечных муках, – ибо и блаженствовать в высшей степени нельзя без высшего самосознания, и мучение, чтобы достичь наисильнейшей степени, должно быть вполне сознательным. А если так, то какое же «возвышение духа» мы найдем в «обмане» тех лишних, хоть с виду и поэтических слов («свеча» и т. д.), которыми автор прикрыл ловко и красиво что-то… неверие ли свое или непоследовательность своей мысли… не знаю?
И без того «все так дурно» в жизни, не только по мнению Анны, доведенной своею страстью до отчаяния, но, видимо и по слишком уж строгому мнению автора… И вдруг и там – или нет вовсе ничего, или есть, но гораздо темнее.
Итак, в этих словах: «свечка», «мрак» – нет ни строгой точности, ни настоящей поэзии. Настоящую поэзию не сорвешь с явления, как одежду или маску: она есть сущность прекрасного явления.
Когда граф Толстой от своего лица нарисовал нам страшный сон князя Андрея, когда оно (смерть) ломилось в припертую дверь, – эту поэзию, и трогательную, и ужасную, насильно, так сказать, не оторвешь от самого дела. Это оно страшно и загадочно, как сама смерть, и фантастично, как сновидение. Здесь – и поэзия, и точность, и реальность, и возвышенность!..
«Свечка» Анны – это «мешок» и «свет» Ивана Ильича наяву; это что-то в роде неясной, не особенно счастливой аллегории… А «навсегда потухла» – это то же, что в смерти Проскухина – «ничего не видел, не слышал» и т. д.
Почем граф Толстой это знает? Он из мертвых не воскресал и с нами после воскресения своего не видался. Верить же ему, например, так, как верят люди папе или Вселенскому Собору, или духовному старцу – мы ведь ничуть ни разумом, ни сердцем не обязаны.
Вот еще, между прочим, почему я, говоря о смерти князя Андрея, сказал, что и в «Анне Карениной» ничего равного этим страницам нет.
В описании смерти Николая Левина много правды, но мало поэзии; в изображении последней минуты Анны нет твердой правды, и поэзия последних слов – поэзия обманная; это именно то, что зовется риторикой – красивая фраза без определенного и живого содержания.
В изображении смерти кн. Андрея есть все…
В главах вступительных моих я говорил, что вообще поэзии и грандиозности в «Войне и мире» гораздо больше, чем в «Карениной». Эта мысль моя приложима, как нельзя лучше, и к этому частному вопросу: как и где лучше изображена смерть в романах Толстого. Все изображения смертей и предсмертных минут в «Войне и мире» в своем роде превосходны и верны действительности вообще (с их внешней стороны особенно). Такова мгновенная смерть Пети Ростова в пылу боевого одушевления; такова и простая, православная, почтенная и кроткая, хотя и довольно обыкновенная кончина доброго старика графа Ростова. Очень хороша была бы и смерть старого князя Болконского, пораженного апоплексией оттого, что Бонапарт «осмелился» придти в Россию, – если бы не случилось тут автору погнаться еще раз за тем несносным звукоподражанием, от которого в «Карениной» он, слава Богу, совсем отказался. Например: «Го-го бои!» – говорит умирающий старик; это, извольте верить – значит «душа болит!» – И дочь догадывается!
Это «го-го», конечно, настолько же неуместно и претенциозно, как и намерение уверить нас, что после смерти все темно; но оно вдобавок еще и ужасно нескладно и без надобности какофонично. Но сама по себе апоплексия надменного патриота екатерининских времен от изумления и гнева, что французы какие-то осмелились вступить даже в Смоленскую губернию – это и верно и возвышенно.
Даже смерть от родов молодой жены кн. Андрея изображена у автора с особого рода высоким трагизмом, в жизни весьма нередким. Сама по себе эта молодая женщина не располагает к себе сердце читателя. Так как муж ее, напротив того, почти с первого появления своего, становится любимцем нашим, и сочувствие наше к нему все растет и растет – то княгиня Лиза возбуждает у нас некоторое нерасположение к себе уже тем одним, что она не понимает мужа и во всем как бы помеха ему; характер ее какой-то средний и ничтожный; она ниже всех других молодых женщин «Войны и мира». Лживая, порочная и грубая сердцем «Элен Безухова» – и та, по крайней мере, крупнее ее во всем. Она беспрестанно возмущает нравственное чувство читателя; княгиня Лиза даже и этого рода сильного впечатления не производит; мы только тяготимся ею из участия к ее даровитому мужу. И вот эта дюжинная, но красивая и вовсе не злая, а только пустая женщина гибнет неожиданно, исчезает мгновенно со сцены жизненной, произведя на свет ребенка от того самого мужа, которому она так надоела. Никто не винит, конечно, кн. Андрея; но всякий понимает, как ему было больно и даже совестно, когда он видел этот жалобно раскрытый ротик, который точно будто хотел сказать: «За что вы это со мной сделали?». И этот, тоже неожиданный приезд мужа с войны, – мужа, который сам был так долго при смерти от раны! Этот роковой зимний вечер в богатом княжеском имении!.. Да – это истинный трагизм! Это поэзия жизненной правды!
Не могу воздержаться еще, чтобы не напомнить здесь и об Анатоле Курагине. Его смерть не описана; мы только знаем, что он умер, вероятно, от последствий ампутации. Но мы вместе с Болконским видим этого глуповатого красавца и бесстыдного повесу рыдающим, как дитя, на ампутационном столе, после Бородина, где и он не хуже других бился за родину. И вместе с князем Андреем не только прощаем ему, но даже любим его, жалеем всем сердцем в эту великую минуту.
Да, смертей много в «Войне и мире», и все они изображены – и разнообразно, и превосходно. Этого рода возвышенного гораздо меньше в «Карениной».
Что касается до другого вопроса, до вопроса о большей, по-моему мнению, органической связности душевного анализа с развитием самого действия в «Анне Карениной», то об этом надо говорить еще раз особо, сверх того, что я сказал выше.
IX
Я кончил о психическом анализе болезненных и предсмертных состояний; теперь обращусь к описаниям сновидений, дремоты и полусна в здоровом состоянии и разных фантазирований наяву. В «Войне и Мире» есть несколько таких изображений, и все они хороши, хотя и в разной степени.
Примером последнего состояния (т.-е. фантазии наяву) может служить капитан Тушин на своей батарее у Шёнграбена, когда он, совсем забывая об опасности и увлеченный артиллерийскою стрельбой, воображает, что там, «где дымятся неприятельские выстрелы, кто-то невидимый курит трубку»… и т. д.; прозывает одну из своих пушек «Матвеевной» и восклицает мысленно: «Ну, Матвеевна, матушка, не выдавай!»
Или еще: – «Ишь задышала опять, задышала!» (про звук то замиравшей, то опять усиливавшейся ружейной перестрелки, представлявшейся ему чьим-то дыханием).
«Муравьями представлялись ему французы около своих орудий». «Красавец и пьяница, первый нумер второго орудия, в его мире был дядя».
«Сам он представлялся себе огромного роста, мощным мужчиной, который обеими руками швырял французам ядра».
Примером прекрасно изображенного, чистого, настоящего сновидения может служит сон Николеньки Болконского (в конце «Войны и Мира»):
«Николенька, только что проснувшись в холодном поту, с широко раскрытыми глазами, сидел на своей постели и смотрел перед собою. Страшный сон разбудил его. Он видел во сне себя и Пьера в касках, таких, которые были нарисованы в издании Плутарха. Они с дядей Пьером шли впереди огромного войска. Войско это было составлено из белых, косых линий, наполнявших воздух, подобно тем паутинам, которые летают осенью и которые Десаль (гувернер) называл le fil de là Vierge. Впереди была слава, такая же, как и эти нити, но только несколько плотнее. Они, – он и Пьер, – неслись легко и радостно все ближе и ближе к цели. Вдруг нити, которые двигали их, стали ослабевать, путаться; стало тяжело. И дядя Николай Ильич остановился перед ними в грозной и строгой позе.
«Это вы сделали? сказал он, указывая на поломанные сургучи и перья. Я любил вас, но Аракчеев велел мне, и я убью первого, кто двинется вперед!»
«Николенька оглянулся на Пьера, но Пьера уже не было. Пьер был отец – князь Андрей, и отец не имел образа и формы, но он был, и, видя его, Николенька почувствовал слабость любви: он почувствовал себя бессильным, бескостным и жидким. Отец ласкал и жалел его. Но дядя Николай Ильич все ближе и ближе надвигался на них. Ужас охватил Николеньку, и он проснулся».
Первоначальная дремота засыпания овладевает Петей Ростовым с вечера перед партизанским нападением на французов и перед его неожиданною для читателя смертью.
Полудремота утреннего пробуждения, когда человек еще видит и даже думает что-нибудь во сне, а между тем его будят другие люди, и слова этих людей путаются у него с его собственными думами – это странное состояние тела и духа очень правдиво представлено там, где Пьера Безухова, уснувшего после Бородина на постоялом дворе, будит его берейтор словами «запрягать надо». А он полуспит, полуслышит и, размышляя в неоконченном сновидении о своей теофилантропии, почти восклицает: «да, да, не соединять, а сопрягать надо!»
Эти все три примера чисто-физиологические; и капитан Тушин на батарее, и Петя, засыпающий на телеге, и гр. Безухий на постоялом дворе – все трое здоровы, не ранены, не больны и не умирают. По-моему, сон Николеньки это – самое лучшее изо всего этого. – «Войско – паутина, слава – тоже паутина, только потолще». – Дети, и особенно дети впечатлительные и образованные, не только во сне, и наяву и в полном здоровье, нередко бывают в таком состоянии полубреда и фантастического творчества, в которое взрослые впадают наяву только при исключительных условиях болезни, полупомешательства, поэтического (отчасти даже преднамеренного) возбуждения при сочинении стихов и т. п. – И у детей практический разум в эти минуты бездействует; ничто не сдерживает бессознательного творчества их духа; они тогда не стесняются, не стыдятся, и всякий из нас видел таких детей, которые сочиняют при играх своих удивительные вещи, – нередко донельзя остроумные и оригинальные.
Понятен поэтому и правдив сон нежного и уже довольно начитанного Николеньки Болконского. В нем рядом с необычайно творческою фантазией отразились ближайшие, вчерашние впечатления: поломанные сургучи, спор старших об Аракчееве; и вместе с тем от этого сна веет эпохой. – Плутарх, каски древние, военная слава… Классическое тогда не «зубрили» насильно в подлинниках для укрепления памяти и воли, но читали для своего удовольствия и для развития чувства и ума, хотя бы и во французских переводах. – От этих касок Плутарха так же, как от фантастических «сфинксов» в полубреде раненого кн. Андрея, – веет эпохой; в этом, хорошем смысле – все это реальнее этого несносного ультра-натуралистического, но не натурального «питити-ти-бум», на который я уже указывал. Сновидение Николеньки, сверх того, так же эфирно в своей поэзии, как и удивительный полубред его прекрасного отца.
Дремота Пети Ростова хороша, но ее портит это «ожиг-жиг-жиг!», на которое я уже горько жаловался. Ведь не похоже все-таки.
Пробуждение Пьера («запрягать» – «сопрягать») – это верно. Это во все времена и у всех людей возможно – полу-слышать, полу-нет чужие слова и отвечать на них спросонья, иногда даже нечто бессмысленное.
У Пьера случайно, вследствие предшествующих течений его сонных мыслей, вышло нечто умное; но, во 1-х, так ли правильно текут мысли во сне? – И так ли хорошо помнятся мысли сна, как помнятся отрывочные его образы? Здесь у меня невольное сомнение.
Остается капитан Тушин с его «дымками», «трубкой» и «Матвеевной».
Тушин, конечно, сын или бедных, или не очень бедных, но весьма не тонких тогдашних дворян; воспитания «сероватого»; однако – артиллерист «ученый», даже немного «вольтерьянец», и, судя и по внешнему виду, телосложения тонкого, впечатлительного; вероятно, он от природы не лишен воображения. – Он храбр и при этой храбрости, видимо, несколько мечтатель; а я уже говорил прежде, что воинственно настроенное воображение всегда утрояет природную храбрость. Игра воображения (игра, впрочем довольно простенькая: – трубка, Матвеевна) помогает ему не думать о смерти и доводит до полного, героического самозабвения. Все это возможно, и все это прекрасно уже потому, что рисует характер; а вот «сопрягать – запрягать» ничуть характера Пьера именно не рисует; оно изображает только довольно справедливо случайный физиологический факт. – Но ведь все случайное и все излишнее, к делу главному не относящееся, – вековые правила эстетики велят отбрасывать. – И я бы с удовольствием выбросил и это излишнее физиологическое наблюдение.
Все эти перечисленные внутренние процессы души изображены в «Войне и Мире» прекрасно; но я все настаиваю на том, что при разборе строгом мы найдем в этого рода описаниях «Войны и Мира» меньше той органической связи с будущим действующих лиц, – связи, которая, при внимательном чтении подобных же мест в «Анне Карениной», бросается в глаза.
И, сверх того, для меня остается вопросом: мог ли гр. Толстой вообразить внутренние процессы людей 12-го года так верно и точно, как он может представлять себе эти самые процессы у своих современников? Я спрашиваю: в том ли стиле люди 12-го года мечтали, фантазировали и даже бредили и здоровые, и больные, как у гр. Толстого? – Не знаю, право: так ли это? – Не слишком ли этот стиль во многих случаях похож на психический стиль самого гр. Толстого, нашего чуть не до уродливости индивидуального и гениального, т. е. исключительного современника?
Не знаю, прав ли я в моем инстинктивном сомнении. Но знаю одно, что и при первом чтении в 68 году я это не-веяние вообще 12-м годом почувствовал, и даже тогда почувствовал так сильно, что в первое время был очень недоволен «Войной и Миром» за многое, и, между прочим, за излишество психического анализа; «слишком уж наше это время и наш современный ум», – думал я тогда. – Читал я с увлечением, но, прочтя, усумнился и был долго недоволен. – Немного погодя я прочел статью Н. Н. Страхова в «Заре», образумился и благодарил его даже за нее при свидании; благодарил за то, что он исправил мой односторонний взгляд. Г. Страхов смотрел больше на великое содержание, я – на слишком современную форму: на всю совокупность тех мелочей и оттенков, которые составляют этот стиль, или это «веяние». – С тех пор (со времени доброго урока г. Страхова) я перечел «Войну и Мир» несколько раз, и могучий дух Толстого со всяким разом все больше и больше подчинял меня; но все-таки, его дух, а не дух эпохи. Я, как «упрямый Галилей», твержу про себя: прекрасно, но веет что-то не тем! – Могу здесь повторить слова Бюффона: – «Le style – c'est l'homme!» (сам Толстой). – Не могу сказать: «Le style c'est l'epoque! – A если вникнуть в обе эти мысли, то пожалуй, что моя переделка – «lе style – c'est l'epoque» будет точнее и яснее, чем изречение Бюффона.
Все это последнее рассуждение мое не претендует на решительность. – Я очень буду рад, если мне основательно докажут, что сомнения тут неуместны и что гр. Толстой мог воображать и изображать мечтания, фантазии и сны людей 12-го года так же легко и верно, как мечтания, фантазии и сны своих современников. Я люблю работу мысли; но мне кажется, что я еще больше люблю восхищаться, люблю адмирацию. Однако, я хочу оправдывать и разумом это мое восхищение. – Без помощи разумных оправданий оно слабее и потому доставляет меньше наслаждения.







