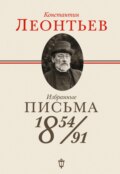Константин Николаевич Леонтьев
Одиссей Полихрониадес
IX.
Я скоро забыл… Не самую турчанку в таинственном кабинете молодого дипломата, не синее атласное фередже́ её, не волосы стриженые на висках, не позу у стола, не платье красное… Не это все, конечно, нет! Я забыл только первое печальное движение моего собственного сердца и стал снова ожидать Благова с нетерпением, начал снова скитаться около консульства, если не всегда телом (потому что уроки надо было учить и в школу ходить), то, по крайней мере, душой, как скитались около входа в Элизиум тени непогребенных людей, которых не пропускал неумолимый перевозчик через страшный Стикс.
За несколько дней всего до возвращения Благова я опять было стал терять надежду увидеть его скоро. Приехал из Арты и Превезы один купец и рассказывал с восторгом о том, с каким великим почетом принимал г. Благова тамошний каймакам. Целый взвод пеших аскеров, под командой офицера, встретил консула за городом, и он въезжал в город тихо на своем прекрасном рыжем коне, и воины, держа ружья по форме, в два ряда шли по обеим сторонам коня, а впереди шел офицер, командуя где нужно: «Аз-дур!» «Селям-дур!»[65]. Потом каймакам приехал сам к тому архонту, у которого Благов останавливался, и при греческих старшинах, при епископе, при всех сказал ему: «Воздух благоухания вашего дошел давно и и до нас издалека». Г. Благов надеется повесить колокол и, кажется, не хочет уезжать оттуда, пока не уверится, что каймакам в этом деле его не обманывает…
Так говорил купец; но не больше как дня через два г. Благов прискакал с одним только провожатым, на рассвете, в Янину.
Новое необычайное обстоятельство вызвало его в наш город внезапно.
Однажды, проснувшись утром, люди городские с изумлением услыхали новость: г. Бреше ударил в лицо г. Бакеева. Почти все греки, даже и не особенно расположенные к России, ощутили в себе как бы внезапный и сильный прилив какого-то не то, чтобы патриотического, а скорее обще-православного чувства и пришли в негодование… Многие спешили спросить: «Неужели голова папистана еще цела после этого?» Не говоря уже о чувстве мести и отвращения, которое питали к императорской Франции столь многие греки в то время, когда еще не возросли болгарские претензии до нарушения правил церкви и не раздражили эллинского чувства в народе против славян и России, не говоря уже об этом политическом чувстве, было еще чувство личной ненависти к самому Бреше, гордому и грубому со всеми без разбора.
Во всех движениях, во всех словах, во всех поступках этого злого и тщеславного человека дышало такое глубокое презрение ко всему нашему, местному восточному, без разбора турецкое оно или греческое, что иного чувства он населению и внушить не мог. Были даже люди, которые утверждали и клялись, что он берет большие взятки с богатых турецких подданных, чтобы под разными предлогами вмешиваться в их тяжбы и дела и выигрывать для них самые несправедливые процессы, благодаря бесстыдной смелости своей с турками.
Те немногие только люди, для которых он за большие деньги делал это, готовы были хвалить его, но не иначе, как лицемерно. С такими людьми он обращался еще хуже, чем с другими, и одного из архонтов, обязанного ему подобным образом, он своею рукой бил гиппопотамовым бичом, преследуя его с лестницы за то, что тот осмелился сказать ему с значительным ударением: «До сих пор я думал, что консульство Франции безусловно влиятельно в конаке паши!»
Что касается до г. Бакеева, то хотя его у нас не считали ни способным, ни энергическим человеком, но, по крайней мере, никто не видал от него особых оскорблений, а всегда почти видели желание помочь христианам.
Понятно, после этого, как все вознегодовали и почти ужаснулись, услыхав, что Бреше оскорбил управляющего русским консульством.
Однако очень скоро все мы узнали, что дело было не совсем так… Бреше не ударил г. Бакеева, он сказал ему только: «Я сейчас был у вас на квартире pour vous mettre la main sur la figure».
Что́ хотел сказать этим злой Бреше? Хотел ли он передать по-французски презрительное восточное наше движение руки, когда мы говорим сердясь: «на вот тебе!» и накладываем всю ладонь на глаза противнику? Или он придумал этот странный оборот, желая заменить им слишком уж грубое выражение «ударить вас»? не знаю…
Но так или иначе, Бакееву было нанесено этими словами глубокое оскорбление.
Вот как это было. Бакеев не умел жить по-своему, так жить, как жил г. Благов. Он не занимался живописью, не интересовался особенно нашими нравами, не любил утомляться ездой верхом по горам, не восхищался круговыми плясками наших паликаров и не смотрел на них по целым часам, как Благов с своего балкона. Бакеев не предпочитал общество глупенькой Зельхи́, безумного, подчас утомительного Коэвино и юродивого дервиша Сулеймана обществу консулов. Бакееву везде нужна была Европа, везде нужны были прекрасные мостовые; ему нужен был газ, француженки, театр (а Благов говорил архонтам: «Зачем мне театр искусственный? Здесь у вас живой!»). Конечно, при таком взгляде на вещи Благову было весело в Эпире, а Бакееву скучно. Бакеев давно уже от скуки очень часто посещал Бреше. Жена Бреше играла на фортепиано, которое для неё нарочно выписал муж из Корфу, и множество носильщиков за дорогую цену несли его через наши горы на плечах своих. Бакеев пел недурно, и они вместе с мадам Бреше занимались музыкой. Часто видали их вместе всех трех на улице и, несмотря на косые глаза мадам Бреше, её худобу и слишком большой нос, многие воображали, что Бакеев к ней питает эрос – счастливый или несчастный, этого люди не брались решить.
Г. Благов еще прежде не раз советовал Бакееву ходить туда как можно реже. Он находил, что у Бреше нет ни ума, ни познаний, ни вежливости, и сам он держал себя с ним очень сухо, очень осторожно и виделся с ним только по необходимости и редко. В городе давно у нас ходили слухи о том, будто между Россией и Францией после Парижского мира состоялся секретный договор, чтобы во всем на Востоке действовать заодно и согласно поддерживать друг друга. Шептали наши архонты даже, что наверное есть предписание обоим консулам быть во всем где можно заодно. Было ли это предписание или нет (я думаю тоже, что было), но г. Благов, несмотря на все свое личное отвращение к Бреше, нередко поддерживал его в Порте, и в делах у них столкновений никогда не было. Стараясь удовлетворить свирепого француза во всем, что́ прямо касалось службы, г. Благов являлся всегда один из первых, в мундире, поздравить его в день рождения императора и т. п., но в частной жизни он удалялся от него, насколько мог, не нарушая приличий. Никогда никто не видал их вместе на прогулке; никогда Бреше не играл в карты у Благова; обедал у него только с другими консулами, очень редко. Я узнал позднее, что Благов особенно стал осторожнее с Бреше и вместе с тем стал меньше давать воли собственной вспыльчивости и гордости с тех пор, как и ему случилось выслушать в доме Бреше две-три вещи, возмутившие его до невероятия.
Однажды говорили они о войне и военных подвигах, и Бреше сказал Благову:
– Ваш Суворов, например, был генерал дикий. Он делал разные гримасы, чтобы забавлять свою орду!
У Благова на первый раз достало столько выдержки, что он только отвечал:
– Это правда! Мы за это его очень любим!
На такой ответ г. Бреше не нашел уже новых возражений.
На другой раз было хуже. Мадам Бреше начала безразсудно порицать всех христиан Востока – греков, сербов и болгар. рассматривая один рисунок Благова, она сказала:
– Правда, эти одежды красивы только на бумаге, но в натуре эти люди так грязны и так низки!..
– Вы находите? – отвечал Благов спокойно, – Я не совсем согласен; я нахожу, что они гораздо опрятнее и во всех отношениях лучше европейских рабочих (он не сказал французских, но европейских), которых и я имел несчастье видеть, – прибавил он потом.
Мадам Бреше вспыхнула и воскликнула:
– Вы хотите сказать о парижских рабочих… О, эта бедная Франция! Она подобно прекрасной женщине в высшем свете, которой все завидуют, потому что она милее и умнее всех…
А Благов ничуть, по-видимому, не сердясь и улыбаясь ей, сказал:
– Франция много изменилась. Красавица в пятьдесят лет не то, что́ в двадцать пять… Не правда ли?
Тогда вмешался муж и грубо и прямо спросил:
– Вы разве грек, monsieur Благов?
А Благов ему:
– Не грек, но, конечно, если бы мне выбирать, то я скорей желал бы быть греком, чем парижанином.
– Я позволю себе сомневаться в этом! – сказала мадам Бреше. (Хорошо, что это сказала она, а не муж.)
При этом разговоре присутствовали Коэвино и драгоман Кака́чио. Они оба говорили, что он был веден тихо, даже с улыбкой; но, глядя на лица и слыша тон обоих консулов, становилось неприятно и страшно. Во взглядах их и в тоне дышало столько сдержанной вражды и усилий воли, чтобы победить в себе гнев и ненависть, что надо было изумляться, как они оба в этом случае хорошо владели своими страстями.
С тех пор-то, как я сказал, Благов особенно стал остерегаться всякой близости с Бреше и всяких разговоров с ним, выходящих за черту необходимости. Предчувствуя возможность такого оскорбления, которого он простить будет не в силах, честолюбивый молодой человек не хотел запутывать себе карьеры каким-нибудь ненужным затруднением, какою-нибудь громкою историей, которая могла кончиться быть может и в ущерб его службе (особенно, если эти слухи о тайном соглашении были справедливы). Он был вместе с тем уверен в своей энергии и не считал нужным раздражаться и возбуждать ее в себе без крайности. Этот человек был удивительно даровит и обилен тем, что́ зовут рессурсы, богат разными средствами жить и вести трудную борьбу жизни человеческой.
Он и Бакееву постоянно советовал делать то же и удаляться от Бреше. Но Бакеев не любил своего начальника и не слушался его; он, вероятно, из зависти к его способностям и быстрой карьере (Благову было всего двадцать шесть лет тогда), любил все делать вопреки ему и по-своему. Без Благова он во всем и беспрестанно советовался с Бреше, во все его вмешивал, был с ним слишком откровенен и слаб. Быть может, для хода дел оно было и недурно, в том смысле, что без Бреше, сам по себе, Бакеев и половины тех удовлетворений для консульства не находил бы у турок, которые он получал с помощью французского консула. Это так; и те люди у нас, которые прежде всего судят о политическом результате, хвалили Бакеева за это. Наш почтенный и простодушный Би́чо Бакыр-Алмаз, глядя на то, как ухаживал Бакеев за Бреше, говорил, стуча себя по обыкновению пальцем по виску (понимаем мы! все понимаем!..) «Да, эффенди мой! Россия – государство! государство, эффенди мой!.. Где львиного зуба нет, лисий хвост умеет себе привязать!..»
Бреше покровительствовал Бакееву, но уже давно был с ним не всегда вежлив и один раз позволил себе сказать сухо и грубо, когда тот обратился к нему вновь по какому-то делу: «Опять дела! У вас все дела!» Другой раз у них произошла было ссора по поводу простого разговора о танцах, на карточном вечере у самого Бреше в доме. Madame Бреше стала жаловаться, что в Янине совсем не бывает настоящих балов и никто по-европейски танцовать не умеет. На столе стоял ужин и между прочим ветчина. Г. Бакеев, желая, видно, показать при гостях, что он очень хорошо знает по-французски и что он с Бреше на равной ноге, спросил у него:
– Et vous monsieur Breché, gigotez-vous quelquefois?
Г-ну Бреше этот тон не понравился, и он отвечал ему, возвышая голос и с неприятным выражением в лице:
– Gigote-toi… Quant à moi je mangerai du gigot!
Бакеев смолчал.
Наконец предсказания Благова оправдались по поводу одного дела, в котором Бакееву, внутренно оскорбленному этим словом: «gigote-toi», захотелось действовать несколько враждебно против Бреше.
Был в Янине один эмпирик-доктор итальянец. Итальянского консула не было, и итальянцы все были под защитой Бреше. Этот итальянец женат был на гречанке; отец гречанки, уроженец острова Ита́ки, имел русский паспорт (так точно, как мой отец имел греческий). У итальянца с тестем были общие торговые дела. Они вместе, например, занимались контрабандой (кажется пиявок, но я наверное не помню), и Благов не раз увещевал своего подданного оставить это. Наконец они попались. Как ни дерзок был Бреше, но не мог же он с турками действовать одною лишь дерзостью; особенно, когда они были правы и когда паша писал ему бумаги крайне осторожные и основательные, избегая, сколько мог, всяких личных с ним объяснений. Ему однако хотелось во что́ бы то ни стало защитить своего итальянца. Паша уже написал две бумаги и просил ответа. Итальянец, испугавшись штрафа, пошел сам просить Бакеева, чтоб он взялся защитить его тестя.
– Я больше надеюсь на русское императорское консульство, illustrissimo signore! – сказал он, чуть не целуя руку Бакеева. – Паша так любит господина Благова, а господина Бреше он ненавидить. O! illustrissimo signore!.. Вся моя надежда на вас.
Бакееву это очень польстило; он призвал тестя, уговорил его, чтоб он принял на себя это дело, взял шляпу, трость, кавасса и пошел в Порту. Там он секретно и долго просил пашу оставить это дело, потому что замешан русский подданный, тесть итальянца; просил его именем Благова, который скоро приедет и будет этому рад.
Паша уступил ему довольно охотно: «в угоду господину Благову», сказал он. Бакеев вернулся с торжеством. Паша между тем сказал прямо драгоману французскому такими словами: «Передайте monsieur Бреше, что я не желаю ссориться с консулами и с моей стороны готов на всякую уступку. Дело вашего итальянца кончено, мы уже с господином Бакеевым говорили об этом… Я не требую штрафа, а прошу лишь, чтобы впредь не повторялась эта контрабанда».
Бреше, уже взбешенный тем, что итальянец осмелился обратиться к Бакееву, недовольный самим Бакеевым за глагол gigoter, объявил чрез своего драгомана, что он уступок не просил никаких, что Франция не нуждается в них, и что он еще не отвечал на две официальные бумаги. Вместе с тем тотчас же написал паше самый грубый ответ, в котором, не говоря даже о контрабанде, спрашивал у него: «Как он смел захватить собственность человека, вдвойне находящегося под защитою французского флага, как итальянца и как католика?» Самого же итальянца он изругал «бестией» и вытолкал в шею, потом пошел в Порту, дал пощечину часовому у ворот, за то, что тот поздно отдал ему честь ружьем, и самому паше сказал так:
– Вы слишком скоро забыли, что Франция за вас недавно в Крыму проливала свою благородную, священную кровь, которой все человечество должно дорожить!
– Это закон, – отвечал паша.
– Я предписания особого не имею от своего посла об этом именно предмете, а без предписаниия посла все ваши законы и новые распоряжения для меня не обязательны.
Прямо от паши Бреше поехал на дом к Бакееву, не застал его там, отыскал его в английском консульстве и в присутствии Корбет де-Леси, его драгомана и еще каких-то людей, сказал Бакееву, что он ходил к нему «наложить руку на его лицо».
Что́ было делать бедному Бакееву? Он обратился к Леси и сказал ему: – Вы были свидетелем этого! И ушел.
Долго все присутствующие в недоумении молчали. Посторонния лица поспешили уйти, а Бреше начал оправдывать себя пред английским консулом, обвиняя Бакеева в нестерпимых и мелких интригах.
Все это случилось как раз накануне Крещения. На Крещение, поутру, во время обедни весь город узнал, что Благов приехал. Уже за несколько дней перед этим выпал сильный снег и мороз был такой, какого давно уже в Эпире люди не помнили.
Несмотря на это, наша церковь св. Марины была полна народа еще до рассвета. Я был в шубке и пел на клиросе, когда вошел один из моих маленьких товарищей по школе, сын нашего кандильянафта, и шепнул около меня отцу своему; «Большой консул приехал из Арты сейчас…» и тотчас же взял в тон своим тоненьким детским голоском. Мы с отцом его продолжали петь переглянувшись, и потом кандильянафт с радостью сказал мне тихо: «Хорошо это!», и я сказал: «да! очень хорошо!»
Едва только мы это подумали и сказали, как вдруг (о, изумление и радость!) толпа наших Арнаутов и Куцо-Влахов заколыхалась, начала поспешно раздвигаться, и, предшествуемый двумя кавасами, в церковь вошел сам г. Благов!
Он был в большой и хорошей русской шубе, распахнутой на мундире; на груди у него виден был только что полученный им командорский знак св. Станислава 2-й степени (я и не знал, что он получил его); на левой руке, которою он держал форменную треугольную шляпу, была белая, свежая перчатка…
Он шел своею молодецкою твердою поступью, не спеша и ни на кого не глядя. Остановился посреди церкви; не торопясь помолился на иконостас и потом взошел на особую стасидию[66], обитую красным сукном, рядом с епископским престолом, на которую он всегда становился, когда бывал в нашей церкви: она была около самых наших певческих мест. Стал он, обратясь к иконам лицом, совсем рядом со мной и, перекрестившись еще раз, запахнулся старательно в свою прекрасную шубу какого-то нежного темного меха. Вокруг меня запахло опять тем тонким благоуханием, которым я так восхищался еще в Загорах, и голос мой ослабел, и я долго все был в каком-то неизъяснимо-приятном волнении… Как будто я ожидал чего-то… Чего? я сам не знал… Точно будто бы я ожидал, что как только отец Арсений закроет священный порог[67], г. Благов вдруг обратится ко всем нам и к народу и заговорит, как всегда, не совсем чистым греческим языком, с тем недостатком в произношении, который мы зовем пахистомо́[68], но смело, весело, твердо, не спеша и сверкая своими большими, серыми, истинно сарматскими очами, и скажет всем нам: «Православные христиане, возлюбленные единоверцы мои! Знаменитые эллины, потомки Леонидов, Калликратидов и Пелопидов! Я здесь! Православие, в лице сотрудника моего и друга г. Бакеева, не будет попрано иезуитскими и дерзостными агентами Запада… Я здесь, и вы меня видите… И побои достойного сына моего драгомана, который так сладкогласно поет во святом храме сем, побои эти также будут жестоко отомщены… Я сотру главу агарянам!..»
Но он не говорил ничего. Стоял неподвижно, изредка крестясь и даже не оглядываясь на меня, хотя мех его большего воротника спадал с плеч его так близко от моего лица, что мне казалось он сейчас коснется меня…
Утешив в сердце своем первое волнение, я громче, выразительнее и торжественнее обыкновенного прочел Апостол, рядом с ним и мимо его самого взойдя на ступеньку владычного престола; я пел потом так старательно и долго выводя голосом самые звонкия и долгия трели нашего восточного псалмопения… Но все напрасно. Благов не обращал на меня никакого внимания.
Наконец мне улыбнулось счастье на мгновенье. Господин Благов уронил перчатку. Я стремительно поднял ее и подавая сказал тихо: «Извольте, сиятельнейший господин консул!» Но он, почти не взглянув на меня, сказал очень сухо: «Эвхаристо». («Эвхагисто», так он произносил, и мне это ужасно нравилось.)
Когда обедня кончилась, народ остался неподвижным и не шел к антидору, ожидая, чтобы консул взял его первый. Господин Благов был задумчив и забылся на минуту. Народ смотрел на него и ждал. Отец Арсений тоже поглядел на него; тогда я решился напомнить: «Антидор, господин консул!» Он сказал: «а!», и подойдя к антидору, поцеловал руку отцу Арсению, а тот радостно приветствовал его: «Добро пожаловать… Мы вас ждали… Радуюсь… радуюсь!..»
После этого господин Благов тотчас ушел с кавассами. А я, едва только успел немного поесть у отца Арсения, побежал в консульство, чтоб узнать, что́ там будет.
Сам отец Арсений говорил мне: «Иди, иди! Посмотри, что́ он теперь сделает с французом»…
Уходя я еще спросил отца Арсения, не благословит ли он мне там позавтракать и даже пообедать вечером, если бы консул меня пригласил. На это отец Арсений ответил, сомневаясь:
– Имеешь мое благословенье, однако, я думаю так, на что́ бы ему, дипломату-человеку, тебя, безбрадого отрока, пиршествами угощать?
X.
В консульстве я узнал, что Благов лег отдыхать и велел всем отказывать до тех пор, пока не проснется. Получив письмо Бакеева, он оставил все, оставил дело о колоколе, бросил все свои вьюки и кавасса в Арте, поздним вечером, пользуясь лунною ночью, сел на коня и с одним только турецким жандармом проскакал двенадцатичасовое расстояние в семь часов, несмотря на стремнины, скользкие камни, не взирая на мороз и снег, под которым местами была скрыта глубокая грязь.
Турецкий жандарм, не то с негодованием, сожалея о своей лошади, не то с изумлением и уважением потрясал на груди своей одежду, и говорил: «Консул! Ну, консул! Что́ за вещь такая? Всю ночь!..»
Однако, когда архистратиг Маноли вручил ему, по поручению консула, три золотых, выражение лица у турка вдруг переменилось, он приложил руку к сердцу и феске и поспешно ушел.
Благов приехал прямо на квартиру Бакеева, разбудил его, велел растопить себе печь, сделать чай и основательно тотчас же расспросил его обо всем. Он рассудил, что это дело не частное, не личное. Оскорбление было нанесено по поводу служебного казенного дела, по делу самого консульства и русского подданного; оно было нанесено не просто секретарю, а управляющему консульством, лицу, представляющему собою в то время, хотя бы и в глухой провинции, вес русской державы, честь императорского флага, силу православия на Востоке. Оно было, наконец, нанесено видимо с намерением иметь свидетелей оскорблению в английском консульстве, в присутствии самого Корбет де-Леси.
На основании всего этого, Благов брал это трудное дело на себя, на свою ответственность и обещался добиться официального и блистательного удовлетворения во что́ бы то ни стало.
Слуга Бакеева, подавая чай консулу и растапливая печку, старался понять сколько мог, что́ они говорят; но он не знал по-русски и кроме имени Бреше ничего не понял. Однако он заметил, что г. Благов был как будто очень весел и что его эффенди, Бакеев, который целый день никого не хотел видеть и был как будто полумертвый от огорчения, тоже повеселел при консуле, и все жал ему руку, и говорил: «Merci, merci!» А потом они обнялись, поцеловались, и консул ушел к себе.
После этого, несмотря на ту всеночную скачку, которой ужаснулся даже и привычный турецкий наездник, Благов вспомнил, что в этот день большой православный праздник (он слышал, вероятно, и от сокрушенного Бакеева, что весь город его ждет), оделся в мундир и пришел еще на рассвете в нашу церковь. И он прекрасно поступил; я не могу передать тебе, как это понравилось нашему народу. «Вот каких нам нужно! Пусть живет, молодец!» говорили все.
Пока мой молодой герой и царский слуга отдыхал у себя наверху, после двух этих подвигов, под резным потолком и под шелковым одеялом, я сидел внизу у кавассов и ждал.
Было холодно; но мы все собрались у большего мангала и беседовали весело, но вполголоса, боясь даже и мысли одной, потревожить как-нибудь нечаянно консула. Нас было много. Старик Ставри и Маноли, Кольйо, камердинер консула, повар и садовник, еще один бедный мальчик, Але́ко, лет двенадцати, у которого отца не было, а мать жила посреди озера, на том самом острове, где был убит Ади-паша и где мы месяца три тому назад пировали с отцом моим, с Бакеевым и Коэвино. Его Благов взял без всякого дела к себе в дом, чтоб ему легче было каждый день ходить учиться в город, чтобы не платить матери каждый день за лодку и мальчику в училище не опаздывать. Скоро присоединились к нашему обществу поп Ко́ста и сам Бостанджи-Оглу, который соскучился один в канцелярии. Он всегда делал так: то ссорился с кавасами, то требовал от них почета и покорности, как будто он был первый драгоман или настоящий секретарь на службе, то мирился опять с ними и приходил к ним рассуждать и смеяться.
И если бы ты посмотрел тогда на всех нас, что́ была за картина около этой большой жаровни. Все мы разного возраста и сами разные и в разных одеждах. Поп Ко́ста в клобуке и теплой рясе на лисьем меху; уж седой, но живой, худощавый и молодой движениями и речами, с очами точно такими же серыми, сарматскими[69], и сверкающими, как у Благова; поп Ко́ста, патриот и разбойник, спаситель, а может быть и предатель при случае, лукавый и бесстрашный, алчный и готовый на жертву, умный и почти безграмотный. Бостанджи-Оглу, Москов-Яуды, которого ты уже давно знаешь, в новенькой серого цвета жакетке, весь продрогший от холода. Кир-Маноли, огромный, усатый, сухой, вне себя от радости, что Благов вернулся и что будут теперь разные великия дела, для праздника в лучшей одежде своей – в куртке темно-малинового бархата, обшитой особыми придворными русскими галунами, золотыми с черными двуглавыми орлами (и этим утешил его все тот же Благов – выписал ему из Петербурга). Кир-Ставри, задумчивый, исхудалый, такой же бесстрашный и решительный, как поп Ко́ста, но серьезный, тихий и молчаливый, вспоминающий быть может в эту минуту, как он в двадцатых годах своими, еще юношескими тогда руками застрелил из-за угла сельской хижины одного могучего и страшного бея, едва только тот впереди отряда своего выезжал, гарцуя на лихом коне, из узкого ущелья в село христианское, чтобы сжечь его и перерезать жителей.
И он был очень наряден в этот день, весь в серебре, хотя и без придворных галунов на куртке. Повар кривой, ленивый и лжец, которого однако г. Благов за что-то очень любил, – был в русской суконной одежде, которую зовут поддевка и которую с своих плеч отдал ему еще прежде сам консул, – в белом колпачке и в синих турецких шальварах. Молодой румяный Кольйо, камердинер г. Благова, простодушный, честный, немного безтолковый; без галунов, без серебра, но в албанской одежде, в чистой, белой всегда, как новый снег на горах, фустанелле и в новой яркой феске с вышитым золотом русским орлом; все озабоченный, взволнованный… не проснулся ли консул и не забыл ли он сам чего-нибудь, что́ очень нужно. Руки его всегда так же были чисты, как у самого консула, он чистил ногти щеточкой и беспрестанно на них глядел, потому что г. Благов раз только сказал ему: «Кольйо! Если большой палец твой, когда ты подаешь мне что-нибудь, не будет мне нравиться, я тебя отпущу…» И внизу смеялись над ним и говорили ему вдруг: «Кольйо! Кольйо! Смотри… палец твой… палец». И он тотчас же глядел на руки и восклицал, хватая себя за голову по-турецки, так серьезно и забавно: «бела́с!» (беда моя). Я был, как ты знаешь, все в турецком халатике; только в этот день сверху на мне была хорошая джюбе[70], на хорошем рысьем меху, с пятнышками, не дешевая. Лучше же всех нас был старый садовник, которому в консульстве, особенно зимой, почти делать было нечего и которого держал Благов без всякой нужды. Он был так же, как и повар, в широких, но в очень старых, светло-голубых шальварах, в высокой-превысокой феске, которая давно всякий цвет потеряла от сала и грязи, и в красной суконной куртке, перешитой из кусков старых мундиров, которые ему по доброте подарили еще года три до этого в Корфу английские солдаты, потому что воры в Элладе у него все платье отняли и он был тогда в одной только рубашке. Этот садовник уже не молодой, ростом маленький, кривобокий, безобразный и очень смирный и добрый, по имени господин Христо, был большой рассказчик и видел очень много разных вещей и в разных странах; он уже второй год копил все деньги себе, будто бы на новое платье, и продолжал носить английский мундир и по будням, и по праздникам; а когда Благов у него спрашивал: «Не собрал еще денег ты, Христо, на новое платье?» он отвечал: «Не собрал, эффенди, нет, не собрал». – «Собирай, собирай», говорил консул и давал ему еще что-нибудь. Но видно ему нравилась оригнальная его одежда, и он не приказывал ему менять ее.
Все мы сидели вокруг жаровни и грелись, и все думали о деле Бреше и Бакеева, и все говорили о нем.
Поп Ко́ста вздохнул с сожалением и сказал:
– Зарезать! зарезать бы мало было на месте его… Жаль, что у Бакеева мало мужества, а то бы… раз… два…
И он показал рукой.
Не все разделяли его взгляды. Маноли на это возразил первый.
– Господин Бакеев – человек словесный, филологический человек, который в университете учился. А господин Благов военным был. Он прежде служил в царской гвардии кавалеристом. И вышел в отставку лишь по следующему особенному случаю. Они шли целым полком на смотр государю, через улицу хотела пробежать одна женщина и упала; на руках у неё был ребенок маленький. Г. Благов скомандовал своим солдатам: «стой!» и весь полк остановил. Когда тысяченачальник спросил у него грозно: «Зачем произошло это препятствие, и как он мог противу приказа высшего начальства остановиться, когда сам начальник скомандовал: «марш!» то г. Благов сказал: «Меня остановило человеколюбие, вот так-то и так-то». А тысяченачальник ему на это: «Покорность и иерархия прежде всего… Должны были итти». Г. Благов рассердился на него и перешел в политику.
Тогда вмешался Бостанджи-Оглу и возразил Маноли:
– На что́ ты это сказал, Маноли? Все это правда. Но что́ же ты думаешь, что господин Благов теперь палкой как хамал[71] начнет за оскорбление драться с французским консулом?
Маноли обиделся и поспешил отвечать:
– Чего ты? Я этого совсем не говорил. Но господин Благов владеет оружием и может на свиду[72] выйти с г. Бреше. За город уйдут и обнажат мечи. Ты сам всего боишься, несчастный, и думаешь так; а я тебе вот что́ скажу: один эллин одного баварца в Афинах вызвал и запел арнаутскую песню, и запел, и пел он песню, и пока тот сбирался махать своею саблей, а наш вытянул ятаган, раз его и пополам. Вот что́… Чувствуешь ли ты или не чувствуешь?
Тогда престарелый кир-Ставри вышел из своей задумчивости и промолвил с улыбкой:
– Да! и я слышал также, что он так чисто полосонул его, что баварец еще долго стоял не шевелясь и все понять не мог, что его разрезали пополам.
Мы все было разразились громким смехом, но Кольйо вскочил и зашептал с отчаянием: «бела́с»; мы вспомнили о г. Благове и смеялись тихо.
Добрый кир-Маноли не обиделся, а смеялся тоже, говоря:
– Э! Пусть будет и так… А все-таки на свиду самое лучшее дело.
В эту минуту беседу нашу прервали человек до двадцати архонтов: купцы, доктора и учителя, которые пришли поздравлять г. Благова с приездом, а может быть и выразить свое сожаление о неприятностях, случившихся без него.
Тут был и красивый Куско-бей, и скромный Арванитаки в очках, и важный Би́чо Бакыр-Алмаз, и полный Ставро-Мустаки, и Вро́ссо, и Ме́ссо, Исаакидес и, к удивлению моему и радости, сам Несторидес мой, который тоже накануне приехал совсем на житье в Янину из Загор, и многие другие.
Маноли одним прыжком вылетел в сени и приветливо объявил, что консул будет очень жалеть, но что он утомился путем и раннею обедней и отдыхает, и просил их завтра утром зайти позднее, чтобы наверное застать его дома и свободным.