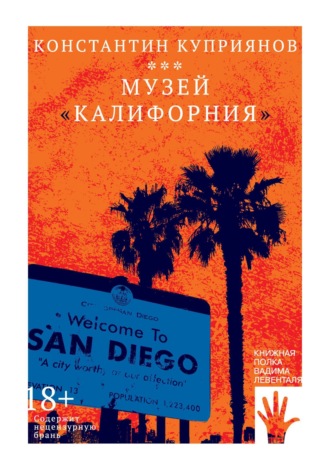
Константин Куприянов
Музей «Калифорния»
Рядом в этом полустанке, куда случайно завела нас история, другие слепые старательные шахтеры в своем ритме, на своем наркотике раскапывают тоннель. Конец мира придет, если однажды мы прокопаем всю землю и останемся в огромной, как гномье царство, зале (ненавижу, вслед за мамой, крестьянское «зала») из речи, из историй, и мы укрепим своды раскопанной почвой, потеряем путь наружу, а потом и память о том, что было что-то вне нашего подземелья. Как настоящие гномы, зайдем так далеко, в кропотливую работу над полостью в сердце горы, чахнуть станем над золотом, усыпляя понемногу в себе силу. Следующие люди станут раскапывать эту гору (для них – тривиальную гору книг, папирусов и скрижалей), извлекать на поверхность кубышки с подземным воздухом, крутить на свету и цокать языками: «О, а это неплохая история», расставлять на полках по градации от «великого» до «бессмыслицы» творения предков‐дикарей, от бриллианта до черной, ничего не стоящей истлевшей породы, расставят немногих найденных, а некоторых даже изобразят – тех, кто в янтаре запечатлелся. Так кончится добровольное заточение зарывших себя в железное царство.
Железная гора есть и в полустанке, вобравшем нас с Попутчицей на последнюю нашу ночь. Прорыты шахты и тоннели рабочим людом и роботом-разведчиком. Понемногу, пока движется разведка, человеческий труд и здесь дешевеет настолько, что выгоднее использовать человека для потребления соцсети, чем для утомительной геологической работы – справится машина. Я очень неумел в этом деле, хотя вообще-то и чувствую многое, чувствую ее тело, она врастает спиной в мою грудь и живот, и мне надо только держать подольше и быть с ней, и держать ее за тонкие испачканные пальцы, и она тоже держит меня, и постепенно даже самая ленивая страсть врастает в обобщающий космос, из которого вышло все с первым взрывом и куда вернется после многих огненных спиралей расширения. Ты не нуждаешься ни в объяснении дыхания, ни в страсти, ни в покое, потому что дышишь перманентно. Нельзя объяснить мысль, потому что та снует без передышки, и тяжелым трудом бывает узнать, что ты – вовсе не мечущаяся в черепушке обезьянка. Гномы-писатели едят землю, запихивают ее в себя, чтобы превратить малоценную почву в драгоценный камень, чтобы появился просвет, затем тоннель, затем зала, затем царство и, наконец, бездна – забвение.
Железная гора – это единственная возвышенность тут на десятки горизонтов вокруг. Мы попали в ее тень, съехав с восьмой трассы на полпути, истощенные знойным днем и однообразием разговора. Свернули, чтобы помолчать на противоположных краях двух унылых мотельных постелей. За горой – очередное море пустоты, где камни, никогда не встречавшие прикосновения человека, но однажды и пустоте приходит конец, и за долиной встретит нас город Феникс. Я везу Попутчицу, чтобы она встретилась со своим L. Они встретятся на жалких полтора часа – зачем я вез ее столько дней и столько слов пролил между объятиями?.. Уже с утра меня скрючивает приступом ревности. Казалось, еще утро назад мы извивались, как две змеи, в любви, в единстве, а теперь она отбрасывает меня ненужной чешуей и уходит, словно я не знал, что всегда был средством транспортировки в объятия любимого, который причинит ей настоящую боль – не то что я. Мне она не нужна, свой удел я знаю, однако спазм жадности силен, я слуга желаний, я желаю полностью обладать, превращать ее, чтобы служить ей, чтобы потом проклясть ее и сбежать от нее обратно в прохладу побережья.
Прямая дорога по Аризоне стелется до горизонта, подрагивает синевой жар, скопившийся под негостеприимным космосом, мы летим точнехонько на восток: прямо против хода моей БМВ поднимается солнце, диск его колеблется и волнуется, словно это Юпитер в кольцах, и он непропорционально огромен, словно мы в кино. Я вскакиваю. Ее потное маленькое тело на другой половине единственной мотельной постели. Вдруг это тоже сон во сне? Я принимаю душ и дрочу, чтобы не лезть к ней больше. Выходя, я сталкиваюсь с ней, она ударяет по моей груди ладошкой – это что, так с мужчинами здороваются их женщины, когда мы становимся мужчинами?.. Что-то, кажется, бормочет под нос, но я не слышу, не открывает глаза, хотя лампы мотельного верхнего освещения горят ярко. Я не открываю жалюзи, там за пределами комнаты подлинная американская пустошь. На много сотен миль стелется земля, не годящаяся, кроме двух месяцев прохладной весны, для жизни, и мы все живем здесь, вне овеянных живой океанской прохладой побережий, – уже искривление, эдакий своеобразный post-modern art. Postmortem art.
«Последняя декада эпохи Возмездия, – говорит экскурсовод в очках в тонкой эластичной оправе, девушка на шпильках, девушка с одним глазом, девушка две тысячи двухсотого года от Рождества Христова, девушка-смотрительница спроектированного мною третьего этажа Музея, – характеризовалась обильным расселением людей по непригодным для жизни районам: например, восточная часть пустыни Мохаве. Прозаик-гном K. в серии очерков „О путешествии из Сан-Диего в Феникс“, написанных приблизительно в две тысячи восемнадцатом – две тысячи двадцать пятом годах, говорил об этом так:
„За день солнце переходит от левого горизонта в правый. В первой четверти движения мы завтракаем и обсуждаем ненавистный ручной труд, который позволит нам обеспечить себя наркотиками, водой и пищей на следующий месяц, во вторую четверть движения солнца мы запираемся в кондиционируемых помещениях или машинах, и рубим, бурим, ломаем землю: камни, пустую породу, сокрывающую сокровище, ее брюхо, ее красную внутренность. Тут мы извлекаем энергию Земли, ее черную кровь, ее красный капилляр, ее зеленую энергетическую тягу, ее синюю кость, ее розовый жир… Я работник по розовому жиру, я глажу свой розовый живот, в промежутке между второй и третьей четвертями движения солнца я ем розовую еду, дышащую нездоровьем, и мой желудок способен это даже переварить. Так странно, я ем мясистое розовое хрю-чево, состоящее из яда и воды, и чавкаю, и прошу прибавить вкуса, и мне кажется – они («они» – обобщающий конструкт, который внемлет всем мало-мальски серьезным просьбам. – примеч. экскурсовода) добавляют новых вкусов, запахов, моя жизнь начинает пахнуть не только иссушенной мертвой пылью, но и живым жирным мясом, хотя я ем одно и то же: хрючево, составленное из ядовитой подделки под мясо, растворенной в самой дешевой проточной воде из ближайшей канавы. Оно целиком состоит из переживания ужаса животного. Ужаснувшееся животное родило перепуганное дитя, в него сразу воткнули (в анус, в сосцы на вымени, в язык) по четыре трубки: две тонких, две толстых – и, хотя оно еще еле стоит на дрожащих ногах после родов, его уже рвут на части новой сессией выкачки энергии. Все ради удовлетворения моего голода, и я жру ужас день за днем, час за часом: бургер, стейк, котлетку, тефтельку, сосиску, колбаску, шашлычок, пельмешку (я все-таки русский крестьянин, пусть и в странноватых, непригодных для жизни североамериканских обстоятельствах – но жив ведь, следовательно, это литературное преувеличение насчет непригодности, или?..), я пузырюсь от жира и страха, присваиваю себе власть над органами, через которые протекает работа по перевариванию и осмыслению яда, который попал в меня. А на третьей четверти солнечного движения, когда оно начинает катиться направо, когда обед и послеобеденные разговоры, и отрыжка, и получасовое восседание на толчке с порнографическим журнальчиком с белоснежными красотками из северо-восточной Америки, далекого кленового Мэйна, который мне отсюда не представить, – когда все позади, – вздыхаю, сплевываю, снова сажусь в машину, ковыряю землю.
Это так отвратительно, что все познания о моей миссии и «цели в жизни»™, о которых на седьмой день пастор рассказывает на мессе – вон моя церковь, на другом пустыре, с противоположной стороны восьмой трассы, которую пересекают в день шестнадцать тысяч частных автомобилей и десять тысяч рабочих грузовиков, – все эти познания спускаются в туалет вместе с жиром и ужасом, добытым из жира. Животные пасутся, кстати, под тенью горы, им и то выделили город лучше, чем нам: у них случается в первой и второй четвертях тень. А мы и четвертую четверть проживаем без тени. Работа может закончиться, а может нет. Много работы – это хорошо. Но напряжение не закончится никогда. Я знаю, что с четвертой четвертью приближается мой час дунуть через продолговатую стеклянную трубку (they call it bong, although the name bong now is almost like a rude one, the seller would laugh at me if I tell’em like, hey sell a bong, he’ll then explain to me that yo dude, it aint’ called bong anymore here brother, ha-ha, doncha know? Why’s that – asks he when I get surprised, well it’s because it aint’ good for one to say bong, brother, it’s almost like bang-bang, it’s almost like as if you’d say, hey I’ma about to smoke a fucker device, you know, cause bang-bang means fucking a woman, like you know, we ain’t fucking women here anymore, we are to be respectful, yo! You ain’t like that I guess if a guy told you he’s fucking your mom, or would you, bratha?.. Nah, don’t look at me, you would not! I know for granted, pal, that you’d know, we now say here – we do LOVE with a woman, alright? So same here, we ain’t smoking over the bong, we’re smoking over a lover’s tube, you got it, ha-ha-ha. Here’s your bong, pal, I was just kidding, playing with you, pal, got it? Got it or not? Cmon now, it’s ninety buck, brother, and I wish you well fucking any lady around here you like, just pay me the fucking ninety, brother, that’s it.) Дуть я буду либо завозную травку (в искореженной нами земле уже и травка не прорастает, а в воздухе столько смерти с бойни, что она увянет, если я привезу ее из Сан-Диего), или завозной метамфетамин. Еще одна такая смена, и у меня повываливаются остатки зубов, а легкие закупорятся. Никакой пляжик или океан уже не помогут – тело, выданное мне в управление для познаний, наслаждений, обработки информации, прорубания через полую породу бессмыслицы, угасает здесь быстро – вот о чем я думаю, когда каменею на диване в своем living без сил пошевелиться, обдолбанный по самые брови. А приятель мой в ночную смену строит дорогу в никуда. Сосед приходит со смены в пять тридцать, когда меня чуть отпускает и близится моя смена, и принимает эстафету, и называет ее road to fucking nothing – вообще-то, это дорога к бойне, новая, четырехполосная, по ней будет мчаться в одну сторону убийца, а в другую – грузчик ужаса, и жрать будут оба, и чавкать! Здесь, в пустоши между Аризоной и Южной Калифорнией, солнце светит триста тридцать дней в году, но мне кажется, тут всегда сумерки: во‐первых, в моих снах всегда сумеречно, даже если светит солнце – все как будто показано через черную линзу, запятнанную копотью, или через тонированное стекло тачки, во‐вторых, стоит вечным столпом пыль от нашей гномьей работы, а мы работаем, чтобы ты понимала, триста дней в году, шесть дней в неделю, пока не сломаемся, в‐третьих, в воздухе столько коровьих и бараньих душ, и свиных, и гусиных, и мух, и слепней, и семикрылых трупоедов, что они давно затмили любое солнце, и сама вибрация крылышек их мелких оглушает меня в промежутке между четвертинками ненавистного летнего дня. Короче, ладно, четвертую четверть я всегда праздную: жара падает ниже тридцати, и можно дышать без маски и порой без кондиционера, и можно пить холодненькое пиво, и выпивать его раньше, чем оно нагреется, а еще совсем близка заветная затяжка перед ночью, где я окаменею, и затяжка – это то, зачем я встаю, влезаю в рабочую униформу, буравлю землю и потом вылезаю, потный и счастливый, честно говоря, нет другого смысла у моей жизни в безвестной дорожной пыли, кроме как покурить землю, которую я буравлю шесть остальных дней“.
Как видите, дети, довольно безрадостно было жить этим людям, их слишком много родилось, они слишком широко расселились и слишком глубоко забрались в землю. Они слишком много ресурсов пытались из нее выкачать, и готовы были бороться за каждую крохотную щепотку, и могли воевать из-за неправильно переданной строчки шифра, или кода, или Писания – они на многое были готовы, лишь бы крепить и восславлять Возмездие. И пока одни бесконечно расселялись, другие бесконечно рвались еще дальше убежать: в еще более глубокие пустыни, ледяные просторы и даже на дальние планеты, – такое безумие овладело всеми присутствовавшими, что они не находили покоя нигде, под давлением вечной тревоги они бежали все дальше! А вы, маленькие мои, должны усвоить главное: мы не хотим быть как они! А теперь хором: „Мы не хотим быть как они!“»
«Ты что-то сказал?» – «Нет». – «Мне показалось, ты говоришь, что не хочешь быть как они», – из ванной вышла порозовевшая, похорошевшая Попутчица. Осталось немного до Феникса. Я едва узнал ее – так сильно преобразило ее предчувствие встречи с суженым. Во сколько они встречаются? Говорит, в час дня. Ланч. Я показался себе тощим и бледным, как поганка, старым и бездарным – все разом в отражении. Раннее утро, я замышляю, куда дену себя, ведь я бесполезен без приложения к попутчицам или преступникам. Покурю, пока они встречаются. Накурюсь и залезу на какой-нибудь высоко сидящий над городом камень, устрою себе перекур с видом на Феникс и напишу еще что-нибудь (на самом деле – нет). Я стану легким, заплету дух свой выдохом в клубящееся зеленое облако, я услышу запах Мэйна, дальнего, желанного северо-востока, хвойного, никогда не виденного кленового штата, где ледяной Атлантический, на широте Барселоны, бьется о рельефное побережье, населенное дочерями викингов и их мужьями… Я забуду, что работаю в Homicide Department. Хоть я и должен прожить жизнь мужчины, я вроде как не обязан постоянно купаться в смерти?.. Или обязан? Попутчица заглядывает мне в глаза, в которых пронеслось все страдание, вся зависть и ревность ведьмачья. Странновато. «Все хорошо?»
Да, все отлично. Одеваясь, она щебечет: оказывается, в России задержали оппозиционного политика. «Вау, ничего себе. А знаешь, какая причина? Его дочка пошла в школу в „вызывающем“ пуховике. У них че, уже пуховики носят? Конец октября». – Смотрит на меня как на дебила. Черт, весь ее ум уже в L, и с меня сходит последняя пленка привлекательности. Я просто жадный вор, тащивший нас сюда в единственные полтора выходных между пахотами. Сегодня они встретятся, развиртуализируются, начнется новая глава их истории. Она верит, что будет это счастливой романтической сказкой, а я был нужен, чтобы получить кое-какой сатисфакшн, ну и потом Калифорния – кому не охота заняться любовью в Калифорнии?.. Будто и в теле у тебя цветет одно безостановочное лето, которое прервет разве только пара отрезвляющих подзаголовков, но этого недостаточно, чтоб протрезветь полностью, уж там-то любовникам, оглушенным белоснежным солнцестоянием, не знать?.. Слушай, да я вообще люблю все это дело. Я легкий и пустой, я проходимец, я попутчик ей, в конце концов, у меня за пазухой нет ни камня, ни ножа, ни сердца. «Все в порядке, подруга».
Но ей надо, чтобы сбросить стресс перед встречей с любимым абьюзером, перед входом в долгую изматывающую зиму, – надо либо грязно трахаться, либо пересказывать мне очередной бред о России. Ну а поскольку я вроде как душный эмигрант без ручки, то мне грех не послушать. Я так привязан к этой своей России, как будто одной ногой (ментальной) все еще там: в холодном позднеоктябрьском месиве из листьев, окурков, птичьего дерьма и роскошнейшего языка, дотягивающегося до глубин любой души, и все мои друзья, женщины, книжки, мысли правого полушария – о России и на русском. Невозможно представить, что, пока все оно тлеет и составляет меня, тянется мучительное, болезненное превращение, такое же, как все превращения внутри и снаружи меня: превращение в американца.
«Короче, ее арестовали, прикинь, ей шестнадцать лет, прямо на уроке, за то, что у нее пуховик был с надписью „ЗА НА*****ОГО“». – «Что, так и написано, со звездочками?» – уточнил. Попутчица кивнула: «И она в нем пришла так в школу, и на нее, как на живца, поймали папашу, и тоже арестовали. За что? А за то, что денег дал! А маму тоже хотели арестовать, но она пришла в шапке с сине-бело-красным флагом, и ее не арестовали». Думаю, что лучше бы сейчас вынуть голову из окна и блевануть прямо на асфальт на скорости сто тридцать, с которой я несусь, блевотину намотает на позади идущую машину, и они там охереют, начнут догонять, сигналить, может, даже подрежут, и буду объясняться: «Братцы, лучше вы, лучше пристрелите, чем слушать эту чушь о Родине!» А они такие: «А че ты Родину не ценишь, пес?! Слушай, что тебе говорят!» Пойдет по кругу эта бредятина, я опять как будто там, дома. А что я кочевряжусь? Не люблю что ли Родину или ее сплетни? О, как я люблю эту забористую неповторимую русскую дичь.
Оказалось, нет ничего более стремительно остывающего, становящегося на удалении более бессмысленным, чем общественно-политические страдания Родины. До меня доносится оттуда только навязчивый звон несправедливости. Я читаю и смотрю, как жвачку, и узнаю, что все это настолько касается меня, насколько я вовлечен в это. Но внутренний голос противится, когда я решаю вроде как поставить точку и воздержаться от дальнейшего жевания. Это рвет мою призрачную пуповину с отечеством, это отнимает у меня даже фантомный корень, и я оказываюсь на третий год настолько здесь ничем, в пустоте пустыни, в разгаре лета, что ослепительный ужас бьет через позвоночник: а если я не русский, не россиянин, не человек? Я староват, как говорится, для этого дерьма. Мне придется оставаться хотя бы чем-то.
Пусть уж и дальше – как было много лет – прежнее отечественное, кисловатое дерьмо, зато понятное, знакомое, как свои пять пальцев, прошлое – ох, да вообще у него одни плюсы. К тому же, когда Попутчица рассказывает, глаза ее ярко сверкают. Однажды, правда, это сделается началом конца: в предпоследнем разговоре я брошу неосторожно: «Слушай, да это же общество терпил, чего ты ждешь от него?» – и ее перемкнет от ярости. Она припомнит и то, что я не выбирал себе эмиграцию, и что я не бывал дома N лет, и что я приставал к ней, когда она ясно сказала «нет», и что я потерял идентичность, не стал ничем определенным, не стал человеком без привязи. «Малыш, какое все это имеет значение? Это винегрет, малыш».
Но здесь, в американской Соноре, за много лет до нашей ссоры-фейерверка, в глубинке, в голубой тени горы, мы одно целое, и мы едем оба впервые увидеть L. Я увижу напряженного и немолодого мужчину. Приземистого, с прямоугольной головой и ястребиными глазами. Мне неловко смотреть на Попутчицу с L: с одной стороны, я привез ее, тащил на себе, убеждал, похлопывал по плечу, с другой стороны, я позволил ей соблазнить себя, вынырнуть ненадолго из расщелины смерти… И вот она подводит нас нос к носу. Дурацкая неловкая секунда.
Это наш парень, Дамиан, я поймал его. Ты будешь отомщен. Я смотрел ему в глаза минут пять от силы. Разговор затух, мы переминались с ноги на ногу, ожидая Попутчицу, чтоб она разорвала узы паузы. Мы, как собаки, тут обнюхиваемся всегда привычным ритуалом. Недоамериканцы, недорусские: «Давно тут?» – «Почти три года» (буквально через неделю исполнится три года моему октябрьскому переезду). – «Нравится?» – жмем плечами. Один вопрос на двоих – один ответ на двоих. Пока я их ждал, залез на северную гряду за городом. Пустил дыма, пустил душу полетать. Феникс простерся передо мной унылым ровным блинчиком. Огромные трассы и крошечные частные домики. Совершенно летний зной в конце октября, а с другой стороны – где осталась лежать обыкновенная необжитая пустыня – бегают зайцы и койоты. Одного я снял с зумом на камеру. Он покосился на меня и продолжил ковырять камушки и норки в поисках падали, или мусора, или зазевавшегося грызуна.
Бесконечные американцы бесконечно хайкают. Будний день, я не единственный молодой здоровый мужчина, который ничего не делает, идет по горной тропе. Маленькая толика любви отдалила меня от департамента смерти.
«По чему-нибудь скучаешь?» – L задает рубленые армейские вопросы, в его легенде отдельную строчку занимает байка о некоем таинственном пребывании армейским консультантом. Меня немного потряхивает от этой сапожьей прямолинейной простоты. Вообще-то, я тут буду задавать вопросы, старик. Дамиан-чик, мы сцапаем его, он наш. Осталось самое малое: доказательства. «По общению», – говорю очевидное. Попутчица уменьшается на глазах, она еще мечтает о своей эмиграции, она еще не понимает, что это такое и каково это – остаться тут без корня, в бесконечном конвейере капиталистической машины, который высасывает все время и Бога из тебя и превращает в унифицированного лыбящегося балбеса, – маленькая смотрит на нас восхищенно, как ребенок – на сказочных добрых исполинов. В ее фантазии она, должно быть, где-то посередине, уже на полпути на этот континент, и я не в силах ее отговорить и не в силах нанести ее иначе как пунктиром на карту Музея. Давай просто условимся, что она принесла мне вздох любви и силы? Не больше и не меньше. Я не могу написать ее, притворяясь, будто знаю, что там в ее голове. Да понятия не имею. Чужая голова для меня – это смерть. Женщину хотя бы можно познать чувственной, любовной работой. В нее можно войти и познакомиться с ее садом практически буквально. А в голову?.. Голова – это всегда выдумка of the self about a self.
«Иди обратно, в смерть», – Попутчица отпустила меня, когда четыре дня ее путешествия истекли, и нам сделалось не по пути, и я больше не мог ничего дать ей. «Принеси оттуда весть о том, что добудешь. Ты гениально пишешь о смерти. Ты словно утоплен в ней». Я послушно киваю, склоняю голову под тяжелым бременем. Граница тонкая. Я карабкаюсь на очередную вершину, чтобы узнать, что и за ней есть вершина. И так три мили – четыре с половиной километра, с редкой тенью, почти все время на солнце, по крошащейся тропе, по вздымающимся камням, через заросли тлеющих огромных кактусов. Моя Ведьма уже поселилась где-то в городе, на который я поминутно оборачиваюсь, и мы еще понятия не имеем друг о друге, хотя где-то в совершенстве все давно сотворено и проиграно. Мне надо выше подняться, чтобы она осторожно поскреблась в мою дверь. Ведьмак карабкается из меня на волю, человек без племени и родины, из давно потерянного края, предавший своих братьев, чтобы первую ведьмочку допустили до него для превращения.
«Чем занимаешься в Сан-Диего?» – наш небрежный разговор с L все еще длится. Натужный и пустой. Чтобы избежать паузы между тем, как он будто передает ее мне, а я принимаю, пушинку, принимаю. «Чем занимаюсь? Ну, вот последний час я рыскал по твоей квартире, поднял кавардак. Ну и понатыкал ты там камер! – я устал уклоняться, становиться невидимым. – Я взял образцы биоматериалов и отщелкал твой дневник. Чуйка моей внутренней ищейки говорит: я сорву с тобой куш. Дамиан, это наш парень!.. Еще не убийца, но я вижу в твоих глазах неспособность почувствовать. Такие самые опасные. Подлинные убийцы. Не сознающие, что убивают. Твое зло остановится на мне».
«Костя работает в полиции», – почему-то говорит вместо меня Попутчица, и L холодеет от ужаса, вздрагивает и начинает странным образом глядеть снизу вверх. Он не понимает, что и моему внутреннему ищейке, и моему внутреннему ведьмаку – охотнику на чудищ, помощнику превращающимся женщинам – еще только предстоит цикл рождения.
«Просто таблички в департаменте статистики заполняю, – со стыдом объясняю. – А так я писатель», – вспоминаю с робкой усмешкой. Я еще не успел себя самого короновать, тоже потребуются годы. Всему нужно пространство для превращений – свобода ума и время… Светлая тоска охватывает, когда я думаю об этих годах искренней детской невинности, простоты, попыток сделать текст, будто есть хоть слово, которое ты мог «сделать». Я – писатель. Сколько нужно мальчишеской несерьезности или наоборот циничной зрелости, чтобы такое сказать. У любого, кому больше двадцати, должна быть огромная палица за спиной, припасенная, чтобы отколошматить самого себя, избить до состояния обморочного глупца.
Однажды из книг будет добыта новая нефть, новый янтарь, из наших помутневших, ставших одним жирным пластом смыслов слоями станут извлекать ископаемые, вселяющие смыслы и чувства в технически безупречную эру Предчувствия. Я томный пророк эпохи Предчувствия, мне не ужиться в ней, там нет загадки, нет веры, там только точное чувствование всего, что есть, там бесконечное прозрение, не сиюминутное, не выстраданное, а постоянное. Мое дело – неблагодарное, юродивое: стоять среди своего времени и возвещать о будущем, где мне не оказаться. Смысла в этом нет, никто не желает знать, что случится с ним за углом; это и тщетное тщеславие чувствовать, что знаешь, не имея знания. В общем, нет и цены этому, и заслуженно, что я в лохмотьях, заслуженно, что в шести тысячах миль от дома, корень мой высушен и выброшен, заслуженно, что я переработан в язык, которого не существует, общаюсь на архаичном русском, гнию без русского настоящего. А главное, что другие, тоже превращающиеся в черный густой сок будущей Земли, давно сказали, написали, испили эту правду и ждут меня в безликом космосе смыслов, чтобы добытыми и очищенными быть через – ион лет следующими людьми, где не течет ни капли моей крови. Лучше бы потратить все сегодняшнее время не на эту жалкую страстишку, не на чванливое «я писатель» на глазах у L и его Попутчицы, а на чтение позабытых, потерянных книг. Уже сейчас книги негде хранить, слишком много смыслов, слишком густо, слишком обильно. Их «штабелируют», потом сжигают, потом развеивают легкий пепел, думают, ничего не осталось, но Земля забирает и это. В магнитном ее резонансе все раз испытанное бережно сохраняется, она не умеет забыть и не умеет возненавидеть. Заново, каждое утро, как будто не существовало тебя, ты срастаешься с телом и пишешь в дневнике:
«Новая наивность?» – уточняет L, оборачивается на Попутчицу, ищет опору для насмешки. – «Звучит кринджово», – хором объявляют, я вторю им, все только так, им видней, моего видения нет, это участь юродства – не видеть, а только напевать под нос, подвергаться насмешке за наивность, а право на нее до моего рождения стерто родителями, диктатурой, эксплуатацией, империями, глобализацией, великими Ост-Индийскими корпорациями, холокостом, волнами геноцида, ГУЛАГом.
«Дружище, – L кладет на плечо мое невесомую руку, как только он убивает такой легкой рукой? – звучит, словно замыслил ты что-то свое, как будто присвоил часть горной породы, шеф такого не любит, наши карманы просвечивают на КПП перед выходом: нельзя выносить землю в штанах, в трусах, в куртках – если каждый утащит домой по щепотке, то через год самой горы не станет, людям не хватает смыслов, это последняя гора на протяжении тысяч миль, это последняя гора в Мохаве, это последняя гора в плоскости Северной Америки: человек истребил сперва животных, затем птиц, затем пресмыкающихся, деревья, взялся за рельефы и сравнял в порыве божественного прозрения; все уравнял, превратил континенты в грандиозные равнины: такой замышлена эта идеальная земля, недвижимо-плоской. Кто ты такой, чтобы учить нас замыслам и будущему?»
Когда Дамиан проснулся, стал выздоравливать, стал возвращаться в мою жизнь, стал снова темным попутчиком, придающим веса моей душе, то я предположил: может, так называемые ангелы-хранители – это мы сами из будущего, останавливающиеся у критического момента прошлого, чтоб понаблюдать за ним? Может, нет третьей сущности: только «я сейчас» и «я, оборачивающийся на это через толщь времени, через океан мгновений»? И чем острее, ярче момент, тем гуще присутствие ангела, потому что ты из будущего будешь возвращаться к нему все чаще. Просто кто, кроме тебя самого, с искренней заботой станет кружить вокруг и сберегать от греха, от увечья?.. Говорят, все вне наших тел обитает чуть ли не в совершенной гармонии. Говорят, мы чуть ли не последний, самый низший мир. Говорят, ниже нас еще есть пара-тройка двухмерных миров, но они работают уже скорее как поддерживающие структуры, нужные для чего-то вроде «отталкивания», чего-то вроде пружинящей силы. Говорят, впрочем, что и через них можно провалиться ниже. Куда ниже двухмерности?
Философия удается мне лучше всего. Я говорю L: «Я пишу fiction, я все выдумываю». – «Он вор», – вторит Попутчица, я сам разделся перед нею, я сам вошел в нее, добровольно, с любовью, без любви нельзя войти. L приподнимает бровь над буравящим меня черным соколиным глазом. Я не соображу: это глаза гения, или безумца, или демона, или идиота?.. «Выдуманные истории», – поясняю, как для идиота, но ни он, ни Попутчица себя идиотами не ощущают. Слова даны нам, говорят, для молитвы. Говорят, для философии и облачения Бога в смысл даны нам слова, а мы употребляем их от невежества для small talks, для small books, для small nukes и так далее. Но зодчий, когда лепил слова, тем и был прекрасен, что предусмотрел все мыслимые возможности и ни одну из них не поставил на первое место, ни одну из них не возвеличил. Он не знал, чем все это закончится, и знал, что это закончится всем. У него нет весов, а тебе вечно нужны весы, глупец, гном-копатель, чтоб взвешивать добытую породу, будто она имеет массу.
«Напишешь про эту поездку?» – спрашивает Попутчица. Если историю не записать, она сделается увядающей памятью. Ничего другого. Вот она, посеревшая, затемненная, дальняя Попутчица, я едва припоминаю ее. Мы на какой-то «плазе» (мерзкое слово), прощаемся навек, я говорю, что люблю ее, что узнал, что она все-таки настоящий друг, что она пролила слезу обо мне, когда узнала, что я в беде, а это тяжелее, чем вся ненависть, желчь и обида, которые были между нами целые годы. На плазе размыкаются наши объятия, Америка – это край плаз. Без гадкой плазы ты не видел Америку. Если ты приехал в Нью-Йорк, и весь отпуск бродил по Манхеттену или даунтауну Бруклина, и не отъехал по трассе от города, и не увидел плазу – ты не можешь говорить, что представляешь Америку. В плазе скучилась мещанская пошлая жизнь среднего американца. В плазе ты спускаешься с неба и возвращаешься в жир повседневности, и тело ужасно неудобно для тебя; но ты не больше чем тело, когда закупаешься продуктами, шмотками, бытовой техникой, побрякушками, книжками, лотерейными билетиками в плазе.
Мы едим какую-то истекающую жиром гадость, жир забирается нам под ногти, на нас глядят исключительно одобрительно. Парень в неплохой форме (я готовлюсь к тесту на патрульного, все-таки полицейские на земле получают в четыре раза больше, чем заполняющие таблички, как я), у девчонки отменные бедра, да и в целом задница ничего. А еще мы белые, а еще мы кушаем (мерзкое слово) на плазе (мерзкое слово). У нас обоих отходняк. «Ну, я даю тебе слово, что не попытаюсь представить, что у тебя в голове, напишу только свои мысли, а тебя скрою, назову „Попутчицей“», – выбрасываю в мусор истекающую жиром булку, вытираю руки, губы.






