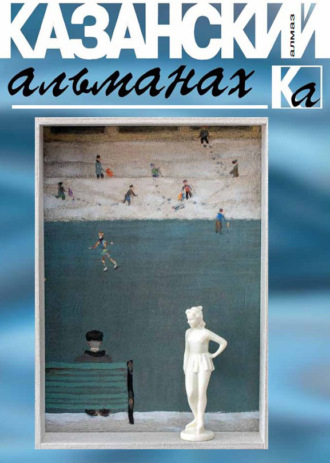
Коллектив авторов
Казанский альманах 2016. Алмаз
Юрий Волков
Награды моего деда
Отгремели юбилейные парады в честь Дня Великой Победы, отмечен День памяти по случаю 75-летия начала Великой Отечественной войны…
Но тема самой кровопролитной бойни на земле, конечно, не закрыта
Знаете, когда заканчивается память и начинается История? Та История, которую пишут в назидание потомкам; которая должна воспитывать и вдохновлять; которая никакого отношения к правде не имеет? Я думаю, что в тот момент, когда люди утрачивают личную связь с событиями, когда уже вспоминает не сердце, а только разум. Потому что память – это наши чувства, а История – всего лишь информация…
Но День Победы я помню сердцем. Не парады и салюты, не фильмы и фронтовые песни в парках, а висящий на стуле пиджак моего деда с множеством орденов и медалей.
Это сегодня День Победы – насквозь официальный, грозный и невероятно пафосный праздник. Когда новейшие танки и тягачи с ядерными ракетами едут по Красной площади столицы, а над ними кружат стратегические бомбардировщики. Чтоб весь мир знал – тогда врагов победили, и сейчас кого хочешь победим.
А лет тридцать-сорок назад не нужно было километрами георгиевской ленточки всю страну обматывать, чтобы помнили. Потому что и так помнили хорошо – живы были те, кто добывал эту победу. И 9 Мая был больше домашним праздником, а не общегосударственным. Собирались семьями, за столом, приглашали друзей. Чтоб вспомнить тех, кто не вернулся, и порадоваться за тех, кто дожил до сегодняшнего дня. Выпивали, пели песни, плакали. При застольях этих деда всегда сажали во главе стола на самый удобный стул с высокой спинкой. И бабушка обязательно надевала на деда парадный пиджак с орденами и медалями.
Дед сидел на почётном месте при параде минут пятнадцать, до первого тоста. Затем вставал, вроде как по делам, снимал пиджак, вешал его на спинку стула и выходил из комнаты. Когда же возвращался, садился уже не на главное место, а куда-нибудь на диван, потеснив остальных гостей. Так застолье и продолжалось – пиджак с наградами висел на стуле во главе стола сам по себе, а дед сидел где-то сам по себе. День Победы они праздновали отдельно друг от друга – наградной пиджак и дед.

Дед прошёл всю войну – и германский фронт, и японский. С июня 1941-го по март 46-го. В пехоте, рядовым. Лишь до ефрейтора дослужился. Несколько ранений, госпиталя, потом опять передовая. И про войну категорически не хотел ничего рассказывать. Все деды как деды – в школах воспоминаниями делились, на трибунах стояли. А мой – отказывался.
Вот наград у него было много. Но относился он к ним… Дарил нам, внукам, чтоб играли. Если я выменивал боевую медаль на значок «Ну, погоди!» – всегда хвалил. Внуков четверо, все мы карапузами игрались дедовскими наградами. Сколько потеряли, сколько раздарили друзьям! Но всё равно – оставались! Много было у деда наград. Хотя пехоту, вроде как, и не жаловали знаками отличия…
Наградной пиджак – это вообще бабушкина инициатива. Если б не она, дед бы все свои награды за месяц растерял и раздарил. Но бабуля зорко следила за парадным пиджаком, чистила ордена и медали, всегда отсылала деда получать новые, недополученные на войне или юбилейные.
– Ну что ты неумёха какой! Зайди в медаляках в магазин-то, глядишь – чё без очереди купишь, все ж так делают, – ругалась бабушка.
– Эхххх, – вздыхал дед.
Но наградной пиджак позволял надеть на себя лишь по праздникам, да и то не надолго.
Вообще, очень интересно они с бабушкой жили. Бабуля верховодила в семье всем, решала каждую мелочь – что деду надеть, что покушать, когда спать ложиться. Он не спорил и не возражал. Но в редких и действительно важных вопросах дед решал единолично всё сам, ни с кем не советуясь. И говорил об этом один раз – никто не спорил. Так он просто решил, что все трое детей-погодок окончат институты, дневное. Притом что семья жила очень бедно, бабушка не работала. Притом, что тётка моя и учиться-то вообще не хотела. Притом что мой отец нашёл было после школы выгодную работу. Но дед просто сказал – и всё. Все дети с высшим образованием.
Ещё бабушка вечно его пилила – какой он к жизни не приспособленный, ничего по хозяйству не умеет, всё ей приходится… Дед лишь вздыхал и соглашался. Но вот как-то бабулю положили в больницу, и я был поражён насколько ловко, умело и с явным удовольствием дед делает домашние дела. И поесть сготовить, и постирать, и убраться. Лучше, чем бабушка. И лишь много лет спустя я понял – если ты кого-то любишь, недостаточно стать необходимым этому человеку. Куда важнее дать почувствовать его необходимость тебе…
Дед с бабулей никогда не ругался, он вообще очень молчаливый был. Русский был для него не родным языком, который до конца он так и не смог выучить. Говорил с акцентом и множеством ошибок, в принципе не мог понять грамматическую категорию «род». Поэтому всё больше молчал. Но почему-то очень любил русские песни, чуток выпив, всегда пел, безбожно путаясь в окончаниях:
Гремела буря, дождь шумела,
Во мраке молнии блистала,
И непрерывно гром гремела,
И в дебрях ветер бушевала…
Но что интересно, дед – один из очень немногих людей в моей жизни, с кем комфортно было молчать. Не просто молчать. Те редкие слова, которые он произносил, заставляли задуматься, размышлять о чём-то важном и нужном. Он так умел.
У деда было три класса образования. То есть ровно столько, чтоб кое-как научиться читать и писать. Но читать он очень любил. Читал всегда – книги, газеты, брошюры какие-то. Читал очень медленно, по слогам, шевеля губами и явно переводя написанное на родной язык. Но читал всегда, а вот телевизор и радио терпеть не мог.
Дед – человек верующий, никогда не ругался матом. Вообще бранных слов не произносил, делая лишь одно исключение. Стоило хоть кому-то где-то упомянуть «отца всех народов» Иосифа Виссарионовича Сталина, как дед тихо выдавливал «сво-о-олочь», протяжно так, с шипением каким-то. И столько ненависти было в это слово вложено, сколько не получалось вложить ни диссидентам в их обличительные речи, ни позднее новым демократам при строительстве карьеры. Сталина сволочью дед называл всегда. И даже когда жив был «отец народов», когда за подобный эпитет в его адрес червонец запросто могли намотать. Почему, отчего – не известно. Ни сам дед, ни кто-то из его родни от сталинских репрессий не пострадали… Бабушка боялась, одёргивала деда – «накликаешь». Но – пронесло…
Мой отец занимал высокий пост, поэтому часто приглашал на семейные праздники людей с работы. Коллег, подчинённых, начальство. Как-то на День Победы был у нас в гостях один очень крупный партийный босс. Дед сидел с одной стороны длинного стола, а этот товарищ – с другой, вроде как оба на почётных местах. Выпили за Победу, выпили за не вернувшихся с фронта друзей. И тут встаёт этот руководитель и предлагает тост за вдохновителя всех побед Иосифа Виссарионовича Сталина, имя которого незаслуженно забыто. За столом повисла тишина. Дед молча поставил наполненную стопку с водкой, встал, снял наградной пиджак и аккуратно повесил на спинку стула. Лишь потом сказал:
– Спички кончились, да… Пойду, купить надо…
И ушёл, так же молча. Дальнейшее застолье продолжалось уже без деда, скомкано и принуждённо. Лишь пиджак с наградами висел на стуле. А дед гулял где-то до позднего вечера.
Последний раз он надел наградной пиджак в 1987 году. Дед уже старый был. И вот на День Победы пошёл гулять при своих наградах. В самый разгар горбачёвской антиалкогольной компании. Встретил фронтового друга, что редкость – уже поумирали большинство, да и страна большая. А тут встретились. Взяли бутылочку у таксистов, сели на лавку, выпили, войну вспомнили. Тут их и забрал милицейский патруль – за распитие спиртного в общественном месте. Двух ветеранов в наградах на День Победы. Но у милиции план…
Дед просидел в отделении всю ночь, до утреннего развода. Отец мой в то время власть имел, повторяю, немалую… Можно было даже не звонить, а просто патрулю номер телефона продиктовать, по которому позвонить надо. Сразу по стойке смирно встали б и пожелали приятно побезобразничать. Но дед звонить не стал.
Утром отпустили, бабушка вся в слезах встретила. Отец мой узнал, в бешенство пришёл. Даже не за деда, по факту. Нашёл тут же всех ментов к делу причастных, устроил разнос. И начал действия по увольнению из органов и исключения из комсомолов-партий. Он мог. Сказал об этом деду – и дед запретил. Категорически. Просто, как он умел, сказал один раз, чтоб ментов-обидчиков батя оставил в покое. «Я сам виноват». Но парадный пиджак не надевал больше ни разу, как бы бабка не заставляла. И все последующие годы бабушка просто вешала пиджак с орденами и медалями на спинку стула в День Победы…
Несколько лет спустя я спросил у деда, почему у него такое пренебрежительное отношение к боевым наградам. Столько их, гордиться ж надо!
– Чем гордиться? – спросил дед. – Тем, что я людей убивал?
– Ты же фашистов бил!!!
– Я убивал людей… Гордиться тут нечем… Тут плакать надо…
Рано или поздно история и память всегда расходятся и идут каждая своей дорогой…
Анна Акчурина
Вздох и речь

Родилась (1970) в Казани. Окончила живописное отделение КХУ им. Н. Фешина.
Художник, педагог, автор статей по искусству на русском, татарском, немецком языках. Выпустила сборник стихов «Страж» (2014) с собственными иллюстрациями. Лауреат поэтического фестиваля «Галактика любви», посвящённого памяти В. Тушновой
Жанна
30 мая 1431 г.
Милая Франция…
Твои дрова вечно сыры,
а площадь тесна, как крысиный лаз.
– В самый раз.
Зато эшафот на ладони.
– Тихо, Ведьму ведут!
Посторонитесь, посторонитесь!
Нет, это не снится.
Господи, сколько рук…
Жадно ждёт,
сиротой юродивой, —
неужто не помнит
бедная родина.
– Шутка ли – десять тысяч ливров золотом.
– За эти-то кости?
– Что это – колокол?
– Эй, потаскуху ведут!
Очнись, Жанна,
вот твоё знамя.
– Сгодится на растопку,
сюда её, Ведьму.
Эй, отступи-ка подальше,
добрая Франция.
Трава
Оплачь его. Верни, как дар
Священный – талый снег.
Бежит таинственный пожар
по сводам тусклых век,
по сколам почерневших пут,
по выступам крыла…
О чём, о чём тебе поют
небесные тела?
Уж нет ни строф, ни слёз – лишь суд.
Отъят слепой покров.
Смотри… О как же дорог тут
травинки каждой зов.
Из сумрака
Максиму Перминову
Ещё не разбирали ёлку,
ещё не пел заварник медный,
ещё в незрячую светёлку
не пробирался отблеск бледный, —
И было жаль – и это утро,
и лепет снежных асфоделей,
и чей-то абрис златокудрый,
порхающий в мерцаньях ели…
но что-то зрело уж подспудно,
волной безвестною влекомо…
И, дрогнув, оживало судно
забвенью отданного дома.
Настоящее
Будничный Толедо. Плоских кровель пятна.
Рыжие чернила на ступенях дня.
Мутные стекляшки, века шум невнятный…
Брошенная глина – в мире нет огня.
А когда-то, помнишь: свет и тьма Эль Греко,
Хрупкой кости стены, ждущие конца.
Чаша отторженья? Грань иного века?
…Спи, мятежный призрак, в молниях венца…
Опыт
Звукоряд виолончели…
Мы у цели… близко-близко:
трепет кисти Боттичелли,
пальцы, что белей батиста,
кифарической капели
звоны цвета аметиста —
извлекают в самом деле
вздох и речь – из стрелолиста,
из поблекшей дали тёмной,
из понурых душ овечьих,
из гортани рыси вольной…
И из глины человечьей.
Август
Под сенью грецкого ореха
примолкла парочка хмельная,
сгустилась студнем тьма немая.
День словно в пыльную прореху
стекает…
Скользит разрозненным потоком
частиц несвязных и никчёмных;
И зыбкий свет из створ оконных
плывёт по скатерти и стёклам…
Кто знает,
Зачем туман плывёт к лиману
По глиняным разбитым крышам,
Зачем так горестно мы дышим,
Чья песнь над скошенным бурьяном
витает…
Аквариум, где каждый житель
прозрачней чаши анемона…
И спелым ломтиком лимона
качается луна в зените…
Светает.

Этюд в четыре руки
Скучна зима, оставшись без поэта,
И город – вял.
Под крышей меж этюдов дремлет лето
В пыли лекал…
На кухне жар и стук ножей; с мороза,
Как генерал,
Вступает восхитительная проза —
В оглохший зал…
Отпрянув, встать навстречу, скрыв поспешность…
Искрит накал…
И на кивок рассеянно-небрежный,
Как высший балл
Принять свою тотальную погрешность:
Мой кубок – мал[1].
Наждачный привкус слёз… А тема «Нежность» —
Как снежный вал.
Зимний Зодиак
Дохнула мгла, и стайка грудничков
в каракуль прячет слабенькие ножки,
и пригоршни зелёных светляков
клубком роятся над горбом сторожки.
Кристаллами подёрнутся леса
и мутные зацветшие окошки;
Да Амалфея, окликая Пса,
нагнёт свои серебряные рожки.
Простые вещи
Тамаре Пеунковой
Зачем виолончель: плетёт узор
Осенний вечер из палитры винной
Гудящего огня печи старинной
И шёлковых шуршаний книжных створ,
Из разности звучанья – мышьих нор
И скважин гулких в партии каминной,
И бархатных тонов исинской глины —
С кувшином деревенским вечный спор,
Пока клюют носами, мелют вздор
И специи – за партитурой длинной,
Внимая чутко ропоту в гостиной,
Под кружек оловянных разговор…
Из глубины
…И кажется: ещё чуть-чуть,
лишь камень воздохнёт, —
воскреснет мёртвая гортань
и глиняный мой рот.
И уж не надобны тогда
ни костыли, ни флёр,
ни жалкой логики узда,
ни века подлый вздор.
«Кроишь по-своему, и дышишь – слишком слышно…»
Кроишь по-своему, и дышишь – слишком слышно,
рука берёт не так, как прочих пясть…
Измученные кони сушат дышла,
и яблоку их некуда упасть.
А высоко над горем – пилигримы
марают снег… И всюду дышит страсть.
При деле мир скудельный. Ты лишь – мимо.
Как арестант, отправленный на казнь.
Василий Аксёнов

В Татарском книжном издательстве вышел в свет сборник произведений Василия Аксёнова на татарском языке.
В него вошли: роман «Ленд-лизовские. Lend-liasing», рассказы «Зеница ока» и «Рыжий с того двора».
Открывает книгу вместо предисловия интервью с мэром Казани Ильсуром Метшиным, озаглавленное «Возвращение на Родину». Заключает издание послесловие Ахата Мушинского «Василий Аксёнов и Казань».
Предлагаем нашему читателю оригиналы – интервью и послесловие, с которых и был осуществлён перевод на татарский язык
Возвращение на Родину
Вместо предисловия интервью с мэром Казани Ильсуром Метшиным
– Ильсур Раисович, какую роль, на ваш взгляд, играет Василий Аксёнов для Казани?
– Как сказал Евгений Попов, «из джинсовой куртки Аксёнова, как из «Шинели» Гоголя, вышла вся современная русская литература». А меня очень цепляет, что началом всему этому большому пути, большой писательской судьбе, его крутым маршрутам, которыми опоясано полмира от Магадана до Америки, исходной его точкой стала Казань. Аксёнов родился здесь – в нашем городе, провёл здесь детство, которое пришлось на годы Великой Отечественной войны. Сын репрессированных крупных партийных казанских деятелей выбрал путь не прямого политического диссидентства, а творческого. И благодаря этому хлебнул трудностей в жизни большой ложкой. Но как сам же сказал в одном из интервью: «Это закалило и воспитало меня». А мы воспитывались на его поступках, книгах, на его упорности и верности самому себе, своим убеждениям.
Символично, что в конце жизни он снова побывал в Казани, дал своё благословение на восстановление дома, в котором прошло его детство и где сейчас находится дом-музей Василия Аксёнова, а также – на проведение «Аксёнов-феста». И мне очень дорого, что и фестиваль, носящий его имя, живёт и развивается, и новые памятные места, связанные с именем писателя, в городе появляются: тот же сад Аксёнова, в котором закипела жизнь – проходят джазовые концерты, показывают кино, читают стихи. И мне видится в этом влияние животворного аксёновского духа. Аксёнов был созидателем, его жизнь всегда была очень насыщенной. И мне хотелось бы, чтобы эта до сих пор ощутимая творческая энергия Василия Павловича по-прежнему питала наш город и помогала всем нам, казанцам, быть ещё на чуть-чуть честнее, ответственнее и талантливее.
– Как возникла идея выпуска казанского сборника?
– Идею предложили прошлой осенью народный поэт Республики Татарстан Разиль Валеев совместно с координатором «Аксёнов-феста», главным редактором журнала «Октябрь» Ириной Барметовой. Я идею, конечно, охотно поддержал.
Аксёнов – не обычный писатель, а символ целой эпохи под названием «оттепель» с её духом свободы, творчества, ярким, диссидентским для советской России стилем. На мой взгляд, Аксёнов – это целое культурное явление. Как сказал Дмитрий Быков о нём, это «свингующий ритм, раскачка, джаз». К сожалению, на исторической родине писателя до сегодняшнего дня не было ни одной его книги на татарском языке. А татарский язык для многих жителей столицы Татарстана является родным. Теперь эта лакуна будет восполнена.
Переписать историю мы не можем – всем известно, что Василий Павлович был гоним советской властью, со всеми вытекающими из этого последствиями, но, издав эту книгу, мы отдадим должное замечательному русскому писателю – нашему земляку, внесём свою лепту в популяризацию его творчества на родной земле.
– В чём видите основное предназначение этого издания?
– Это не коммерческое издание – социальный проект, призванный показать нашего выдающегося земляка, что называется, в полный рост. Ведь в этих трёх произведениях, включённых в книгу, дано реалистическое описание непростого становления будущего писателя в тяжёлые военные годы в нашем городе. А татарский язык сборника делает его в республике с двумя государственными языками – татарским и русским – совершенно полным для родных мест писателя. А то переводы на другие языки имеются, а на титульный язык нашей земли – нет. Непорядок. С этим нашим изданием Аксёнова справедливость восторжествует. Сборник произведений писателя на татарском языке составит особо ценную часть фондов городских и республиканских библиотек и будет живым примером общедоступности наследия Аксёнова.
– Ильсур Раисович, как зародился «Аксёнов-фест»? Известно, что именно вы – инициатор и главный организатор этого литературно-музыкального празднества…
– В 2007 году я выступил с инициативой празднования 75-летнего юбилея нашего земляка, писателя Василия Аксёнова на родине, в Казани. Празднование было названо «Аксёнов-фест» и организовано как культурная программа, включающая литературные и музыкальные (джазовые) действа. Помимо самого юбиляра, в них приняли участие литераторы Евгений Попов, Александр Кабаков, Белла Ахмадулина, Михаил Веллер, музыканты Алексей Козлов, Андрей Макаревич… Об этом событии Сергеем Мировым был снят документальный фильм «Визит пожилого джентльмена».
Первоначально фестиваль не задумывался как ежегодный. Однако он получился настолько к месту, ко времени и лёг на благодатную почву, что нам не захотелось расставаться. Именно тогда вместе с Василием Павловичем было принято решение собираться на «Аксёнов-фесте» ежегодно, каждую осень. В этом году мы проведём юбилейный десятый – «Аксёнов-фест».
– Скажите о главных задачах фестиваля?
– Когда с Василием Павловичем обсуждали саму идею фестиваля, он мечтал о том, чтобы это культурное празднество давало путёвку в жизнь молодым талантам, было местом, где они действительно получали бы настоящий «Звёздный билет» в будущую творческую жизнь. Так оно и вышло. Напомню: одним из первых получателей премии «Звёздный билет» стал писатель Денис Осокин. Затем по его произведению «Овсянки» был снят фильм, который показали на Венецианском фестивале, и сам Тарантино аплодировал стоя. Толстый литературный журнал «Октябрь» выпустил спецвыпуск с творениями казанских писателей и поэтов и симпатичными очерками о Казани. С 2014 года запущен проект по изданию сборника с подстрочным переводом на русский язык молодых татарских авторов. Обладателем премии «Звёздный билет» стала уроженка Казани Гузель Яхина, чей роман «Зулейха открывает глаза» покорил тысячи читателей по всей стране.
В рамках «Аксёнов-феста» проходят мастер-классы с известными литераторами, круглые столы, презентации новых литературных проектов и книг.
Вот, о чём мы мечтали и что претворили и претворяем в жизнь. Мы хотим развивать город не только в материальном смысле, строя инфраструктуру, но и в культурной плоскости. Духовная составляющая, историческая память не менее важны для развития. Без них у города не может быть своего лица с «необщим выраженьем».
– Понятно, что тема Василия Аксёнова комплексная – и литературно-музыкальный фестиваль, и премия, и творческие семинары, и выпуск книг… Трудно переоценить и воссоздание дома, где в военные годы жил писатель. Теперь Дом Аксёнова – один из активно действующих культурных центров Казани…
– Мы долго думали, какой же подарок преподнести Василию Павловичу, и решили, что лучшим подарком будет материализованная память. При первом же его приезде мы обошли обветшалый дом, в котором прошли годы детства писателя во время войны, и я пообещал, что дом его детства будет восстановлен и подарен ему «в первозданном виде». И Казань сдержала слово. Теперь это – Дом-музей Василия Аксёнова, где жизнь бьёт ключом – проходят литературно-музыкальные вечера, различные презентации, выставки живописи… К тому же за кинотеатром «Мир» мы открыли Аксёнов-сад, где уже начали проводить различные литературно-музыкальные праздники.
Я рад, что Василий Павлович отметил с нами свой 75-летний юбилей. Уезжая из Казани, писатель был переполнен благодарными чувствами к городу, казанцам – к тем, с кем вырос, и к тем, кто по достоинству оценил его творчество. Нет сомнений, Василий Павлович никогда не будет забыт в Казани. Это великий писатель, наш земляк, и соразмерно его величию мы будем хранить память о нём.


