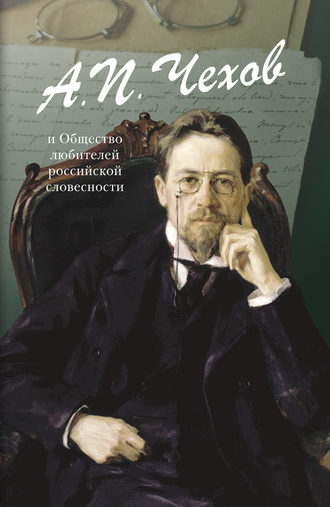
Коллектив авторов
Чехов А.П. и Общество любителей российской словесности (сборник)
© ОЛРС, 2015
© Составитель Л. М. Кулаева 2015
© ООО «Белый город», дизайн обложки и макет, 2015
Памяти Раисы Николаевны Клеймёновой посвящается
К читателям
Книга «А. П. Чехов и Общество любителей российской словесности» завершает цикл выпусков, посвящённых жизни и творчеству классиков русской литературы, бывших членами Общества любителей российской словесности, созданного в 1811 году при Московском университете.
Первым председателем Общества был Антон Антонович Прокопович-Антонский (три Антона, как его звали друзья). Он был директором университетского Благородного пансиона, преподавал в университете естественную историю и согласился быть председателем Общества с одной целью – показать воспитанникам пансиона и студентам университета настоящих литераторов, помочь создать ту среду, в которой сможет развиваться российская словесность. Общество на протяжении всей своей истории не гонялось за славой, оно работало над проблемой создания «здравой» словесности, стремилось подготовить почву, на которой легко «произрастают» таланты. Его члены всё делали для того, чтобы соединить народную культуру и дворянскую. Издавались фольклорные сборники, чтобы дворяне познакомились с культурой своего народа, а для народа – сочинения А. С. Пушкина. На заседания приглашались все желающие.
Наиболее заметными достижениями в деятельности Общества были издание Толкового словаря живого великорусского языка В. И. Даля, фольклорных сборников, организация торжеств по случаю открытия памятника А. С. Пушкину, сбор средств на памятник Н. В. Гоголю и организация торжеств в 1909 году по случаю его открытия. Последний председатель Общества П. Н. Сакулин в 1927 году, выступая на заседании, чётко охарактеризовал основную цель деятельности руководимой им организации: «В качестве научно-литературного общества мы разом живём прошедшим, настоящим и будущим. Зачем люди обращаются к прошлому? Какой в этом смысл?» И дальше: «Ответить можно по-разному. Но, думается, что, обращаясь к наследию писателей, поэтов и многих-многих других достойных соотечественников, мы „умножаем“ их жизни, данные им судьбою, и одновременно мы умножаем и собственные жизни. Ради этого стоит обращаться к прошлому и делать всё, что в наших силах, чтобы сохранить память об этом прошлом для наших потомков».
Общество любителей российской словесности, воссозданное в 1992 году, следовало традициям своего предшественника. На заседаниях речь шла о современных филологических проблемах как в XX веке, так и в начале ХХI. Помогала в этом вышедшая в 2002 году монография Р. Н. Клеймёновой «Общество любителей российской словесности. 1811–1930». Монография сыграла весьма заметную роль в объединении вокруг Общества талантливых исследователей русской культуры, знатоков и ценителей литературного творчества.
В 1999 году выпуском, посвящённым юбилею А. С. Пушкина, Общество начало издание сборников, освещавших современное состояние исследования творческого наследия классиков русской литературы. Отмечая, что в филологической науке накоплен огромный духовный потенциал, ОЛРС небезуспешно призывало всех заинтересованных в сохранении русской словесности к регулярному взаимообогащающему общению. Вслед за первым в свет вышли сборники, посвящённые Н. В. Гоголю, В. И. Далю, И. А. Бунину, Л. Н. Толстому, И. С. Тургеневу, Ф. М. Достоевскому.
Цель сборника «А. П. Чехов и Общество любителей российской словесности», как и прежде изданных, – показать читателям русскую литературу в прошлом, настоящем и через настоящее в будущем, дать почувствовать через литературу связь времён, в том числе и то, какую роль в этом сыграло Общество любителей российской словесности. Нынешнее Общество по мере сил следует традициям прежнего, у истоков которого стояли многие и многие выдающиеся деятели московской интеллигенции, в познании и популяризации российской словесности. О «прошлом» это – статьи Р. Н. Клеймёновой и В. М Родионовой, рассказывающие об избрании А. П. Чехова временным председателем Общества, о переписке и встречах с братьями Веселовскими, активными членами Общества, а также литературоведческие статьи современников А. П. Чехова – Ю. И. Айхенвальда и В. В. Каллаша. О «настоящем» это – значение исследования наследия писателя для сегодняшнего дня: насколько он близок современному читателю, насколько сохранилась связь времён. О «будущем» это – статьи об изучении творчества А. П. Чехова в учебных заведениях: будет ли он так же востребован нашими потомками, как и его современниками.
Авторами сборника, по большей части, являются члены возрождённого в 1992 году Общества любителей российской словесности, профессора и доценты ведущих вузов России, а также учителя гимназий и музейные работники.
Все произведения А. П. Чехова цитируются по Полному (академическому) собранию сочинений и писем в 30 т. (2-е стер. изд. М.: Наука, 2000–2008). В тексте в квадратных скобках указаны том и страницы, серия сочинений обозначена «С», серия писем – «П».
Часть I
Р. Н. Клеймёнова
А. П. Чехов и общество любителей российской словесности
В Москве при университете с 1811 по 1930 годы (с перерывом с 1837 по 1858) существовало Общество любителей российской словесности, членами которого были многие известные писатели. При организации Общества была поставлена цель – создание образцовых произведений. Во второй половине ХIХ века цель была другая – способствовать развитию словесности и распространению знаний о ней. Общество было устремлено в прошлое, в изучение архивов, в их собирание и одновременно наблюдало за современным литературным процессом. На заседаниях постоянно говорилось не только о важности изучения прошлого литературы, но и о необходимости сбора материалов о своих современниках, о значении этих материалов для дальнейшего изучения русской культуры. Общество никогда не выступало с резкой критикой творчества того или иного писателя. Оно признавало талант своих современников, но окончательную оценку оставляло на потом. Открытые заседания посещались представителями всех слоёв населения. Произведения писателей-современников не раз звучали на его заседаниях. Среди них были сочинения И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, И. А. Бунина, А. П. Чехова и др.
Общество любителей российской словесности не бежало впереди литературы, оно неспешно следовало за ней, собирая материалы, архивы, систематизируя, расставляя всё по своим местам. Путь Общества – это один из путей познания становления русской литературы, русской культуры, общественной мысли.
А. П. Чехов был избран действительным членом Общества 16 марта 1889 года, по предложению Н. И. Стороженко. На его заседаниях он, однако, так и не появился, хотя Общество старалось вовлечь его в свою жизнь. Но, как отмечал секретарь Общества В. В. Каллаш[1], «живя в Москве только наездами, он сначала мог принимать мало участия в <> [его] деятельности. Что он относился к ней сочувственно, можно видеть из следующих фактов. Во-первых, в архиве Общества сохранилось его письменное согласие на изменение Устава (от 23 ноября 1889 года), во-вторых, он дал для прочтения на заседании свой рассказ «Бабье царство», отрывок из которого 19 декабря 1893 года читал за отсутствием автора И. А. Линниченко. И в первом сборнике «Почин» (1895), изданном Обществом любителей российской словесности, опубликован рассказ Чехова «Супруга» (С. 279–285).
В протоколе заседания Общества от 11 октября 1903 года записано, что А. П. Чехов выбран единогласно временным председателем. В этом выразилось «желание Общества, чтобы во главе стоял рядом с выдающимися представителями науки также знаменитый художник слова». Секретарь В. В. Каллаш отправил Чехову в Ялту официальное извещение об избрании. Но он отмечал впоследствии: «Я настолько любил Чехова, как писателя, что в моём официальном извещении невольно проскользнули несоответствующие ему лирические ноты»[2]. Членам Общества было известно, что Чехов болен, но, по ходившим в Москве слухам, предполагалось, что здоровье его «поправилось» и что «он собирается провести зиму в Москве». При выборах Чехова временным председателем «никто, конечно, не думал, что Чехов будет в состоянии принимать постоянное участие в занятиях Общества, – всем хотелось, чтобы он стал ближе к нам, чтобы его имя объединило около Общества лучшие московские литературные и в особенности беллетристические силы»[3].
Каллаш долго не получал ответа на своё извещение. Из газет он узнал, что А. П. Чехов приехал в Москву. Тогда он послал второе извещение. В ответ он получил от А. П. Чехова письмо (от 12 декабря 1903 года) с согласием на избрание его временным председателем. Чехов писал: «Письмо Ваше я получил в Ялте своевременно, не отвечал же так долго по той причине, что Вы не сообщили мне ни Вашего адреса, ни Вашего имени-отчества. Я написал письмо В. А. Гольцеву с просьбой сообщить мне немедленно Ваш адрес, но ответа от него не получил. <…> Вчера я послал ответ А. Н. Веселовскому. Я написал ему, что о согласии моём или несогласии не может быть и речи, я очень рад и счастлив…» [П. 11, 360]. В упомянутом письме Чехова к Алексею Николаевичу Веселовскому (брату председателя Общества), в частности, говорилось: «Это избрание – честь <…> быть может, я мог бы пока быть полезен Обществу по издательской деятельности, мог бы редактировать, читать корректуру…» [П. 11, 360]. Каллаш не сомневался, что желание Чехова помогать в издательской деятельности «не было фразой». Своё предложение Чехов повторил и во время переговоров с членами Общества.
Но вскоре А. П. Чехов вынужден был отказаться от звания временного председателя Общества. На заседании 16 января 1904 года обсуждался отказ А. П. Чехова от должности товарища председателя. Решено «выразить сожаление» и избрать В. А. Гольцева, редактора журнала «Русская мысль»[4]. На этом же заседании Общество решило участвовать в чествовании А. П. Чехова-драматурга совместно с Художественным театром. Каллаш писал, что Чехов «счёл себя вынужденным временно отказаться от должности… Тогда же была выбрана особая депутация (в неё вошли А. Н. Веселовский, В. А. Гольцев и я), которая должна была на следующий день в Художественном театре приветствовать Чехова по поводу постановки «Вишнёвого сада» <…> Горячие приветствия публики и депутаций, видимо, очень тронули Чехова. Утомлённый и измученный, он выслушивал их стоя, несмотря на общие просьбы сесть, и в его милых, трогательно-печальных глазах светилась тихая радость слишком позднего нравственного удовлетворения…»[5].
Надежды на зиму 1904/05 года не сбылись, судьба хотела другого, и Обществу осталось почтить память своего минутного временного председателя торжественным публичным заседанием (24 октября 1904 года) и изданием особого Чеховского сборника…
В письме к Алексею Николаевичу Веселовскому от 2 февраля 1904 года Чехов благодарил за выраженное доверие и обещал будущей зимой «быть возможно полезным Обществу» [П. 12, 33]. О письме было сообщено на заседании 13 февраля 1904 года[6].
30 сентября в протоколе заседания Общества появилась запись: «Умер А. П. Чехов. Возложен венок от ОЛРС…»[7]. Сразу же было принято решение провести публичное заседание, посвящённое его памяти. Общество почтило память своего минутного временного председателя торжественным публичным заседанием 24 октября 1904 года. Казначей А. Е. Нос к заседанию заказал большой фотографический портрет Чехова. Председатель А. Н. Веселовский сказал вступительное слово, сделали доклады Ю. И. Айхенвальд («Некоторые мотивы творчества Чехова»), И. А. Бунин («Воспоминания о Чехове»), П. С. Коган («Чехов в ряду европейских юмористов»). Прозвучали прочитанные А. А. Федотовым и А. И. Сумбатовым рассказы А. П. Чехова «Человек в футляре», «Учитель» и «Детвора»[8].
На том же заседании секретарь В. В. Каллаш предложил издать Чеховский сборник. Предложение было принято. Гольцев посоветовал издавать сборник меньше по размерам и возможно дешевле. До того как были определены задачи Чеховского сборника, Каллаш обратился 5 марта 1905 года от имени Общества во все издания, где дебютировал А. П. Чехов, «с просьбой сообщить все имеющиеся данные по этому поводу»[9]. На основе присланных материалов Каллаш написал статью «Литературные дебюты А. П. Чехова», которую представил для сборника вместе с другой статьёй – «Отношения А. П. Чехова и Общества любителей российской словесности». Делали сборник Ю. И. Айхенвальд, А. Е. Грузинский и П. Н. Сакулин. Они решили вторую статью Каллаша принять, «изменив редакцию нескольких мест статьи, чтобы она могла пойти от имени всего Общества без подписи автора». Первую статью отклонили, так как она была «неподходящая к общему замыслу сборника. Сборник должен был состоять из воспоминаний и одной общей статьи»[10]. Было отказано Н. Ф. Сумцову в помещении в сборнике двух статей: «Скучная история» и «Человек в футляре». Грузинский писал Сумцову: «Сборник подбирается не научно-критического, а поминального характера и будет состоять из личных воспоминаний и одной общей характеристики его творчества в целом»[11].
Каллаш 27 апреля предложил при Чеховском сборнике дать неизданный портрет молодого Чехова, выделенный фотографом Павловым из группы писателей (конца 80-х годов), и второй портрет, более поздний[12]. Общество разослало предложения прислать воспоминания о Чехове всем, кто его близко знал. У Михаила Павловича Чехова просили разрешения перепечатать в сборнике его статью из июльского номера «Журнала для всех», на что он дал согласие в письме от 14 сентября 1905 года[13]. Мария Павловна Чехова в ответ на предложение прислать для сборника переписку семьи ответила телеграммой: «Прислать не могу. Подожду ещё год». А. И. Куприн вначале отказался. Он свои воспоминания «прочил» для общества «Знание», но потом прислал. В. Н. Ладыженский переработал статью, опубликованную в журнале «Мир Божий» (1905. № 4). В результате в сборнике были напечатаны вступительная статья В. В. Каллаша без указания его имени и статьи Ю. И. Айхенвальда, Мих. П. Чехова, И. А. Бунина, М. Горького, А. И. Куприна, В. Н. Ладыженского, А. М. Фёдорова.
Смета была составлена 8 ноября 1905 года в типографии А. И. Снегирёвой в Москве (Остоженка, Савёловский пер., собственный дом)[14]. 26 ноября 1905 года А. Е. Грузинский представил первые листы Чеховского сборника, а 13 февраля 1906 года отчитался о вышедшем сборнике под названием «Памяти Чехова». После выхода сборника М. П. Чехов в благодарственном письме за полученные 10 экземпляров книги восклицал: «Какая прекрасная книга!» 16 октября 1906 года на заседании Общества докладывалось о письме г. Фомина с предложением Обществу напечатать составленную им чеховскую библиографию. Постановили просить его прислать рукопись для напечатания в одном из будущих изданий общества. К сожалению, библиография не была опубликована[15].
В своём отчёте за бурный 1905 год Общество упоминало, что оно «приняло участие в чеховских поминках 2 июля». В 1906–1907 годах Общество наряду с вопросом о создании благотворительного фонда для бедствующих русских писателей обсуждало и правила по «Чеховскому капиталу» при Литературно-художественном кружке. Для этого была создана специальная комиссия, в которую вошли члены ОЛРС А. Е. Грузинский, М. П. Розанов, В. В. Каллаш[16].
А. В. Веселовский 27 сентября 1908 года доложил о том, что вместе с П. Д. Боборыкиным он присутствовал при открытии памятника А. П. Чехову в Баденвейлере и произнёс от Общества любителей российской словесности речь. 14 февраля 1909 года от В. В. Каллаша поступило предложение устроить в помещении Общества музей Чехова «для его автографов, портретов, литературы о нём и т. д.». В расходах на устройство музея согласились уже принять участие некоторые члены Общества. В организации его от семьи покойного писателя мог бы принять участие И. П. Чехов. Но это пока оставалось мечтой. 21 апреля 1912 года Общество решило передать в Румянцевский музей в организованную комнату Чехова все имеющиеся у него материалы[17]. В архивах Общества сохранилось свидетельство, что во время всероссийского сбора средств на памятник Гоголю Общество получило 25 рублей из города Сумы через А. П. Чехова.
В. М. Родионова
А. П. Чехов и братья Веселовские
Сначала – о Чехове и Александре Николаевиче Веселовском (1868–1906), русском филологе, историке литературы, родоначальнике исторической поэтики.
При многих внешних различиях (в начале 1880-х годов Веселовский – академик Российской академии наук, Чехов – студент медицинского факультета Московского университета; один воспитывался в дворянской семье с глубокими традициями дворянской культуры, другой – в семье бывших крепостных, много лет испытывавших материальную нужду; значительной была и разница в возрасте), тем не менее многое сближало их на основе культуры и литературы. Близкими были и их идеологические корни, заложенные учёбой в Московском университете, влиянием демократических идей шестидесятников, интересом к народной жизни и народной культуре.
Для Веселовского 1850-60-е годы (время предреформенное и время Крестьянской реформы) – это годы интереса к демократическим идеям, к работам Чернышевского, Герцена, Фейербаха, Бокля, к народной жизни; время, по его словам, тревожных раздумий и надежд. И для Чехова шестидесятые годы – «святое время», как он писал А. Н. Плещееву 9 октября 1888 года [П. 3, 21].
По окончании университета Веселовский всецело посвятил себя научным исследованиям. Чехов, как потом писал в Автобиографии, «уже на первом курсе стал печататься в еженедельных журналах и газетах, и эти занятия литературой уже в начале восьмидесятых годов приняли постоянный, профеcсиональный характер» [С. 16, 270]. Но в те же студенческие годы он проявил интерес и к медицине как науке, и к практической стороне профессии. Он собрал много материала для научного труда «Врачебное дело в России», который мог бы стать диссертацией. Во время летней практики работал в Воскресенской земской больнице у известного земского врача П. А. Архангельского, какое-то время был врачом в Звенигородской больнице. Позднее, совершив поездку через Сибирь на каторжный остров Сахалин, написал очерковую книгу «Остров Сахалин» – своего рода дань оставленной диссертации.
«Не сомневаюсь, – отмечал Чехов в Автобиографии, – занятия медицинскими науками имели серьёзное влияние на мою литературную деятельность; они значительно раздвинули область моих наблюдений, обогатили меня знаниями, истинную цену которых для меня как для писателя может понять только тот, кто сам врач; они имели также и направляющее влияние, и, вероятно, благодаря близости к медицине, мне удалось избегнуть многих ошибок. Знакомство с естественными науками, с научным методом всегда держало меня настороже, и я старался, где было возможно, соображаться с научными данными, а где невозможно – предпочитал не писать вовсе» [С. 16, 270].
Проблему науки и искусства Чехов рассматривал в единстве: «Знания всегда пребывали в мире. И анатомия, и изящная словесность имеют одинаково знатное происхождение, одни и те же цели, одного и того же врага – чёрта, и воевать им положительно не из-за чего. Борьбы за существование у них нет. Если человек знает учение о кровообращении, то он богат; если к тому же выучивает ещё историю религии и романс «Я помню чудное мгновение», то становится не беднее, а богаче, – стало быть, мы имеем дело только с плюсами. Потому-то гении никогда не воевали, и в Гёте рядом с поэтом прекрасно уживался естественник» [П. 3, 216].
Разносторонность знаний и научная новизна исследований Веселовского определили его авторитет учёного. Он был членом многих учёных советов в области сравнительно-исторического литературоведения, мирового фольклора в России и за рубежом. Чехов был избран в действительные члены Общества любителей российской словесности, Общества драматических писателей и оперных композиторов, Московского общества грамотности, участвовал в работе Общества искусства и литературы и др., был избран почётным академиком Российской академии наук по Разряду изящной словесности.
Большая просветительская деятельность и Веселовского, и Чехова способствовала прогрессу России. Будучи уже академиком Российской академии наук, Веселовский продолжал читать лекции в университете и на Высших женских курсах в Петербурге. Чехов занимался проблемами народных школ и как член Московского общества грамотности, и как помощник предводителя дворянства Серпуховского земства по школьному делу; заботился о книжных фондах школьных библиотек на Сахалине, создал большой книжный фонд для библиотеки родного города Таганрога, на свои средства построил три школы в подмосковных деревнях и в свои последние годы поддерживал начальные школы в Крыму.
А. Н. Веселовский и А. П. Чехов – пропагандисты идей преобразователя России Петра I. По инициативе Чехова в Таганроге был воздвигнут памятник Петру I. Для обоих Пушкин и Гоголь – кумиры, колоссы русской литературы, отразившие коренные проблемы русской жизни.
На их художественный фундамент мог опираться А. Н. Веселовский, определяя понятие, что есть история литературы. «История литературы, в широком смысле этого слова, – подчёркивал он в своей первой университетской лекции, материал которой вошёл в состав его знаменитого труда „Историческая поэтика“, – это история общественной мысли, насколько она выразилась в движении философском, религиозном и поэтическом и закреплена словом»[18]. Чехов подписался бы под этими словами: основание этому – его творчество. Чехов оставил яркий след в художественном мышлении народа, в истории его нравственного и эстетического развития, в формировании его самосознания, в развитии просветительской мысли своего времени. М. Горький считал Чехова «…писателем из тех, что делают эпохи в истории литературы и в настроениях общества…»[19].
В «Исторической поэтике» А. Н. Веселовский писал, отстаивая, по существу. положения В. Г. Белинского и Н. Г. Чернышевского, что литература должна отражать реальную жизнь, что каждое художественное произведение и наука о нём должны нести на себе печать времени. Развивал он и позицию теоретика «натуральной школы», отмечая: «…современная наука позволила себе заглянуть в те массы, которые до тех пор стояли позади их, лишённые голоса; она заметила в них жизнь, движение, неприметное простому глазу, как всё, совершающееся в слишком обширных размерах пространства и времени; тайных пружин исторического процесса следовало искать здесь, и вместе с понижением материального уровня исторических изысканий центр тяжести был перенесён в народную жизнь. <…> Историческая работа совершается снизу, великие люди принимают её из пелёнок, переживают сознательно…»[20].
Эстетическая программа В. Г. Белинского была настоящей школой для Чехова. В честь великого критика он участвовал и в сборнике «Памяти Белинского» (М., 1899), опубликовав рассказы «Оратор», «Неосторожность», «В бане».
Один из главных тезисов «Исторической поэтики» Веселовского: «…каждая культурная эпоха обогащает внутреннее содержание слова новыми успехами знания, новыми понятиями человечности. <…> Это внутреннее обогащение содержания, этот прогресс общественной мысли в границах слова или устойчивой поэтической формулы должен привлечь внимание психолога, философа, эстетика: он относится к истории мысли». Учёный так определяет одну из задач, стоящих перед литературоведами: «проследить, каким образом новое содержание жизни, этот элемент свободы, приливающий с каждым новым поколением, проникает старые образы, эти формы необходимости, в которые неизбежно отливалось всякое предыдущее развитие. Но это её идеальная задача, и я берусь только указать вам, что можно сделать на этом пути при настоящих условиях знания»[21].
8 января 1900 года Чехов был избран почётным академиком по Разряду изящной словесности, учреждённому в ознаменование столетия со дня рождения А. С. Пушкина. Ещё ранее, в 1888 году, Чехову была присуждена Пушкинская премия за сборник рассказов «В сумерках». Эти два решения принимались Отделением русского языка и словесности Российской академии наук в присутствии и при участии А. Н. Веселовского, в 1880 году ставшего академиком, а в 1899-м – председателем Отделения Академии наук.
Для А. Н. Веселовского не было проблемы, кого избирать в академики. Л. Толстой, Чехов, Короленко – вот первые «почётные академики» Академии наук после реорганизации Отделения русского языка и словесности в Разряд изящной словесности.
В это время авторитет Чехова огромен. Для современников он – непревзойдённый художник слова и выразитель идей своего времени. В январе 1902 года за пьесу «Три сестры» ему будет присуждена Грибоедовская премия.
К Чехову как к почётному академику от имени Академии наук дважды обращались академики М. И. Сухомлинов (1900) и А. Н. Веселовский (1901) с просьбой предложить кандидатов в почётные академики на очередное собрание академиков по Разряду изящной словесности. В письме к М. И. Сухомлинову от 3 мая 1900 года Чехов рекомендовал к избранию «Михайловского Николая Константиновича, Боборыкина Петра Дмитриевича, Спасовича Владимира Даниловича, Эртеля Александра Ивановича и Максимова Сергея Васильевича» [П. 9. С. 92]. Из предложенных Чеховым лиц были избраны С. В. Максимов и П. Д. Боборыкин.
А. Н. Веселовскому 5 декабря 1901 года Чехов писал:
«Милостивый государь Александр Николаевич!
Имею честь предложить на имеющиеся вакансии почётных академиков следующих кандидатов: Михайловский Николай Константинович, Мережковский Дмитрий Сергеевич, Спасович Владимир Данилович, Вейнберг Пётр Исаевич.
Покорнейше прошу Вас, милостивый государь, принять уверение в искреннем моём уважении и совершенной преданности.
Антон Чехов» [П. 1, 144, 448].
В чеховских рекомендациях раскрылись его объективность и душевное благородство, особенно если вспомнить, что критик Михайловский в прошлом не раз высказывал резкие, порой крайне неприязненные суждения о творчестве Чехова 1880-х годов, да и оценки Мережковского во многом были Чехову чужды.
8 января 1900 года Чехов сообщал А. С. Суворину:
«Здесь я часто видаюсь с акад<емиком> Кондаковым. Говорим о Пушкинском отделении изящной словесности. Та к как К<ондаков> будет участвовать в выборах будущих академиков, то я стараюсь загипнотизировать его и внушить, чтобы выбрали Баранцевича и Михайловского. Первый, замученный, утомлённый человек, несомненный литератор, в старости, которая уже наступила для него, нуждается и служит на конно-жел<езной> дороге так же, как нуждался и служил в молодости. Жалованье и покой были бы для него как раз кстати. Второй же, то есть Михайловский, положил бы прочное основание новому отделению, и избрание его удовлетворило бы 3/4 всей литературной братии. Но гипноз не удался, дело моё не выгорело. Добавление к указу – это точно толстовское послесловие к «Крейц<еровой> сонате». Академики сделали всё, чтобы обезопасить себя от литераторов, общество которых шокирует их так же, как общество русск<их> академиков шокировало немцев. Беллетристы могут быть только почётными академиками, а это ничего не значит, всё равно как почётный гражданин города Вязьмы или Череповца: ни жалованья, ни права голоса. Ловко обошли! В действ<ительные> академики будут избираться профессора, а в почётные академики те из писателей, которые не живут в Петербурге, то есть те, которые не могут бывать на заседаниях и ругаться с профессорами» [П. 9, 13–14].
25 февраля 1902 года в почётные академики был избран М. Горький, в тот же день баллотировался в почётные академики Алексей Н. Веселовский. Выборы Горького были отменены из-за негативной реакции Николая II.
6 апреля 1902 года Короленко в письме к А. Н. Веселовскому выразил своё отношение к произошедшему:
«Мне кажется, что, участвуя в выборах, я имел право быть приглашённым также к обсуждению вопроса об их отмене, если эта отмена должна быть произведена от имени Академии. Тогда я имел бы возможность осуществить своё неотъемлемое право на заявление особого по этому предмету мнения, так как, подавая голос свой, знал о привлечении А. М. Пешкова к дознанию по политическому делу <…> и не считал это препятствием для его выбора. Моё мнение может быть ошибочно, но и до сих пор оно состоит в том, что Академия должна сообразовываться лишь с литературною деятельностью избираемого, не справляясь с негласным производством постороннего ведомства <…>.
Выборы почётных академиков по существу своему представляют гласное выражение мнения Академии о выдающихся явлениях родной литературы. Всякое мнение по своей природе имеет цену лишь тогда, когда оно независимо и свободно. <…> Всякая человеческая власть кончается у порога человеческой совести и личного убеждения. <…> Смею думать, что это – величайшая опасность также для русской науки, литературы и искусства»[22].
Чехов и Короленко решили публично заявить о своём осуждении этого инцидента. Ряд лиц предпринимали попытки повлиять на Чехова, чтобы он отказался от задуманного выхода из Академии. Смеем предполагать, что и председатель Разряда изящной словесности академик А. Н. Веселовский также пытался повлиять на решение Чехова через академика Н. П. Кондакова, историка византийского искусства, знакомого Чехова по Ялте. Об их дружеских отношениях в Академии было известно. Кондаков систематически извещал Чехова о ходе выборов в почётные академики. Вот что писал он Чехову 12 марта 1902 года:
«…Вчера было особое заседание (вчера – 11 марта) Разряда изящной словесности <…> посвящённое тому же инциденту с Максимом Горьким. Прочли высочайший выговор. Затем долго читали «Правила» и пытались подобрать другие, но так ничего не подобрали и с тем разошлись, что соберётся частная комиссия <…> считаю своим долгом просить не усугублять горечи какими-либо заявлениями, как можно понять из Вашего письма. <…> Отделению нашему и без того горько, и едва возникший и ещё совсем не устроившийся Разряд может быть совершенно расстроен и даже закрыт, если не дадут пройти времени и новому положению основаться» [П. 10, 558, 559].
В подтверждение этого предположения – сообщение В. Г. Короленко от 10 апреля 1902 года: «Веселовский лично хотел назначить заседание в начале мая (не позже 15-го), но он ещё не знает, что скажет князь (который <…> 6 апреля, уже по прочтении моего письма, не позволил академику Маркову коснуться в общем собрании этого вопроса)»[23].
Заседание состоялось 10 мая. 29 апреля Чехову было послано приглашение на него (РГБ). Но он не смог из-за болезни О. Л. Книппер выехать из Ялты. О заседании Чехова подробно информировал Ф. Д. Батюшков в письме от 11 мая 1902 года: «Председательствовал А. Н. Веселовский, который сначала хотел снять с очереди заявление Владимира Галактионовича, объявив, что ему известно личное мнение великого князя, но не формулировав его и сославшись на его болезнь. Однако, по настоянию Арсеньева и Шахматова, заявление <…> стало всё-таки обсуждаться, и председательствующий должен был подчиниться силе „разговора“ <…> Академии ли выступать цензором образа мыслей с полицейской точки зрения? <…> все выразили <…> желание снять с Академии ответственность за приписанное ей объявление» [П. 10. С. 506–507]. Из-за болезни великого князя Константина Константиновича очередное заседание перенесли на осень.


