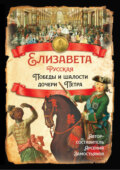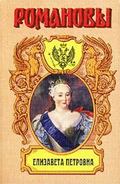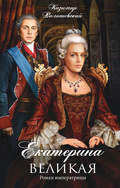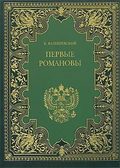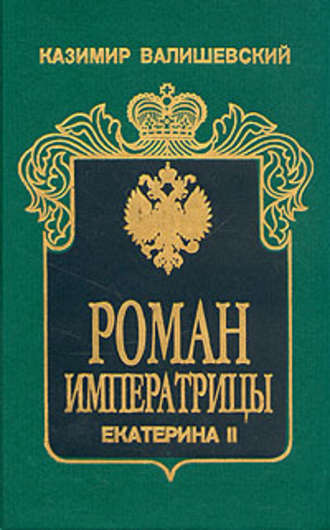
Казимир Валишевский
Роман императрицы. Екатерина II
«Вся моя наука состоит в знании, что все люди братья».
А между тем, сопровождая однажды на прогулке ее величество, английский посланник Гаррис был поражен обширностью тех знаний, которые неожиданно для него проявила императрица, говоря о конституции и законах его страны. Поговорив с ним об английских парках, Екатерина перешла на тему о сочинении Блэкстона, и дипломат почувствовал, что не в силах поддерживать с ней этот разговор. А Гаррис, получивший впоследствии известность под именем лорда Мальмсбери, был человеком далеко не заурядным. Правда, в течение своей посольской службы он не успел, вероятно, перечесть со вниманием громадное сочинение английского законодательства; Екатерина же была читательницей, для которой была создана латинская поговорка: Timeo homipem unius libri. Она относилась к книгам – хорошим или дурным, все равно, – как к людям и к вещам: она отдавалась им всей душой в ту минуту, пока они ее занимали. Ее разговор с Гаррисом происходил в 1779 году, и в это время она страшно увлеклась Блэкстоном (это видно по ее письмам к Гримму). Прежде она так же увлекалась Монтескье, а в свое время Сенак-де-Мейланом и Мерсье. Что же касается до выбора книг, то она руководилась в нем не только жаждой знания, но и другими соображениями. Известный кавалер д'Эон писал графу Брольи в 1762 году:
«Императрица очень любит читать и, после брака, большую часть времени употребляла на то, что поглощала современных французских и английских авторов, написавших лучшие сочинения о нравственности, природе и религии. Если какую-нибудь книгу осудят во Франции, то этого достаточно, чтобы она нашла ее превосходной. Она не расстается с произведениями Вольтера, с „Esprit“ Гельвеция и энциклопедическими статьями Жан-Жака Руссо. Она гордится своей смелостью, вольнодумством и философским складом ума; одним словом, это маленькая ученая с темпераментом».
Маленькая ученая с темпераментом! Но ведь д'Эон одним росчерком пера устанавливает здесь ту связь между интеллектуальным развитием Екатерины и мало назидательными подробностями ее интимной жизни, на которую указывали выше и мы. И этим соединяющим звеном между «другом философов» и императрицей, положившей начало открытому фаворитизму, послужила, несомненно, мораль Гельвеция.
Но как бы то ни было, приучившись проводить время за чтением за восемнадцать лет царствования Елизаветы и шесть месяцев царствования Петра, когда ей поневоле не оставалось делать ничего другого, Екатерина и впоследствии сохранила привычку много читать, насколько ей только позволяли ее новые занятия. В 1789 году она обменивается литературными новинками с графом Сегюром. По рассказу Храповицкого, она посылает французскому дипломату 11 января того года книгу «Memoires pour servir a l'histoire de Charles II»(?) и рекомендует ему прочесть еще другие сочинения, которые она сама не успела просмотреть, так как политика поглощает все ее время: мемуары Монлюка, Вильруа. А через неделю, пользуясь случайным затишьем в делах, она читает по шести томов в день и хвалится этим:
– Будут по крайней мере говорить, что я хоть читаю, – замечает она Храповицкому.
– Все и так давно это знают, – отвечает тот.
Императрица милостиво улыбается ловкому придворному:
– Правда, это говорят обо мне?
Среди прочих книг она читает также «Кларису» и другие романы.
Но естественно, что разобраться в тех сведениях, которые она черпала таким образом, читая по шести томов в день, и усвоить их она не могла; ее образование закончилось, как и началось, и напоминало ее политику: она работала над ним тоже «только урывками». Эрудиция ее состояла из смеси случайных знаний с громадными пробелами. Они были особенно плачевны в области географии. В 1787 г., после путешествия в Крым, она спрашивала Храповицкого, какие реки служат границей между Россией и Турцией. Около того же времени она с любопытством осведомилась, сколько градусов долготы занимает ее империя. Ей назвали число.
– Но ведь вы приводили мне ту же цифру еще до присоединения Крыма и Белоруссии!
Она не понимала, что завоевание этих провинций не могло изменить измерение ее громадного государства в отношении градусов долготы.
Из всех отраслей науки ближе всего ей была, по-видимому, история, и она изучала ее с наибольшим старанием. Но и тут ее старания были только поверхностны. Что же кажется до ее самостоятельных научных опытов, исторических исследований в области сравнительной этнографии и лингвистики, то они положительно смехотворны. В них так и бросается в глаза обычная для дилетантов наивность и основной недостаток мышления Екатерины: полная ее порабощенность какой-либо предвзятой целью или идеей. Так, доказывая воображаемую распространенность славянской расы по всему миру и упорно стремясь найти ее разветвления на обоих континентах, она доходит до того, что видит славян везде, даже в Америке: она считает Перу, Мексику, Чили славянскими колониями, и ей чудятся в их географических названиях то славянские корни, то окончания. Она даже во Франции находит славянское имя Перигор (Perigord): ей кажется совершенно неоспоримым, что оно состоит из трех славянских слогов.
Цитаты ее бывали в большинстве случаев неточны, а иногда до странности перепутаны. В письме к княгине Дашковой она приписывает г-же Дезульер следующие стихи:
«Je suis charme d'etre ne ni Grec ni Romain,
Pour garder encore quelque chose d' humain»,
возводя таким образом напраслину и на бедную Антуанетту де-Лижье и на Корнеля, написавшего:
«Je rends graces aux dieux de n'etre pas Romain,
Pour conserver encore quelque chose d'humain».
Впрочем, надо сказать, что и начальное образование Екатерины, которое она получила от г-жи Кардель и скучного Вагнера с его «Prufungen», было и осталось очень неполным. Свою неправильную французскую речь она постоянно пересыпала немецкими фразами, да и родной язык знала далеко не в совершенстве. Она делала в нем множество ошибок, и скорее ошибок синтаксических и грамматических, нежели ошибок правописания. Она обыкновенно путала mir u mich. Русский язык тоже сильно у нее хромал, и она сама сознавала это. Она сказала раз как бы себе в извинение одному из секретарей:
«Ты не смейся над моей русской орфографией; я тебе скажу, почему я не успела ее хорошенько узнать. По приезду моему сюда, я с большим прилежанием начала учиться русскому языку. Тетка Елизавета Петровна, узнав об этом, сказала моей гофмейстерине: полно ее учить, она и без того умна. Таким образом могла я учиться русскому языку только из книг без учителя и это самое причиною, что я плохо знаю правописание».
Но если она не научилась русскому правописанию, то зато не только изучила, но и в совершенстве усвоила сам дух русского языка со всеми его народными поговорками, особым складом речи, с его картинными образами. А сроднившись с духом языка, она сроднилась и с духом самого народа. И эта первая ее победа и помогла ей впоследствии так блестяще завоевать всю Россию: мы говорим здесь не только о власти, вырванной ею из рук слабого, малодушного и безумного Петра, но о том месте, которое эта немка сумела занять к концу своей жизни, и в особенности после смерти, в жизни, истории и национальном развитии чуждой и враждебной ей расы. Именно после своей смерти она стала тем, чем она является для нас теперь – великим видением прошлого, грозным, но лучезарным, величественным и милостивым, перед которым в единодушном порыве благодарности, гордости и любви склоняются и темный мужик, и ученый, перебирающий мемуары и предания, покрытые уже вековой пылью. Когда она скончалась, в России не оплакивали ее смерть. Это событие прошло почти незаметно. Тогда еще не успели понять Екатерину, а те, которые могли ее понять, были слишком немногочисленны. Но Екатерина воплощала в себе самую душу народную, историческую совесть России, и это воплощение не могло не ожить во взволнованном воспоминании потомков о великих делах, совершенных ею или при ней, – в посмертном апофеозе государыни, не знавшей себе равных и бывшей для народа не только великой Екатериной, но и любимой матушкой, лубочный портрет которой можно найти теперь даже и в бедной избе, где он висит в красном углу, рядом с чтимой иконой.
И в этой способности проникаться скорее сущностью вещей, нежели их формой, и сказался великий дух Екатерины. Пусть она ошибалась, цитируя Корнеля! Она сумела взять у французских писателей больше, чем слова, – их идеи; и те, которые она выбирала у них, были обыкновенно лучшими. У нее были между прочим и собственные мысли, далеко не заслуживающие пренебрежения. Их краткий очерк мы попытаемся дать в следующей главе.
Глава третья
Идеи и принципы
I. Ум непоследовательный и несистематический. – Эмпиризм. – Непостоянство идей и принципов. – Несколько твердых принципов и идей. – Чувство долга. – Культ потомства. – Русский национализм. – Преувеличенное представление о величии России. – Великая идея царствования: греческий проект.
С таким характером, как у нее, Екатерина, конечно, не могла быть женщиной с принципами, особенно принципами непреложными, и с твердо установившимися идеями. Ее идеи принимали порою – и это случалось нередко – форму «idees fixes», но лишь на мгновение: они были для нее не путеводными звездами, а кометами, быстро исчезавшими с ее горизонта. И что любопытно: несмотря на свое немецкое происхождение, Екатерина относилась с отвращением ко всякому доктринерству и доктринерам, к систематическому уму и людям системы.
«Вольтер, мой учитель, – писала она, – запрещает отгадывать, потому что тот, кто занимается отгадыванием, любит составлять системы, а кто любит составлять системы, непременно хочет подогнать под них was sich passt und nicht passt, und reimt und nicht reimt и потом самолюбие превращается у него в любовь к системе, отчего происходит упрямство, нетерпимость, преследования, – вещи, которых надо остерегаться, как учил мой учитель».
Доктринеры были в ее глазах шарлатаны, а люди системы – все равно что изобретатели управляемых воздушных шаров: в «баллоны» она не верила, и ставила поэтому графа Сен-Жермена, Монгольфьера и Калиостро на одну доску. Она относилась с недоверием даже к специалистам и профессионалам. То, что мы называем теперь «дипломатом с карьерой», было для нее синонимом совершенного глупца. Она всегда возмущалась против ученых педантов, «die perruckirte Haupter», как она их называла: «в большинстве случаев все, что они делают и пишут, подбито ветром, пусто и темно», говорила она. Она не хотела смотреть на присланный ей бюст Вольтера, потому что «учитель» был изображен на нем в парике. В дипломатии, как и в политике, как и везде, она выше всего ставила способность действовать по вдохновению. Ей казалось, что даже для военного искусства не требуется ничего другого. Она находила вполне естественным, что Алексей Орлов, в первый раз в жизни ступивший ногой на корабль, в ту же минуту превратился в образцового моряка, стал командовать адмиралами, заслужившими себе чин и репутацию в английском флоте, и выиграл самую блестящую морскую победу в современной истории.
Она во всем придерживалась эмпиризма. Ее знаменитое изречение:
«Вся политика основана на трех словах: обстоятельства, предположения и случайности», – доказывает это. Презирая и ненавидя врачей и медицину, она в то же время верила простым знахаркам и часто призывала их для себя и для других. «Доктора и хирурги со всего медицинского факультета… круглые дураки (sont betes a manger du Coin)», – писала она. Ведь в 1783 г. из-за них издох (sic) человек, прослуживший ей тридцать три года! Слова «болезнь» и «доктор» стали для нее равнозначащи. Но зато «капли Бестужева» – вот ценное и универсальное средство! «Я не знаю, из чего состоят эти капли, – говорила Екатерина: – знаю только, что в них входит железо. Их дают вместо хины (во французском подлиннике: „en guise de quiquina“ (sic); а я их даю во всех случаях». В 1789 г., страдая спазматическими коликами, она считала, что вылечилась от них, исключительно благодаря петербургскому митрополиту Петрову, обложившему ей тело подушками, набитыми ромашкой.
И в то же время она писала:
«О счастье и о несчастье, как и о многих других вещах, у меня есть свое представление (ma cathegorie (sic) a moi): и то, и другое происходит лишь от столкновения известного числа мер, справедливых или неправильных».
И эти слова доказывают, что и в своем презрении к системам Екатерина не была систематична.
Вообще, несмотря на вечные колебания в области мысли и отвлеченных суждений, у Екатерины было все-таки несколько твердых и установившихся убеждений.
«Одно достоверно, – писала она за несколько лет до смерти, – что я никогда ничего не предпринимала, не будучи глубоко убеждена, что то, что я делаю, согласно с благом моею государства: это государство сделало для меня бесконечно много; и я считала, что всех моих личных способностей, непрестанно направленных ко благу этого государства, к его процветанию и к его высшим интересам, едва может хватить, чтобы отблагодарить его».
Это чувство долга соединялось в ней еще с возвышенным представлением об ответственности ее перед особым, верховным судом – единственным судом, власть которого она над собой признавала. Это не был суд того, Кого называют «Царем царствующих». Для этого Екатерина слишком много читала Вольтера и недостаточно – Боссюэ.
«Одно потомство в праве судить меня, – говорила она. – Только перед ним я отвечаю: я смело могу сказать ему, что я нашла и что после себя оставлю».
Во время своего пребывания в Петербурге Фальконэ вступил как-то с Дидро, переписываясь с ним, в спор о том значении, которое художник должен придавать приговору этого посмертного суда потомков. Дидро защищал его верховную власть, а Фальконэ находил, что художник должен считаться только со своей артистической совестью. «Согласитесь ли вы, – написал ему тогда Дидро, – отдать решение этого спора в руки моей благодетельницы? Но берегитесь, мой друг, эту женщину опьяняет идея бессмертия, и ручаюсь вам, что она падает ниц перед видением потомства». Фальконэ согласился на суд Екатерины, но прибавлял, что, каково бы ни было ее решение, он своего мнения не изменит. «Найдите на земле власть, достаточно сильную, чтобы отнять у меня лицо, не отняв головы, и я признаю, что я не прав», – писал он. Мы не знаем, чем кончился этот спор.
Был еще один пункт, относительно которого Екатерина тоже никогда не меняла мнения, – это стремление придать национальный, чисто русский характер своему царствованию, и всей – и политической, и интеллектуальной, и нравственной – жизни того славянского народа, судьбами которого она, немецкая принцесса, призвана была управлять. Этим стремлением были проникнуты не только ее законодательные акты и внутренняя политика, но и малейшие ее поступки. Фальконэ пришлось долго доказывать ей, что невозможно изобразить Петра I на памятнике в русском платье, которое царь с таким ожесточением преследовал при жизни. Екатерине хотелось бы, чтобы все позабыли об этой странице в истории великого законодателя. Ей хотелось вообще, чтобы ее новая родина – не только в ее настоящем, но и в прошлом – рисовалась бы людям согласно не с действительными фактами, а с тем представлением, которое она сама составила себе об этой громадной стране с такими необъятными горизонтами, что там было где разгуляться ее воображению. Она дошла до того, что даже переделала по-своему всю историю Московского государства. Когда Сенак де-Мейлан предложил ей в 1790 г. написать историю ее великой страны, она долго колебалась. «Сумеет ли он, – писала она, – отрешиться от предвзятого мнения, „с которым большинство иностранцев смотрят на Россию?“ Они, пожалуй, думают даже, что „до Петра Великого в этом государстве не было ни законов, ни администрации“. Но „хотя смуты после смерти царя Ивана Васильевича и отодвинули Россию лет на сорок, на пятьдесят назад, но до этого времени Россия ни в чем не отставала от Европы… русские великие князья принимали самое видное участие в европейских делах и находились в дружественных и родственных отношениях со всеми царствующими домами нашего полушария…“
Бедный Сенак сразу понял, как трудно ему будет удержаться на высоте такой задачи. Но Екатерина говорила вполне искренно. Она писала в то же время и Гримму:
«Ни одна история не дает лучших и более великих людей, чем наша» (она выражалась сознательно, называя «нашей» историю России, так тесно связанной с ней). «Я люблю эту историю до страсти».
Она требовала, впрочем, чтобы ее собственному царствованию было отведено в этой истории подобающее место, «потому что мы живем в такое время, когда не только нельзя преуменьшать блеск событий и дел, но надо скорее поддерживать его в умах». Согласится ли Сенак, чтобы ему «давали указания» в этом смысле?
В этих словах опять сказалось то преувеличенное представление Екатерины о могуществе России, на которое мы уже указывали выше: громадное царство, так неожиданно доставшееся ей в ее полную власть, приняло постепенно в уме императрицы какие-то неисчислимые размеры. И эта гиперболическая идея о величии, которую она применяла ко всем сторонам национального достояния России, – к ее прошлому и к настоящему, к территории, населению, материальному могуществу и нравственной ценности, к ее первенствующей роли в славянском мире и к важности значения в Европе, – никогда не покидала Екатерину и сильнее всех остальных идей держала ее ум в своей власти. В этом отношении Екатерина была одержима словно каким-то безумием. Она, как загипнотизированная, не могла отвести глаз от грандиозного видения, созданного собственной галлюцинацией. И как ни высоко она ставила себя, заслуги своего царствования и высокие дела, совершенные ею, и как ни хотела, чтобы и другие ценили ее так же, но она не колеблясь унижала себя, проводя параллель между собой и Россией,
«Все, что я сделала для России, только капля в море», – говорила она.
Россия – это было море, неизмеримо глубокий океан, с берегами, уходящими в бесконечность. Вот почему она так легко соглашалась потопить в нем свое прошлое и даже самое воспоминание о своей немецкой родине. Положим, в 1783 году, жалуясь на султана Абдуль-Гамида, она написала Гримму: «Das ist unmoglich dass ich mir sollte auf die Nase spielen lassen. Вы знаете, что никогда ни один немец этого бы не потерпел».
Но это слово «немец» просто сорвалось у нее тут с языка: у нее был такой подвижной ум, что ей случалось, как она сама в том признавалась, не отдавать себе отчета в том, чего она хотела или что говорила, в особенности, когда она, с пером в руках, беседовала с поверенным своих тайн, то есть в минуты полной непринужденности и отдыха от тяготы и утомительности своего царского служения. Но в общем она с редкой добросовестностью применяла к себе свою руссофильскую программу и действительно стала русской до мозга костей: не только по внешности или когда с тонким искусством разыгрывала роль русской царицы, но искренно и глубоко, и духом и плотью, и в душевном разговоре, и в повседневных поступках, и в самой своей сокровенной мысли. Строк, которые мы приведем ниже, вероятно, не видел никто до ее смерти, а между тем она написала их:
«Никогда еще мир не производил существа более мужественного, степенного, открытого, человечного, милосердного, великодушного и услужливого, нежели скиф. (Скиф и русский – были понятия однозначащие в глазах Екатерины). Ни один народ не сравнится с ним в правильности и красоте черт лица, в яркости румянца, в осанке, сложении и росте, так как тело у него или очень дородное, или нервное и мускулистое, борода густая, волосы длинные и пушистые; он по природе своей далек от всяких хитростей и обмана: его прямота и честность гнушаются темных дел. Нет на свете наездника, пешехода, моряка, а также хозяина, равного ему. Ни у кого нет такой нежности к детям и близким. У него врожденное чувство почитания к родителям и начальникам. Он быстро, точно повинуется и верен».
Ведь это почти бред! Мы соглашаемся, что в этих словах Екатерины слышится отзвук ее личных и, пожалуй, слишком интимных воспоминаний. Но, несомненно, что любовь, которою несколько русских научили ее любить Россию, стала в ней со временем более одухотворенной, чистой и глубокой.
Среди идей, которым Екатерина тоже оставалась неизменно верна, не забудем упомянуть и великую идею ее царствования: греческий проект. Еще в 1762 г., прислушиваясь к тому, что нашептывал ей Миних, Екатерина заинтересовалась этим планом.
И этот интерес не остыл в ней до самой ее смерти. Правда, то была прекрасная мечта, принявшая в воображении Екатерины волшебные очертания: воскрешение Греции, освобождение южных славян сменялись другими видениями, одинаково светлыми, но менее бескорыстными. Екатерине рисовался Константинополь, открывающий ворота христианскому миру, представителем которого являлось бы русское войско; ей рисовался на куполе Св. Софии осьмиконечный греческий крест вместо полумесяца, и у подножия креста щит с двуглавым императорским орлом… Вот почему второй сын Павла был назван Константином, а не Петром или Иоанном, вот почему у него была кормилица-гречанка и дядька-грек, ставший впоследствии видным лицом: граф Курута. Был также учрежден греческий кадетский корпус, новая греческая епархия в Херсоне, вверенная болгарину, епископу Евгению. В Петербурге выбивали медали с символическими и многозначительными изображениями: на одной стороне находилось изображение императрицы, на другой – Константинополь в пламени, минареты, обрушивающиеся в море, и над ними сияющий крест в облаках. В этом отношении очень поучительно чтение «Дневника» Храповицкого. 17 августа 1787 г. Екатерина рассматривает тайный проект Потемкина о завоевании Баку и Дербента. Их можно было бы захватить, воспользовавшись волнениями в Персии, и, присоединив к ним еще кое-какие земли, закруглить границы новой русской провинции под названием Албания: это могло бы быть предварительное удельное княжество для великого князя Константина. 21-го апреля 1788 г. поднимается вопрос о Молдавии и Валахии: они должны остаться независимыми, чтобы послужить основанием для будущей «Дакии», т.е. будущей греческой монархии. 9 октября 1789 г. Екатерина уже совершенно раскрывает карты. Греков пора «оживить»: Константин может взять на себя это дело. Этому мальчику предстоит большое будущее. В тридцать лет он сумеет «проехать из Севастополя в Царьград»…
Но вот приблизительно все, что было постоянного и устойчивого в воззрениях Екатерины Великой на дела мира сего. Постараемся разобраться в остальных ее идеях.
II. Другие идеи Екатерины. – Хаос. – Отчет перед судом собственной совести. – Философские идеи. – Идеи религиозные. – Непоследовательность. – «Мои славные плуты иезуиты». – Веротерпимость.
Это полный хаос. Хаос – грандиозный по размерам, но беспорядочный по содержанию. К счастью, в бумагах Екатерины сохранился документ, который опять может послужить нам путеводной нитью: это тоже автобиографический набросок, написанный Екатериной в 1789 году, – что-то в роде отчета перед судом собственной совести.
«Если мой век меня боялся, – читаем мы: – то был глубоко не прав; я никогда никому не хотела внушать страха; я хотела бы, чтобы меня любили и уважали, поскольку я этого стою, но не больше. Я всегда думала, что на меня клевещут, потому что не понимают меня. Я встречала многих людей, которые были бесконечно умнее меня. Я никогда не ненавидела и не презирала. Мое желание и удовольствие состояли в том, чтобы сделать других счастливыми… Честолюбие мое, наверное, не было злым, но, пожалуй, я взяла на себя слишком много, считая людей способными стать разумными, справедливыми и счастливыми… Я высоко ставила философию, потому что душа у меня была всегда искренно республиканской. Я согласна, что это, может быть, странный контраст: душа моего закала и неограниченная власть, принадлежавшая мне, но зато никто в России не может сказать, чтобы я этой властью злоупотребляла. Я люблю изящные искусства исключительно по природной склонности. Что касается моих сочинений, то я всегда смотрела на них, как на пустяки; я просто любила пробовать перо в различном роде; мне кажется, что все, что я написала, довольно посредственно; поэтому я никогда не придавала этому никакого значения, кроме развлечения, которое это мне доставляло. Что касается моего поведения в политике, то я старалась следовать предначертаниям, которые казались мне наиболее полезными для моей страны и наиболее выносимыми для других. Если бы я знала лучшие, то следовала бы им… Хотя мне отплачивали неблагодарностью, никто, по крайней мере, не скажет, чтобы я сама бывала неблагодарной. Я часто мстила врагам тем, что делала им добро или прощала их. Человечество вообще имело в моем лице друга, который ни при каких обстоятельствах не изменял ему».
В этих строках очень много здравого смысла, как почти во всем, что писала или делала Екатерина; но в них также и очень много самодовольства. Екатерина была, очевидно, твердо убеждена в том, что не изменяла в течение всей жизни тем четырем правилам поведения, которые наметила себе и которые в том же 1789 году предписывала в одном из писем и Потемкину: «Будь верен, скромен, привязан и благодарен до крайности», – писала она. Она ставила себе, кроме того, в актив еще и другие заслуги и качества, отрицая в себе только – и то с оговорками – литературный талант. 1789 год был для нее вообще временем, когда она сосредоточилась в себе, оглянулась назад и постаралась отдать себе отчет в своем «я». И результат этого внутреннего экзамена, по-видимому, удовлетворил ее. Была ли она при этом искренна? Вероятно. Так же искренна, как и 6 июня 1791 года, в самый разгар второй турецкой войны, начатой исключительно из-за ее честолюбия и продолжавшейся всецело благодаря ее энергической воле, когда она писала:
«Мы никогда войны не начинаем, но защищаться умеем».
Она, как женщина, была способна сама вообразить и стараться убедить и других, что Польша первая открыла в 1772 году враждебные действия против России, и что, взяв Варшаву двадцать лет спустя, Суворов только защищал Петербург.
Но рассмотрим наиболее характерные черты в этой исповеди Екатерины. Она ценила философию, говорит она. Мы думаем, что она смешивает тут философию с философами. Да и эти последние не всегда пользовались ее милостями. Граф Гилленборг сказал ей, что у нее «философский ум», потом Вольтер повторил ей то же самое, и она кончила тем, что поверила им. Но мы уже говорили об этом: это было одним из основных заблуждений ее жизни. В действительности ум ее был чисто практический и, по-видимому, совершенно неспособный к отвлеченному мышлению. Она всегда приспособляла мысли к своим интересам. И разве хоть когда-нибудь она остановилась на абстрактной идее? Даже те ее замечания, в виде философских изречений, которые попадаются, – положим, редко, – в ее переписке и разговорах, все-таки носят не отвлеченный характер; например, ее слова, когда она словно провидела тот высший социальный закон, который, согласно современной науке, управляет человечеством: она наблюдала из окна за воронами и галками, весело носившимися в воздухе после сильного грозового дождя, и сказала: «После дождей выползли из земли червяки; они (птицы) их едят». И прибавила: «Tous se mangent dans ce monde-ci» («все пожирают друг друга на этом свете»). Или другой ее афоризм, где она рисует недурной портрет своих приближенных:
«Суждения придворных принадлежат обыкновенно к тем, которые заслуживают меньше всего внимания. Эти господа, несмотря на то, что задирают нос кверху, близоруки. Они похожи на людей, стоящих внизу башни: то, что находится наверху ее и видно лишь с высоты птичьего полета, обыкновенно ускользает от них».
Но если у нее не было философских идей в прямом значении этого слова, то каковы были ее религиозные убеждения? Это – загадка. Мы не говорим, конечно, о вере, в которой она родилась: та была давно позабыта и совершенно вычеркнута и из памяти и из совести Екатерины, – позабыта настолько, что в 1774 г. Екатерина могла написать спокойно: «Мартин Лютер был невежественный мужик». Но ее новые религия и вероисповедание? Временами кажется, что она относилась к ним свысока: искренно говоря, она просто над ними смеялась. Описывая Гримму Киев, эту святыню России, она передала ему поклон от благоверного князя Владимира и выражалась чрезвычайно вольно о его мощах, которым ходила поклониться. Румянцова она называла Николаем Угодником, и по этому поводу пускалась в каламбуры, очень далекие от духа православия. Ее шутки насчет приготовления св. мира в Москве – были тоже несколько дурного тона.
Все это было, впрочем, вольнодумством в духе Вольтера. Но была ли Екатерина при этом и деисткой, как ее учитель? В 1770 г. она писала г-же Бельке:
«Я радуюсь, что принадлежу к глупцам, верующим в Бога». Но зато иногда она производила впечатление последовательницы чистого рационализма.
«Эйлер предсказывает нам конец мира к июлю будущего года, – писала она. – Он для этого нарочно вызывает две кометы, которые – уж не знаю, что именно, – сделают Сатурну, и тот, в свою очередь, явится нас уничтожить. Но великая княгиня (Мария Федоровна, супруга великого князя Павла) убеждает меня этому не верить, потому что еще не исполнились все пророчества Евангелия и Апокалипсиса, а именно еще не явился антихрист, и верующие не объединились. А я на все это отвечаю, как севильский цирюльник. Я говорю одной: „Да благословит вас Бог“, и другому: „Оставьте меня в покое“, и продолжаю жить по-старому. Что вы об этом думаете?»
Но когда в 1790 г. исповедывавший Екатерину священник заподозрил искренность ее веры, она сумела ему ответить. «Я сейчас сказала tout Ie Symbole (весь символ веры), – рассказывала она Храповицкому: – а ежели хотят доказательств, то такие дам, о которых они и не думали. Я верю всему, на семи соборах утвержденному, потому что св. отцы тех времен были ближе к апостолам и лучше нас все разобрать могли».
Но к чему она относилась безусловно без всякого уважения, – это видно по многочисленным заметкам, рассеянным в ее переписке, – это к внешним проявлениям культа, к обрядам, «momeries», как она их называла. Положим, она нападала обыкновенно только на обряды католической церкви, но ясно, что ее наблюдения и сарказмы метили в сущности дальше, так как православная церковь в этом отношении мало уступает римской. Говоря об одном церковном обычае, распространенном в Испании, Екатерина писала: