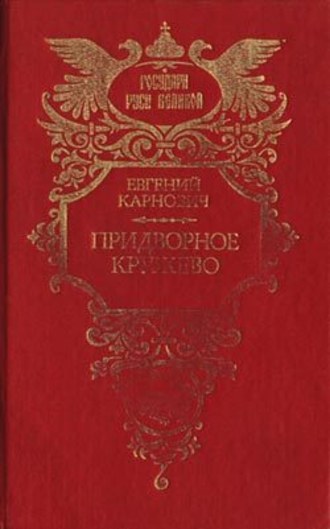
Е. П. Карнович
На высоте и на доле: Царевна Софья Алексеевна
V
Проводив Ртищева, Морозова принялась за обычные занятия, а их у нее было не мало: всеми делами обширного своего как городского, так и деревенского хозяйства заправляла она сама, да сверх того были у нее и другие хлопоты. Дом ее был полон посторонними людьми, которых она у себя приютила. Кроме Аввакума, Федора и Киприана, жило у нее еще несколько юродивых мужчин и женщин, а также пять инокинь, изгнанных из монастырей за приверженность к древнему благочестию. Проживали у нее также сироты, старицы, странницы, захожие черницы и калеки. Одних нищих кормила у себя боярыня человек по сто каждый день. Словом, благочестие господствовало в доме Морозовой, а чтение священных книг и молитвенное пение немолчно слышались в ее обширных хоромах.
Много добрых дел творила она на стороне: выкупала с правежа* должников, щедрою рукою раздавала милостыню нищим, посещала колодников; ездила она также и по церквам и монастырям, оскверненным никонианами, но делала это, как говорила она, только «из приличия». Не довольствуясь благочестивыми подвигами, она захотела постричься в монахини, хотя ей встречалось в этом случае особое затруднение: сын Морозовой подрастал и предстояло вскоре справлять его свадьбу, на которой ей пришлось бы быть хозяйкою, а в иноческом чине этого делать не подобало.
– Пусть будет, что будет, а о душе надобно пещись прежде всего, – сказала боярыня и решилась постричься, несмотря на то что от такого намерения отклонял ее Аввакум.
И тайно от всех ее постриг бывший игумен Домфей, один из ревностнейших расколоучителей. Аввакум и после этого сохранил свою прежнюю силу над боярынею-инокинею, и любила она часто и подолгу беседовать с ним.
– Не наделил их Господь разумом, – говорил однажды протопоп боярыне. – Оба царевича и все царевны куда как тупы рассудком, одна царевна Софья Алексеевна заправская умница и чем более подрастает, тем более крепнет умом. Сказывал мне не раз князь Василий Васильич Голицын, что не может надивиться ее светлому разуму, все она в толк взять может. Как заговорят с нею о делах государственных, так она складнее всякого боярина и думного дьяка рассуждает, да и к книжному учению она куда как прилежит. Поверишь ли, матушка, что она писание Сильвестра Медведева вчерне поправляла и на многие погрешности ему указала и недомыслия его разъяснила! Послушала бы ты, что о ней князь Иван Андреевич Хованский* рассказывает. Да и вообще слышно, что такой разумной девицы никогда в целом свете еще не бывало…
– Вот бы ее от никонианства отвратить да преклонить бы на нашу сторону! Царевна ведь! – перебила Морозова.
– Велика важность, что царевна! – с презрением отозвался протопоп. – Пожалуй, и ты Бог весть что о себе думаешь? Али ты лучше нас тем, что боярыня? Помни, что одинаково над нами распростер Бог небо, одинаково светит нам месяц и сияет солнце, а все прозябающее служит мне не меньше, чем и тебе, – говорил протопоп, повторяя в главных чертах свое основное учение.
Протопоп призадумался. В голове его зашевелилась обычная, не дававшая ему покоя мысль.
«Богу достоит поклонятися духом, – думал он. – Ошибки в церковных книгах сами по себе небольшая еще беда, и по таким книгам и даже вовсе без книг может молиться тот, кто захочет. Книги – только предлог, чтоб поднять народ против государственного и мирского строения».
– Нет, матушка, нам нужна не царевна, а ее душа, ведь и у нее такая же душа, как и у меня, а душа человеческая – не игрушка. Справим мы наше мирское дело и без царевен. Тот, кто на земле пребывал на доле, пребудет по смерти на высоте.
– О царевне Софье Алексеевне я заговорила, отец протопоп, потому только, что твоя пречестность сам навел меня на мысль о ней своими речами, – робко извинялась Морозова.
– Ни кого и ни на что не навожу я моими речами, – резко отозвался суровый Аввакум, а сам между тем подумал: «Как бы все-таки хорошо было, если бы удалось уловить в сети раскола умную и бойкую Софью Алексеевну!»
Как ни таила Морозова свою принадлежность к расколу, но молва об этом дошла наконец до царя. Проведал он также, что она привлекла к расколу и сестру свою, боярыню княгиню Евдокию Прокофьевну Урусову*. Подшепнули великому государю и о том, почему боярыня Морозова несколько лет тому назад не захотела сказывать на свадьбе его величества «царскую титлу». Узнав об этом, «тишайший царь» пришел «в огнепальную ярость» и отправил снова к боярыне дядю ее Михаила Алексеевича Ртищева. На этот раз дядя поехал не один, а взял себе на подмогу свою дочь Анну, двоюродную сестру Федосьи, которую прежде так нежно любила Морозова.
Боярин заговорил племяннице свои прежние речи, но встретил с ее стороны ту же непреклонность. Заговорила после него Анна.
– Ох, сестрица, – сказала она, – съели тебя старицы. Как птенца отучили тебя они от нас; не только нас презираешь, но и о сыне своем не радеешь, а надобно бы тебе и на сонного его любоваться, над красотою его свечку поставить! Сколько раз и великий государь красотой его любовался…
– Не прельщена я старицами, – сурово отвечала Морозова. – Творю я все по благости Бога, которого чту целым умом, а Христа люблю более, чем сына. Отдайте моего Иванушку хотя на растерзание псам, а я все-таки от древнего благочестия не отступлю. Знаю я только одно: если я до конца в Христовой вере пребуду и сподоблюсь за это вкусить смерть, то никто не может отнять у меня моего сына; в царствии небесном соединюсь я с ними паки.
Ртищев убедился, что попусту будет уговаривать упорствующую племянницу. Он распрощался с нею, поехал к царю и доложил обо всем по правде, боясь, что теперь и помимо него государь проведает.
Алексей Михайлович нахмурил брови.
– Ступай к боярыне Морозовой, – обратился он к бывшему при докладе Ртищева князю Троекурову*, – и скажи, что тяжко ей будет бороться со мною. Один кто-нибудь из нас одолеет, и наверно одолею я, а не она!
Вернулся князь Троекуров от Морозовой и коротко и ясно донес государю, что боярыня покориться не хочет и новых книг не принимает.
Заговорили в теремах об ослушании Морозовой перед царскою волею.
– Вишь ведь какая упорная!.. – повторяли женщины, окружавшие Софью Алексеевну. – Только боярыня, а как упорствует, никого себе в версту не ставит!
Чутким ухом прислушивалась девятнадцатилетняя царевна к рассказам о Морозовой.
«Вот и женщина, – думалось ей, – а по твердости нрава и по смелости не уступает мужскому полу. Не будь только робка, а наделаешь много», – добавляла мысленно царевна, и пример Морозовой ободрял молодую девушку в ее намерении действовать решительно и отважно, если бы представился к тому случай. Захотелось ей также узнать и о расколе, которого так крепко держалась Морозова, и с вопросом об этом обратилась она однажды к князю Ивану Андреевичу Хованскому, который тоже слыл в Москве тайным врагом никониан.
– Тут, благородная и пресветлейшая царевна, выходят разные церковные препирательства, – отвечал уклончиво князь Иван на вопрос царевны о различии между новою и старою верою. – Ведать об этом должен духовный чин, а не мы, миряне. Думается, впрочем, одно: в том, что зовут ныне у нас расколом, кроется небывалая народная сила, и что если она поднимается, то трудно будет одолеть ее мирским и духовным властям. Вознесет она того, кто будет ею править…
Такой отзыв Хованского о расколе зародил в ней мысль воспользоваться, когда придет пора, этою грозною силою.
VI
Почти с год оставил царь Морозову в покое, как вдруг до него дошел слух, что она не называет его благоверным.
– Не именует меня благоверным, стало быть, не признает моей царской власти! – вспылил он и отправил к Морозовой боярина князя Петра Семеновича Урусова с повторительным требованием, чтобы она покорилась.
Сообщил Урусов царское повеление своей снохе и грозил ей страшными бедами.
– Почто царский гнев на мое убожество? – смиренно отвечала Морозова. – Если царь хочет отставить меня от веры, то десница Божия покроет меня. Хочу умереть в отческой вере, в которой родилась и крестилась.
– Не покоряется боярыня твоему царскому величеству, – печально доложил Урусов царю.
– Не покоряется? Так разнесу я ее вконец! – грозно крикнул великий государь и гневно затряс своею темно-русою бородою.
Урусов, выйдя из дворца, поспешил домой, чтобы через свою жену предупредить Морозову о предстоящей ей беде. Но с бесстрашием выслушала боярыня эту грозную весть.
– Матушки и сестрицы мои во Христе Иисусе! – заговорила она, собрав около себя всех живших в доме ее монахинь и странниц. – Наступил час пришествия антихристова, беда движется на нас, идите вы все от меня, куда вас Господь наставит, а я одна буду страдать за вас.
– Ты одна не останешься, я с тобою до конца пребуду! – заливаясь слезами и кидаясь на шею сестры, вскрикнула княгиня.
Между тем сильно струхнувшие старицы и странницы, позабрав наскоро свои мешки и котомки и получив от боярыни денежную и съестную подачку, с плачем и жалобными причитаниями выбрались из ее хором и разбрелись по Москве и за Москву во все стороны.
Стало вечереть, на колокольнях московских церквей отзвонили ко всенощной. Загородили в Москве улицы на ночь рогатками, и все успокоилось, как будто замерло в городе. Отходя ко сну, боярыня и княгиня сотворили усердную и продолжительную молитву, после которой Морозова легла в постельной, а княгиня в соседней комнате. Они крепко спали, когда вдруг на улице около хором послышался шум, а следом за тем раздался сильный стук в воротах, в которые колотили несколькими палками с настоятельным требованием, чтобы тотчас же отсунули затвор.
– Царская посылка к нам прибыла! – в ужасе вскрикнула проснувшаяся боярыня.
Она хотела вскочить, но ноги у нее от страха подкосились, и она снова опустилась на постель.
– Не бойся, сестрица! – отозвалась из другой комнаты тоже проснувшаяся княгиня. – Христос с нами! Сейчас приду к тебе, положим начало нашим страданиям.
Княгиня спешно вошла в постельную.
Пока отворяли ворота и слышались тяжелые шаги шедших по лестнице людей, обе сестры клали на прощанье одна перед другою земные поклоны, а потом, благословясь друг у друга, легли на прежние места.
Вскоре дверь в постельную отворилась, и при тусклом свете лампад боярыня увидела перед собою седобородого архимандрита Чудова монастыря Иоакима* в сопровождении думного дворянина Лариона Иванова.
– Встань, боярыня! – повелительным голосом сказал вошедший архимандрит. – Я принес тебе царское слово.
Боярыня не отозвалась на эту речь и даже не пошевелилась.
– Встань, говорю тебе! – прикрикнул Иоаким. – В присутствии духовного лица лежать тебе не приличествует.
– Я больна, – пробормотала Морозова.
– Ну, перемогись, а все-таки встань. Говорю тебе не от своего имени, а от имени благоверного великого государя.
– Какой он благоверный! – вспылила Морозова, быстро привскочив в постели, и затем снова опустилась на нее.
– Говорить так тебе негоже, – внушительно заметил архимандрит, – да и лежать теперь не след; не можешь стоять по болезни, так хотя посиди на постели.
– Не встану и не сяду, – отозвалась упорно Морозова и с этими словами отвернулась на постели от архимандрита.
– Добром с тобою, как видно, ничего не поделаешь; спрошу благоверного государя, как повелит он поступить с такою ослушницею.
– Какой он благоверный! – сердито проговорила Морозова.
Архимандрит сделал вид, что не слышал этих предерзостных слов.
– Посмотри, кто там, в другой горнице, – приказал он думному дворянину.
– Ты кто такая? – окликнул Иванов, заглянув в соседнюю комнату и увидав там лежавшую на лавке женщину.
– Я жена боярина князя Семена Петровича Урусова, – отозвалась княгиня.
– А спроси-ка ее, как она крестится? – приказал Иоаким Иванову.
Княгиня быстро соскочила с лавки и, вбежав опрометью в постельную, остановилась перед архимандритом.
– Сице* верую! – закричала она, подняв руку, сложенную в двуперстное крестное знамение.
Архимандрит только крякнул и значительно покачал головою.
– Сторожи-ка их здесь, не пускай никуда, а я отправлюсь к его царскому величеству испросить, как велит он поступить с ними, – сказал Иоаким дворянину.
С этими словами архимандрит вышел, а Иванов остался караулить боярынь.
Когда архимандрит пришел в царские палаты, пробило четыре часа утра, и царь Алексей Михайлович был уже на ногах. Архимандрит доложил царю, чем кончилась его посылка, и рассказал, как Морозова крепко сопротивляется царскому велению, прибавив, что и княгиня Урусова оказалась непокорна.
– Истинно ли ты говоришь? – спросил, удивившись, царь. – Не думаю я, чтобы так было. Слышал я, что княгиня смиренна и не гнушается нашей службы, а про боярыню я давно знаю, что люта и сумасбродна.
– Сестра боярыни, – возразил Иоаким, – не только уподобляется ей, но еще злее ругается.
– Так возьми их обеих под караул да допроси хорошенько слуг Морозовой! – распорядился царь.
Архимандрит из царских палат отправился снова в хоромы боярыни Морозовой.
– Велено отогнать тебя от дому; полно жить на высоте, сойди долу! – торжественно заявил он, входя в постельную. – Встань и иди отсюда!
Боярыня лежала и безмолвствовала. Как настоятельно и грозно ни приказывал ей встать с постели архимандрит, она, казалось, не обращала никакого внимания.
– Нечего делать! – сказал он Иванову. – Приходится забирать ее силою.
Думный дворянин отворил окно, крикнул во двор, и на зов его вошли в постельную несколько стрельцов.
По приказанию архимандрита они приподняли с постели полновесную боярыню и, посадив ее силою в кресла, понесли из хором.
На поднявшийся шум прибежал наверх молодой боярин Иван Глебович. Он хотел было проститься с матерью, но его не допустили, и он мог только положить ей вслед земной поклон.
Княгиня не упорствовала. Она беспрекословно подчинилась приказу архимандрита идти в людскую хорому, в которую втащили на креслах и Морозову. Там по приказанию архимандрита заковали им руки в тяжелые железа, а на ноги надели конские железные путы и держали их так два дня под крепким караулом. На третий день приказано было доставить их в Чудов монастырь, в так называемую вселенскую, или соборную, палату. Княгиня пошла пешком, а упорствовавшую Морозову понесли на креслах. Толпа народа валила за нею, и в этой толпе шел разноречивый говор: одни осуждали Морозову за упорство, а другие, напротив, превозносили ее мужество и стойкость.
VII
Во вселенской палате ожидал боярыню и княгиню крутицкий митрополит Павел*, а также сановные люди церковного и мирского чина. Там сопротивление Морозовой началось с того, что она оказывала властям презрение и неуважение и не хотела говорить с ними стоя. Как ни бились, чтобы заставить ее стоять, но ничего не могли поделать. Приподнимут ее, а она опустится и присядет на кресло или на пол. Станут держать ее под руки, она рвется, мечется и отбивается.
– Я помню честь и породу Морозовых, – кричала она, – и перед вами стоять не буду.
Власти наконец уступили Морозовой, допустив, скрепя сердце, чтобы она сидела в кресле.
– Прельстили тебя старцы и старицы, с которыми ты так любовно водилась, – начал свое пастырское увещание Павел, – покорись царю и вспомни сына.
– Не от старцев и стариц прельщена я, – бойко возразила Морозова, – а навыкла от праведных рабов Божиих истинному пути и благочестию. Ты вспомнил мне о сыне, но знай, что я живу для Христа, а не для сына.
Долго бился Павел с обеими боярынями, но чем более продолжались увещания, тем упорнее делались они обе и тем дерзновеннее становились их речи.
– Дьявол тебя погубил, сдружился ты с бесами, мирно живешь с ними, любят тебя они! Скольких ты порубил и пожег христиан, скольких низвел в ад! – с торжественным укором говорила Морозова, обращаясь к епископу рязанскому Илариону, мучителю Аввакума.
Истомились порядком духовные власти и, убедившись, что приходится отказаться от дальнейших увещаний, постановили: предать непокорных боярынь мирскому суду. Тогда повели их в монастырскую подклеть. Там, в мрачном подвале, под низко нависшими сводами, с окошечками, заслоненными толстыми железными решетками, стояли на полу две большие, тяжелые деревянные колоды, так называемые «стулья», со вделанными в них железными цепями, на конце которых были железные ошейники, или огорлия.
– Вхожу я в пресветлую темницу! – радостно проговорила Морозова, когда ее ввели в подклеть.
Ее подтащили к колоде и приподняли с полу огорлие.
– Слава тебе Господи, что сподобил меня, грешную, носить узы! – сказала Морозова, перекрестясь и целуя огорлие, которое стрельцы надели на шею боярыни, заперев его на большой висячий замок.
– Не стыжусь я поругания, а веселюсь во имя Христа, – добавила она, когда холодное железо плотно охватило ее шею.
После этого обеих боярынь, вместе с колодами, взвалили порознь на дровни. Сестры поняли, что их хотят разлучить.
– Поминай меня, убогую, в твоих молитвах! – крикнула на прощанье Морозова сестре.
И действительно, из Чудова монастыря Морозову повезли на печерское подворье, а Урусову в Алексеевский монастырь. Когда первую провозили мимо кремлевских палат, то она, думая, что царь смотрит на нее в окно, умышленно привстала на дровнях и беспрестанно крестилась двумя перстами.
На подворье Морозову посадили в темный подвал. Железный ошейник скоро протер ее нежную и белую шею до кровавых мучительных ран, а оковы изъязвили ей руки и ноги. Боярыня, однако, не роптала и не смирялась, а скорбела лишь о том, что короткая цепь и тяжелые оковы не допускали ее класть земные поклоны. В свою очередь и княгиня упорствовала. Сидя в Алексеевском монастыре, она, в противность воле царской, не хотела ходить в церковь, и ее, «как мертвое тело», носили туда на рогоженых носилках.
– Зачем волочите меня! – вопила она. – Не хочу я молиться с вами.
Скоро об упорстве Урусовой заговорили в Москве, и в Алексеевский монастырь стала съезжаться московская знать, а также стало сходиться множество народа, чтоб смотреть, как «волокут» княгиню в церковь.
Минул почти год со времени заточения обеих сестер, когда на патриарший престол вступил Питирим*. Игуменья Алексеевского монастыря доложила вновь поставленному святейшему владыке о том соблазне, какой причиняет Урусова своим упорством, а кстати напомнила и о Морозовой. Новый патриарх, мирволивший расколу, завел с государем речь о заточенных боярынях.
– Советую твоему царскому величеству, – сказал Питирим государю, – отдать вдовице Морозовой дом да дворов сотницу за потребу, а сестру ее, княгиню, отдал бы ты князю; так приличнее будет. Дело их женское, что они смыслят?
– Давно бы я так сделал, да не знает твое святейшество лютости боярыни. Надругалась она, да и ныне надругается надо мною. Не веришь, так испытай сам; позови ее к себе и узнаешь, какова она; и когда вкусишь неприятное, тогда я и сделаю, что повелит твое владычество.
На другой день после этого разговора Морозову представили снова во вселенскую палату перед патриархом.
– Приобщись, боярыня, – сказал кротко святитель, – по тем служебникам, по которым причащается благоверный великий государь и его благочестивое семейство.
– Не у кого мне приобщаться, – резко отозвалась Морозова.
– Как не у кого? – с удивлением спросил патриарх. – Попов в Москве много.
– Много, да истинных нет! – перебила боярыня.
– Ну, так я приобщу тебя, – уступчиво предложил патриарх. – Я вельми пекусь о тебе.
– Да разве есть какая разница между тобою и ими? – вскрикнула с негодованием Морозова. – Все вы еретики. Никон был еретик, и вы ему подобны. Ты исполняешь только веленья земного царя! Отвращаюсь от тебя и не хочу твоего приобщения!
Так как Морозова во время разговора не хотела стоять перед патриархом, то стрельцы поддерживали ее по сторонам, так что она висела у них на руках. Патриарх между тем приказал облачить себя и хотел помазать Морозову елеем.
Увидев эти приготовления, она быстро выпрямилась во весь рост и, подняв вверх сжатые кулаки, зазвенела цепями.
– Не губи меня, грешную, отступным маслом! – неистово ревела она. – Неужели ты хочешь одним часом погубить весь мой труд? Отступись, а не то опростоволошусь, сорву с головы убрус!* Осрамлю и тебя и себя, – угрожала Морозова, так как, по тогдашнему обычаю, женщине позорно было показаться, а мужчинам видеть ее с непокрытою головою.
– Вражья ты дочь! – пробормотал патриарх. – Отныне я и сам отступаюсь от тебя, – торжественно на всю палату возгласил он, выведенный из терпения решимостью Морозовой опозорить патриаршие седины.
Вкусив неприятное, патриарх обо всем происходившем в Чудове монастыре доложил государю.
– Сожжем ее, владыко, в срубе! – заревел в ярости «тишайший» царь Алексей Михайлович. – А тем временем я сумею распорядиться с нею, – добавил он, грозно пыхтя от гнева при своей царственной тучности.
Между тем к страдавшим за древнее благочестие боярыням присоединились и их прежние сопричастницы.
При разброде из дома Морозовой стариц и странниц успели между ними скрыться инокиня Мария и старица Меланья, до такой степени влиявшая на Морозову, что последняя, как она сама говорила, «отсекла перед Меланьею вконец свою волю». Беглянок этих успели, однако, захватить и теперь их привезли на ямской двор, куда доставили также боярыню и княгиню. Когда там их всех собрали в пыточную избу, то туда вошли бояре: князь Воротынский, князь Яков Одоевский и Василий Волынский*.
Зловеще выглядывала пыточная изба: устроенная посреди нее дыба, лежавшие на полу веревки, ремни, цепи, плети и кнуты показывали, что здесь занимались мучительскими делами, и, вдобавок к этой обстановке, наводившей ужас, один из палачей разводил огонь на кирпичном полу избы под сделанной в потолке трубою.
– Что ты, Федосья Прокофьевна, понаделала? – сказал, сострадательно покачивая головою и обращаясь к Морозовой, князь Воротынский. – От славы дошла до бесчестия. Вспомни только, какого ты рода!
– Не велико наше телесное благородие, – отвечала равнодушно Морозова на укорительное увещание Воротынского, – а слава земная – суета. Вспомни только, что Сын Божий жил в убожестве и был распят жидами. Что же после того значат все наши страдания? Обещалась я Христу и не хочу изменить ему до последнего вздоха. Не страшны мне ни изгнание из дому, ни узы, ни царский гнев, ни истязания…
Воротынский, смешавшись, замолчал и, исполняя царское повеление, приказал приступить к пытке.
Палачи подвели к дыбе Марию, обнажили ее по пояс, стянули ей назад руки ремнями и, прикрепив к ним конец веревки, шедшей с потолка по блоку, стали поднимать Марию на встряску. Завизжал блок, и заскрипела на нем веревка, на которой тянули к потолку страдалицу; послышался отчаянный визг, захрустели суставы. Между тем один из палачей, привстав с зажженною в руках лучиною на чурбан, стал водить ею по голой спине несчастной.
– Это ли христианство, чтобы так людей мучить! – вскрикнула Морозова и сильно рванулась к Марии, но тяжелые оковы и короткая цепь с колодою удержали ее на месте.
Первый допрос кончился. Марию спустили с дыбы и вытащили во двор. Наступила очередь Морозовой; с нее сняли цепи и ошейник, крепко затянули ей ремнем руки за спиною и ремнем же связали ноги; после этого ее приподняли на дыбе, а палач начал задавать ей встряски, состоявшие в том, что он ставил на ремень, которым были связаны ноги боярыни, свою ногу и сильными ударами по ремню оттягивал вниз висевшую на дыбе Морозову. От таких ударов руки, стянутые назад, выходя из суставов, заходили все выше за спиною и стали потом подниматься над головою пытаемой. Полчаса провисела Морозова на дыбе, и в это время истязатели то увещевали, то допрашивали ее, но она и среди жестоких мук не отвечала им ничего, а только славословила имя Христово.
– Ремень протер мне кожу до жил, – проговорила она, когда ее спустили с дыбы, взглянув на свои руки, около кистей которых и без того уже были язвы, натертые оковами, а теперь явились и кровавые раны.
Морозову вытащили также во двор и положили на снегу так, что в ногах у нее пришлась Мария, за которую палачи принялись теперь снова. Они били ее в пять плетей сперва по спине, а потом по животу, а между тем бояре угрожали Морозовой, что и ей будет то же самое, если она не откажется от ереси. Но она и сострадалица ее оставались непреклонными. Измученную Морозову отвезли снова на печерское подворье, куда неожиданно привели к ней Меланию.
– Уже дом твой, матушка, готов, – заговорила она радостно Морозовой. – Вельми он добр, целыми снопами соломы уставлен. Отойдешь ты скоро в блаженство!
– Знаю, что ты говоришь, Меланьюшка. Пойду я в жертву Христу, как свечка. Ничего я не боюсь. Испытала я разные страдания, не испытала только сожжения, пусть же испытаю и огненную смерть!
Не лгала Меланья, говоря Морозовой о том доме, который ей был приготовлен, и не ошиблась боярыня, предугадывая, что ее сожгут.
Царь, действительно, порешил сжечь Морозову на страх еретикам, и на так называемом Болоте, в московском пригороде, был уже приготовлен сруб для этой страшной, обычной, впрочем, в то время казни. Меланью водили на Болото, а потом впустили к Морозовой, чтобы она напугала боярыню. Когда, однако, дело не шутя пошло о сожжении Морозовой, то бояре «не потянули» в сторону царя, и он, в угоду им, отменил свой указ, повелев отвезти Морозову в Новодевичий монастырь и содержать там ее под крепким караулом «и каждодневно волочить к церковному пению». Меланью же и другую сподвижницу Морозовой, старицу Иустину, сожгли, и у раскольников сохранилось предание, что в час сожжения Меланьи и Иустины они наяву в видении предстали Морозовой с радостными ликами в сияющих ризах. Сожгли также в Боровске и бывшего холопа Морозовой, за то что он добросовестно сохранил часть богатства, принадлежавшего опальной боярыне.
Твердость духа в Морозовой поддерживал протопоп Аввакум, который, несмотря на строгость надзора, успевал доставлять заточенным свои послания. Называя Морозову и сестру ее ангелами земными, столпами непоколебимыми, камнями драгоценными, звездами немеркнущими, он поучал их не бояться убивающих тело, а потому не могущих уже ничего сделать. «Мучьтесь за Христа хорошенько, – писал протопоп, – не смотрите вперед, не оглядывайтесь назад. Побоярили на земле довольно, нужно попасть в небесное боярство».
Много наслышалась в тереме царевна Софья о страданиях Федосьи Морозовой, и неукротимая духом боярыня представлялась ей образцом женской твердости, хотя бы твердость эту и приходилось применить к другим целям. Наслышалась она немало и о протопопе Аввакуме, и ей очень желалось познакомиться с этим отважным вожаком раскола, вступившего в смелую и упорную борьбу как с царскою, так и с церковною властью.







