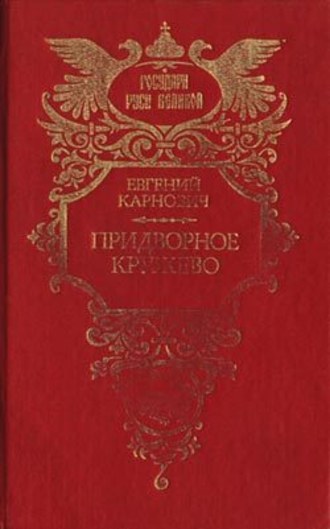
Е. П. Карнович
На высоте и на доле: Царевна Софья Алексеевна
III
Уже несколько дней обычный ход жизни в Кремлевском дворце заметно изменился. Государь не вставал, по обыкновению, ранним утром в четыре часа. Не ожидали царский духовник, или крестовый поп, и царские дьяки его выхода в Крестовую палату, где он каждый день совершал утреннюю молитву, после которой духовник, осенив его крестом, прикладывал крест к его лбу и щекам и кропил святою водою, привозимою из разных монастырей в вощаных сосудцах. В Крестовой палате, перед устроенным в ней богато и ярко вызолоченным иконостасом, теплились теперь только лампады, а не зажигались восковые свечи разных цветов, как это делалось во время царской молитвы. В отсутствие царя духовник его и царские дьяки пели в Крестовой палате молебны о выздоровлении государя, после чего, по заведенному порядку, царский духовник клал на аналой икону того праздника или святого, который приходился в этот день, но не читались там поучительные слова и жития святых, которые слушал ежедневно царь, сев по окончании молитвы на кресло, стоявшее в виде трона посреди Крестовой палаты. Такие отступления от установленного порядка показывали, что государь был так болен, что не мог подняться с постели.
О тяжком недуге царя свидетельствовало и то, что, по установившемуся обычаю, один из ближних людей отправлялся в покои царицы спросить ее о здоровье, но сам государь не ходил теперь по утрам в терем своей супруги. Не собиралась теперь и царская дума в Грановитой палате, и хотя и съезжались во дворец на ежедневный поклон государю бояре и думные люди, но они не могли видеть его светлые очи и довольствовались лишь спросом о здравии. Не являлся Федор Алексеевич и в столовой избе, где обедал прежде или один или с супругою, а порою и приглашал к своей трапезе некоторых ближних людей. Вообще, во дворце многое шло не по заведенному порядку. В опочивальне, под шелковым пологом, лежал теперь царь Федор Алексеевич. Почти безвыходно, то в изголовье, то в ногах у него, сидела царевна Софья Алексеевна. Она с нежною внимательностью сестры ухаживала за ним, стараясь угодить больному и успокоить его ласками и участием.
– А кто отведывал новое лекарство? – спросил он слабым голосом у стоявшей около него царевны.
– Я блюду постоянно твое царское здоровье, и не дали тебе, милый братец, еще ни одного лекарства, прежде чем не отведали его или я, или ближние люди. Можешь спокойно принять и это, мы и доктору пить его приказывали! – успокоительно говорила царевна.
– Пью я, ваше царское величество, все лекарства! – отозвался на ломаном русском языке царский врач Данила Иевлевич фон Гаден* и, с этими словами вынув из-за пазухи своего черного кафтана, сшитого на немецкий покрой, серебряную ложку, налил в нее лекарства до самых краев и, хлебнув, крепко поморщился.
– Отпусти мне, Господи, мой тяжкий грех за то, что я принимаю лекарство из рук поганого жидовина! – набожно прошептал царь. – Грешим мы тем, что верим в человеческое врачевание, а не возлагаем надежду на помощь Всевышнего, – добавил он, обращаясь лицом к царевне.
– Греха в том нет, братец-голубчик. Ведомо, конечно, тебе, чему поучает апостол Павел. Он прямо пишет: аще болен, помазуйся елеем и позови врача, – вразумляла Софья своего брата.
– Приготовленное мною лекарство успокоит внутренности вашего царского величества. Оно составлено из веществ, имеющих самую целебную силу; в него положен и рог единорога, – докладывал Гаден.
Говоря это, он взбалтывал бывшую в руках его сткляницу и, посмотрев ее на свет, налил лекарства на золотую ложку и подошел к государю, между тем как царевна приподняла с подушки голову брата и поддерживала его за спину.
Царь осенил себя трижды крестным знамением. Гаден поднес к губам его ложку, а он, пристально и недоверчиво посмотрев на «жидовину», с видимым отвращением хлебнул поданную ему микстуру и, снова трижды перекрестясь, в бессилии опустился на постель.
Гаден тихонько вышел, а царевна встала около брата на колени и, взяв его свесившуюся с постели руку, со слезами целовала ее.
– Светик ты мой ненаглядный, братец ты мой родимый! Пошли тебе Господи скорее исцеление. Встань поскорее с одра скорби в утешение и на защиту нас, твоих единоутробных! Как усердно, и день и ночь, молю я о тебе Господа нашего Иисуса Христа и его пречистую Матерь! – говорила царевна, продолжая целовать со слезами руку брата.
– Ведаю, милая сестрица, твою любовь ко мне и плачу тебе ею же взаим, – говорил тихо царь, тронутый участием сестры. – Ты безотходно остаешься при мне, не как другие. Вот хотя бы матушка-царица в кой раз пришла бы навестить меня, а то совсем забыла!.. Чем я ее царское величество мог прогневать, да и как я дерзну сделать что-нибудь подобное, когда покойный наш родитель заповедал нам любить и чтить ее, как родную мать? – сетовал Федор Алексеевич, оскорбленный невниманием к нему мачехи Натальи Кирилловны.
На это сетование не отозвалась царевна ни полсловом, но по выражению ее лица можно было заметить, что ей не любы были такие почтительные и нежные речи царя о молодой мачехе.
– Прикажи-ка, сестрица, позвать ко мне князя Василия, – добавил он, смотря на Софью.
Румянец вспыхнул на щеках молодой царевны; с трудом преодолела она охватившее ее волнение и, поспешно встав с колен, неровным голосом передала приказание Федора постельничему, стоявшему в другой комнате у дверей царской опочивальни.
Царь, казалось, впал в забытье. Закрыв глаза, он тяжело дышал, а Софья, вернувшись в опочивальню, села в изголовье его постели.
Спустя немного времени дверь в царскую опочивальню тихо отворилась, и на пороге показался боярин.
При появлении его щеки царевны зарделись сильнее прежнего. Вошедший в царскую опочивальню боярин был высок ростом и статен. Он был, впрочем, далеко уже не молод; с виду было ему лет под пятьдесят, и седина довольно заметно пробивалась в его густой и окладистой бороде. Легко, однако, было заметить тот страстный взгляд, каким впилась царевна в пожилого боярина. Она так засмотрелась на него, как засматривается молодая девушка на полюбившегося ей юношу-красавца.
Помолившись перед иконою и отдав земной поклон перед постелью государя, боярин остановился поодаль от нее, ожидая, когда царь подзовет его к себе.
– Хочу я поговорить с князем Василием о царственных делах, а такие дела не женского ума работа. Уйди отсюда на некоторое времечко, сестричка, – ласково сказал Федор сестре.
Поцеловав снова руку брата и перекрестив его, она пошла из опочивальни, но на пороге приостановилась и обернула назад голову, чтобы взглянуть еще раз на боярина, и украдкою кивнула головою, как бы стараясь ободрить его этим знаком.
В передней царского дворца, которая в ту пору соответствовала нынешней приемной зале и в которую пошла теперь Софья, были в сборе все бояре, явившиеся во дворец, чтобы наведаться о царском здоровье. Боясь нарушить тишину, господствовавшую в царских палатах, они, рассевшись на лавках, шептались между собою, и заметно было, что между ними не было общего лада, так как одни искоса и с недоверием посматривали на других. Теперь в царской передней собралось все, что было на Москве богатого и знатного. С беспокойством ожидали бояре вестей о здоровье государя, предвидя, что кончина его вознесет одних и низложит других, что одни воспользуются милостями, других поразит опала.
Неожиданный приход царевны в переднюю удивил и смутил бояр. Появление ее в таком собрании, где были только мужчины, показалось необычайным нарушением не только придворных порядков, но и общественного приличия. В особенности изумило то, что лицо царевны не было покрыто фатою в противность обычаю, которого, как тогда думалось, нигде и ни в каком случае нельзя было нарушить. Изумленные бояре сперва исподлобья посмотрели на царевну, а потом вопросительно переглянулись друг с другом. Софья, однако, не смутилась и, в свою очередь, смело смотрела на них, так что они, приподнявшись поспешно с лавок, приветствовали царевну раболепными поклонами.
Не обращая на поклоны внимания, царевна остановилась посреди передней.
– Здравие его царского величества, по благости Господа Бога, улучшилось в эту ночь, – громким и твердым голосом заявила она. – Великий государь повелел сказать вам милостивое слово и приказал отпустить по домам.
В ответ на это последовали снова низкие поклоны, которые в ту пору были в таком обычае, что, например, боярин князь Трубецкой*, выражая однажды свою благодарность царю Алексею Михайловичу за оказанные ему милости, положил сразу перед государем тридцать земных поклонов.
Но и на повторенные поклоны царевна не отвечала никаким приветствием. Холодность и важность ее смутили бояр.
– Пошли, Господи, великому нашему государю скорое выздоровление! Молим пресвятую Богородицу Деву и святых Божиих угодников о долголетии и здравии его царского величества! – заговорили бояре и стали один за другим выходить из передней; но между ними не трогался с места один только боярин, Лев Кириллович Нарышкин*.
– Что же ты не едешь домой? – строго спросила его Софья. – Ведь тебе, как и всем другим боярам, сказано уже о государевом здоровье…
– Не затем только, чтобы узнать о здоровье его царского величества, прибыл я сюда, – отвечал смелым, почти дерзким голосом Нарышкин. – У меня, царевна, есть еще и другая надобность.
– Какая? – резко перебила Софья, смерив суровым взглядом боярина с головы до пяток.
– Благоверная царица, великая государыня Наталия Кирилловна повелела мне наведаться, может ли она навестить его царское величество, и так как ты, государыня царевна, соизволила объявить, что здоровье его царского величества…
Софья не дала Нарышкину докончить его слов.
– Точно что здоровье государя-братца стало лучше, – перебила она, – да все же ему еще пока не под силу вести беседу с царицей-матушкой. Слышишь, что я говорю? Так и доложи ее царскому величеству.
По губам боярина пробежала насмешливая улыбка, а Софья сделала несколько шагов вперед, чтобы выйти из передней.
– Думается мне, – заговорил ей вслед Нарышкин, – что если к его царскому величеству есть доступ другим сродникам, то отказ в этом царице Наталии Кирилловне будет непристоен.
Царевна быстро повернулась к Нарышкину. Лицо ее выражало сильный гнев.
– Что ты говоришь? – спросила она его раздраженным голосом.
– Говорю я, благоверная царевна, что никому не следует забывать, что царица Наталия Кирилловна, по вдовству своему, старейшая в царской семье особа и что, по супружеству своему, она тебе, твоим братьям и сестрам заступает родную мать.
– Не тебе учить нас почтению к царице! – воскликнула Софья, топнув ногою о пол. – Хотя ты и царский сродник, но не забывай, боярин, что ты остался все тем же нашим холопом, каким родился, и должен всегда памятовать, с кем ты говоришь. Ступай отсюда! – крикнула она громче прежнего, показав Нарышкину на выходную дверь повелительным движением руки.
Как ни казался сперва тверд и надменен боярин, но он опешил при грозном на него окрике царевны и, отвесив ей низкий поклон, смиренно выбрался из передней на Красное крыльцо, на котором оставались еще бояре, державшие сторону царицы Наталии Кирилловны и поджидавшие Нарышкина.
– Что скажешь, Лев Кириллович? – спросил Нарышкина боярин князь Черкасский*, когда Нарышкин в сильном смущении появился на Красном крыльце.
– Пойдите да поговорите-ка с царевной Софьей Алексеевной! Как же, допустит она царицу к государю! Видно, что у них на уме свое дело. Да и обманула нас царевна: говорит, что здоровье государя лучше, а Гаден сказывал, что много, если царь еще дней с пяток или с неделю проживет. Посмотрите, что они изведут его царское величество, – зловеще добавил Нарышкин.
– А царевна-то сегодня? Каково? Надивиться не могу ее бесстыдству! – говорил Одоевский*, покачивая головою.
– Что и говорить! – отозвался князь Воротынский*. – Слыхано ли дело, чтобы когда-нибудь царевна, да еще с открытым лицом, выходила к мужчинам!
– Никакого женского стыда в ней нет, а помните ли, как прошлым летом, когда царица Наталья Кирилловна, проезжая по Москве, приподняла только занавеску в своей колымаге, как вся Москва заговорила и укоряла царицу за небывалое у нас новшество! А царевна-то что делает?
Бормоча и шушукаясь между собою, бояре нарышкинской партии спустились медленно с Красного крыльца и поехали домой.
Выпроводив Нарышкина из передней, царевна осталась там, поджидая выхода князя Василия Васильевича Голицына* из государевой опочивальни. Она догадывалась, о чем царь желал поговорить с князем, и сильно билось у нее сердце в ожидании, что скажет ей Голицын, который наконец показался на пороге передней. По лицу его было заметно, что беседа с государем расстроила его. Увидев Голицына, Софья бросилась к нему навстречу.
– Не удалось на этот раз, царевна! – сказал Голицын, печально покачав головою и с выражением безнадежности разводя руками. – Ссылается государь на волю покойного своего родителя и говорит, что после его кончины следует быть на царстве царевичу Петру Алексеевичу.
– Это дело Нарышкиных! – запальчиво вскрикнула Софья.
– Видно, ты, царевна, плохо сторожишь от них государя, – слегка улыбнувшись, заметил Голицын.
– Сторожу я его хорошо, от зари и до зари сижу при его постели! Не теперь, а давно Нарышкины опередили нас в этом деле. Они, как только скончался батюшка, пустили по Москве молву, будто он завещал престол царевичу Петру. Он, пожалуй, и вправду сделал бы это, если бы в ту пору, когда он отходил, пустили к нему нашу мачеху. Она сумела бы уговорить его, ведь ты знаешь, какую власть взяла она над нашим родителем…
– Просто-напросто околдовала его! – перебил Голицын.
– Полно, князь Василий! Нам нужно думать теперь о том, чтобы одолеть Нарышкиных не волшебством, а другими способами, и мне кажется, что стрельцы и раскольники могут пособить нам лучше всяких знахарей и кудесников…
– Ты правду говоришь, царевна! – как-то радостно вскрикнул Голицын. – Стоит только нам привлечь к себе Москву, а следом за ней наверно пойдет и все государство…
В это время в переходе, ведшем в переднюю, послышались чьи-то шаги. Царевна и князь быстро двинулись в разные стороны. Она вошла в опочивальню брата, а он в глубоком раздумье вышел на Красное крыльцо.
IV
Глубоко в памяти подраставшей Софьи Алексеевны запечатлелся суровый и величавый облик Феодосьи Прокофьевны Морозовой*, жены боярина Глеба Ивановича*. Царь Алексей Михайлович отменно жаловал и особенно чествовал эту знатную боярыню, деверь которой, боярин Борис Иванович Морозов, был женат на Анне Ильинишне Милославской, родной сестре царицы Марии Ильиничны*, и следовательно, приходился свояком государю. Каждый день боярыня Морозова приезжала вверх к царице Марии Ильиничне, чтобы вместе с нею слушать позднюю обедню. По нескольку раз в неделю бывала она за царицыным столом и редкий вечер не проводила с государынею, запросто беседуя с нею. Казалось, судьба дала Феодосье Прокофьевне все, чтобы она была счастлива в земной своей жизни: она была богата и знатна, и вся Москва говорила о ней, как о боярыне разумной, сердобольной и благочестивой. Морозова была дочь боярина Соковнина*, она вышла замуж за далеко не равного ей по годам Глеба Ивановича, так как ему во время брака было уже пятьдесят, а ей только минуло семнадцать лет. Но брак этот был удачен: молодая жена любила и уважала своего пожилого мужа, а он, как говорится, души в ней не слышал. Тридцати лет овдовела Морозова и жила первые годы после своего вдовства, как следовало жить богатой боярыне. Было у нее восемь тысяч крестьян, разного богатства считалось более чем на двести тысяч рублей, а в московских ее покоях прислуживало ей более четырехсот человек. Ездила она по Москве в карете, украшенной мусиею (мозаикою) и золотом, на двенадцати аргамаках* с «гремячими цепями», а около кареты ее ехало и бежало, по тогдашнему обычаю, множество дворовой челяди: иногда сто, иногда двести, а иногда даже и триста слуг. Но вдруг боярыня, ни с того ни с сего, перестала навещать родных и знакомых.
– Видно, больно возгордилась, уже слишком честят ее в царских палатах! – заговорили родные и знакомые.
Вскоре, однако, они увидели, что, отзываясь так, они сильно ошибались, потому что Морозова перестала показываться и во дворце, а между тем молва о добрых делах ее становилась в Москве все громче и громче.
– Совсем позабыла ты нас, Федосья Прокофьевна! – приветливо укорял царь Алексей Михайлович Морозову при встрече с нею.
– Прежней дружбы со мною вести не хочешь, – ласково выговаривала ей царица Марья Ильинична, когда боярыня, по необходимости, в праздники или в день своего ангела, с именинным калачом приезжала к царице.
На эти милостивые слова она не отвечала ничего и только смиренно кланялась царю и его супруге.
Скончалась царица Марья Ильинична, и царь позабыл на время о Морозовой, но когда наступило время второго его брака с Натальей Кирилловною, он вспомнил и указал Морозовой, как старейшей по покойному ее мужу боярыне, стоять первою между боярынями и говорить «царскую титлу».
С извещением о таком милостивом почете отправился к Морозовой царский стольник.
– Не буду говорить я царскую титлу, – отозвалась с недовольным видом Морозова, вместо того чтобы с радостью принять оказанную ей честь.
– Так и прикажешь сказать государю? – спросил изумленный стольник.
– Так и скажи, – решительно отвечала она.
Царский посланец только пожал плечами и поехал с дерзким ответом к государю.
– Нешто обидел я ее чем-нибудь? – спросил сам себя царь, как бы теряясь в догадках о причине отказа Морозовой, и отправил к ней ее седовласого дядю, боярина Михаила Алексеевича Ртищева*.
– Скажи бабе, чтобы не дурила, – было коротким поручением царя второму посланцу.
– Не велел тебе, племянница, его царское величество дурить, – сказал приехавший к Морозовой Ртищев. – И воистину ты дуришь! С чего не хочешь говорить царскую титлу на бракосочетании великого государя?
– Потому не хочу говорить, что мне придется назвать его благоверным, а какой же он благоверный, коль идет во сретение антихристу? – с негодованием отвечала боярыня.
Дядюшка, заслышав это, раскрыл от удивления рот и вытаращил глаза.
– Чего так смотришь на меня? Разве он благоверный? Еретик он! Могу ли я поцеловать у него руку? А в палатах его могу ли я уклониться от благословения архиереев? Нет, дядюшка, лучше пострадать, чем иметь сообщение с никонианцами, – сказала Морозова и, закрыв лицо руками, отчаянно замотала головою.
– Говоришь ты неправду! Святейший патриарх Никон* – муж великий и премудрый учитель, и новые книги, которые при нем напечатаны, правильны, – вразумлял Ртищев племянницу. – Оставь распрю, не прекословь великому государю и властям духовным. Видно, протопоп прельстил тебя?
– Нет, дядюшка, – с улыбкою перебила Морозова, – неправду говорить изволишь, сладкое горьким называешь. Протопоп* – истинный ученик Христов!
– Ну, поступай, как знаешь! – с досадою проворчал Ртищев. – Только берегись, смотри, чтобы не постиг тебя огнепальный гнев великого государя.
С этою угрозою старик приподнялся с кресла и поехал во дворец.
– Больна, ваше царское величество, боярыня Морозова, да так больна, что и со двора выехать не может, – доложил лживо Ртищев, спасая свою племянницу от государева гнева.
– Больна, так что ж тут поделаешь! Другой предназначенная ей честь достанется, – заметил кротко царь и пригрозил ездившему к Морозовой стольнику отдуть его батогами, чтобы он впредь на боярыню Федосью Прокофьевну облыжно не доносил.
В то время, когда боярыня беседовала с дядею, в подклети, то есть в нижнем жилье ее хором, шла другая беседа.
– Будет тебе, протопоп, лежать! Ведь ты поп, а стыда у тебя нет! – так говорил лежавшему на постели, одетому в подрясник мужчине стоявший посреди комнаты в одной грязной рубашке, с длинными растрепанными волосами и со всклоченною бородою парень лет за тридцать. – Посмотри на меня, днем я работаю во славу Господню, а ночью полежу да встану и поклонов с тысячу отброшу.
– Юродствуешь ты, Федька, дурь и блажь на себя напускаешь. Неужто ты мнишь тем угодить Господу Богу? Думаешь ты, что годится день-деньской шляться да разный вздор молоть, а ночью вскакивать да земные поклоны класть. Жил бы ты, как живут все люди, лучше бы было, – спокойно отвечал Аввакум Петрович.
– Нешто ты, протопоп, не знаешь, что Бог повелел пророку Исаии ходить нагу и босу, Иеремии возложить на выю клады и узы, а Иезекиилю возлежать на правом боку сорок, а на левом сто пятьдесят дней? Все это ты знаешь, да тебе бы только лежать, а я пророк и обличитель… Ты вот и молиться-то не охоч, сам лежа молитвы читаешь, мне же велишь за тебя земные поклоны класть, а я и от своих спину разогнуть не могу.
– Как же! Рассказывай! – насмешливо перебил Аввакум. – Богу достоит поклоняться духом, а не телодвижениями, а кто любит Христа, тот за него пострадать должен. А разве мало я настрадался? Был я, как ты знаешь, в великой чести, состоял при Казанском соборе протопопом, церковные книги правил, беседовал не только с боярами и патриархом, но и с самим царем, а предстала надобность, так от страданий не уклонился. Когда я был отдан под начало Илариону*, епископу рязанскому, каких только мук не натерпелся я! Редкий день не жарил меня епископ плетьми, принуждая к новому антихристову таинству, а батогам так и счету нет. Сидел я в такой землянке, что в рост выпрямиться не мог, тяжелые железы с рук и ног моих не снимали. А в Сибири сколько страданий я перенес, да и не один, а была со мной моя протопопица! Где мы только с ней не блуждали! Не раз хищные звери устремлялись на нас, и только Господь охранял нас своею благодатью. Вот такие страдания подобают человекам, а не дурачества вперемежку с молитвой.
Федор присмирел и присел на пол на корточки. Охватив колени обеими руками, он начал качаться из стороны в сторону.
– Вот хотя бы ты, Федор, вместо того чтоб попусту юродствовать, вышел бы на площадь, разложил бы костер, да и сжег бы на нем новые книги! – начал опять Аввакум.
– А что, и вправду! Завтра же сделаю! Да где только таких книг достать? – привскочив с полу, крикнул юродивый.
– Где достать? Да боярыня их хоть целый воз закупит!
– Ай да ладно! Пышь! Пышь! – весело выкрикивал Федор, подскакивая на одной ноге по комнате.
– И коли пострадаешь, так пострадаешь за дело, – внушал Аввакум. – Вот Киприан тоже юродствовал, да смел был, за то и сподобился мученической кончины, когда ему в Пустоозерском остроге голову отрубили. Страдальцем за истинную веру стал, а ты что?
– Погоди, протопоп! Придет и моя череда! – продолжая подпрыгивать, крикнул Федор.
Он не ошибся, так как его вскоре за упорство в староверстве повесили в Мезени.
Об Аввакуме, нашедшем себе убежище по возвращении из Сибири в доме Морозовой, часто толковали и в царских хоромах и в кремлевских теремах, как о ревностном поборнике раскола. Давно слышала о нем царевна Софья и наметила его в числе людей, которые должны были служить орудием ее замыслов.







