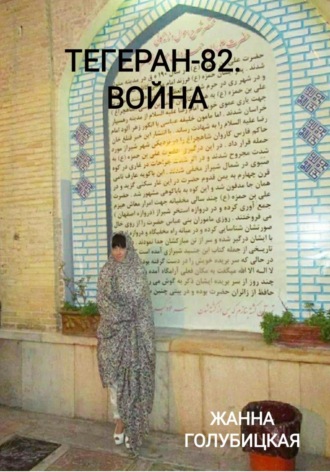
Жанна Голубицкая
Тегеран-82. Война
Первым делом я побежала к папе спрашивать, почему на самолетах красные звезды?! Это же советские военные истребители, я видела такие в кино про Великую Отечественную войну!
Папа объяснил, что задолго до начала этой войны Советский Союз подписал с Ираком договор о взаимопомощи, в том числе и военно-технической. А поскольку в Ираке самолеты делать никогда не умели, их закупали в СССР. Конечно, наша Родина против любой войны и сейчас прекратила всякие поставки Ираку, несмотря на существующий договор. Но отнять ту военную технику, которую Ирак купил раньше, СССР не может, при всем своем желании.
– Боже мой, хотя бы красные звезды замазали! – вздохнула моя мама. – Вот как ребенку такое объяснишь?! Позорище! В Москве дети посещают уроки мира, знают, что наша страна производит вооружение только для обороны, а не для войны. А из-за тебя, – мама кивнула на папу, – наш ребенок вместо этого наблюдает, как две дикие страны решают проблемы между собой при помощи советской военной техники!
– Им некогда замазывать, война же! – развел руками мой папа. – А это лишняя трата времени и краски. К тому же, они гордятся, какой у них мощный друг в лице Советского Союза, и хотят, чтобы иранцы видели, чьи у них истребители. Ирак же этой войной главным образом хочет запугать Иран, чтобы исламская революция не перекинулась через иракскую границу. А речку эту они уже сто раз делили, и обе стороны знают, что это надуманный повод.
– А у иранцев почему советские автоматы Калашникова? – подозрительно осведомилась я, вспомнив, что мне рассказывал Серега.
– Их им продала сердобольная Северная Корея, – ответил папа. – Ни одна цивилизованная страна не захотела вооружать страну победившего ислама. Сжалились только северокорейцы, вспомнили, как их тоже весь мир травил.
– А у них откуда «калашниковы»? – недоверчиво спросила мама, включившись в военную дискуссию. Она тоже ничего не понимала.
– А Корея закупила в СССР, но тоже давно, – пояснил папа. – Да, это кажется странным. Но экспорт вооружения – важная часть экономики нашей страны. Советская военная техника – лучшая в мире. А продавать ее необходимо для того, чтобы пополнять государственный бюджет. У нас же бесплатные школы, больницы, пенсии пожилым, на все это где-то надо брать деньги.
– Но мы же за мир? – уточнила я.
– Конечно! – заверил меня папа. – Поэтому мы не продаем оружие странам, которые развязывают войны. Только тем, которые укрепляют свою обороноспособность на случай нападения врага.
Тогда папины слова успокоили не только меня, но и маму. Мы знали, что Советский Союз всегда помогает развивающимся странам. Так что ничего удивительного, что в загашниках страны «третьего мира» обнаружились закупленные раньше советские бомбардировщики.
Много лет спустя мы узнали, что тем временем новый иранский режим тайно вооружали … Соединенные Штаты! При том, что захваченные этой новой властью в плен американские заложники так и продолжали томиться в тюрьме, которой стало им собственное посольство. Только теперь над ними еще и кружили иракско-советские истребители и выла воздушная тревога. Порой мир становится похожим на комедию положений или на анекдот про любовника в шкафу, особенно, если все действующие лица фарса руководствуются только корыстью и не дорожат своим честным именем. Ведь все тайное рано или поздно становится явным. Правда, официальные власти США в 1985-м году, когда все выяснилось, заявили, что понятия не имели, что Иран воюет с Ираком из их оружия. Поставки осуществляли якобы частные лица: нечистоплотные американские бизнесмены при помощи таких же нечистоплотных израильских коллег.
Чуть позже и остальные бимарестанты стали лениться бежать в укрытие. После того, как узнали, что иракская сторона попросила Союз вывезти своих специалистов со сталелитейного завода в Исфахане и с предприятий Ахваза, чтобы они не пострадали при бомбардировках. Мы поняли, что Ирак не хочет подвергать опасности советских граждан, убивая их из советского же оружия, и решили, что специально атаковать наш госпиталь они уж точно не будут. На самом деле, человек привыкает ко всему. И когда бомбят два раза в день, подлинный ужас охватывает только в первое время. А по мере привычки страх притупляется, и возвращаются такие обыденные человеческие состояния, как лень и некогда. Нездоровится – не побегу вниз, авось пронесет. Или занят чем-то важным по дому – например, провожу генеральную уборку – не бежать же вниз в грязном халате!
Во второй месяц войны спуски в укрытие и вовсе стали чем-то вроде отдельного развлечения и светского променада. Наши медсестры к вечеру подкрашивались и принаряжались в элегантные шелковые халаты. На лестнице и в укрытии стоял полумрак, делать там было нечего, кроме как пережидать воздушную атаку, поэтому бимарестанты, чтобы разрядить обстановку, обычно в это время веселили сами себя анекдотами и отвешивали комплименты дамам.
Не по себе всем нашим было в основном от того, что мы понятия не имели, чем все это закончится для нас. Человек всегда чувствует себя неуютно, когда не знает, что с ним будет завтра, и понимает, что это зависит не от него. В то время, пожалуй, и я впервые, несмотря на малый возраст, осознала, что самое страшное состояние – это подвешенное. Даже не поняла, а почувствовала кожей: когда не ты сам решаешь и отвечаешь за себя, становишься беспомощным и уязвимым.
Иранская сторона не хотела отпускать советских инженеров, без них встали бы стратегически важные для страны предприятия. И именно эти промышленные объекты были основной целью противника, их Ирак атаковал не для острастки, а на разрушение. С Ираном Советский Союз тоже был связан определенными договоренностями в отношении предоставления советских специалистов и их эвакуацию не объявлял. И все эти, по сути чужие, проблемы могли стоить советским инженерам жизни. Насколько мы знали, некоторые из них сами захотели закончить командировку и уехали домой, другим удвоили зарплату и они остались. Русский человек привык быть отчаянным.
Тем временем Тегеран жил почти обычной жизнью: в городе по-прежнему работали кафе и магазины, только стало намного хуже с продуктами, и после заката наступал комендантский час. Погасли веселые огоньки реклам и иллюминация на улице Моссадык, а сразу после вечернего азана все заведения опускали ставни. Город погружался в полную тьму, но в нем все равно чувствовалась жизнь – где-то там, за глухо занавешенными светомаскировкой окнами.
– Какая странная война! – рассуждала моя мама, которая была уже на девятом месяце беременности. – Вот я родилась в первый послевоенный год, в 1945-м. Все детство я слышала о войне и в полной мере ощутила все горе и лишения, которые она принесла нашему народу. Почти все потеряли близких, все было разрушено, голод, сиротство, страну надо было поднимать из руин. Жизнь каждого человека была подчинена тому, чтобы защитить Родину. Я выросла с уверенностью, что война – это общенародное бедствие и равнодушных к ней быть не может. Все так или иначе вовлечены в нее: кто не ушел на фронт, тот работает на оборону в тылу. До сих пор сердце кровью обливается при мыслях о Великой Отечественной, хоть своими глазами я ее и не видела. И здесь что? Тегеранцы ведут себя так, будто война их не касается! Вон днем сидят в кафе на Надери и хохочут, как ни в чем не бывало!
Это было правдой. Тегеранская интеллигенция, которая по неким своим причинам не покинула страну в революцию, не вовлекалась ни в демонстрации с политическими требованиями, ни в военный ажиотаж. Они выполняли свои обычные обязанности, а в свободное время старались отдохнуть привычным им образом. Теперь я понимаю, что, пережив исламскую революцию, эти люди выработали определенную толерантность к внешним потрясениям. Они приняли для себя решение не покидать свой дом и свою родную землю, а все прочее от них не зависело, они понимали это и ни во что не лезли. И, судя по всему, еще и старались поменьше нервничать, догадываясь, что от их переживаний ничего не изменится.
Мамины наблюдения были верны: днем кафе на Моссадык и Надери и впрямь были полны народу, публики было даже больше, чем в довоенное время. Может быть, так казалось потому что после заката кафе теперь не работали и те, кто раньше проводил . в них время по вечерам, теперь приходили днем. А может, хоть каким-то подобием развлечений горожане пытались скомпенсировать себе события последних двух лет, которые лишили их нормальной жизни. И если раньше находились те, кто верил, что «все наладится», с началом войны стало совершенно очевидно – будет только хуже.
– Здесь война отдельно, жизнь отдельно, как будто она не настоящая! – недоумевала моя мама. – Хотя бомбят вон по-настоящему! Я даже не знаю, что своей маме написать! Она не понимает, что может быть такая «полувойна»! И требует, чтобы мы немедленно вернулись домой и не отдавали свою жизнь в чужом конфликте.
Бабушка действительно прислала нам письмо с таким категорическим требованием. Это было немножко смешно, но бабушке точно объяснить такое было невозможно. Что у нас вроде и правда настоящая война, но при этом мы с мальчишками спокойно стоим на балконе последнего этажа и разглядываем самолеты с красными звездами на борту или крыльях, словно смотрим кино про разгром фашистов. К ноябрю это стало именно так: войну смотрели как кино, а от укрытия отлынивал даже маленький Сашка. Как и все мальчишки, мои приятели увлекались военной техникой, много читали о ней, конструировали модельки и собирали солдатиков, поэтому для них было особым удовольствием важно опознавать:
– О, вон Су-21 полетел! – кричал Серега.
– Сам ты Су! – презрительно фыркал в ответ Макс. – Это МиГ-23! В крайнем случае, МиГ-21!
– Эх вы, салаги! – авторитетно вмешивался Серегин папа, офицер запаса. – Бери выше, это МиГ-27! Или вообще 29-й! Плохо видно, больно дыму от них много! Иракцы эти и самолетами пользоваться не умеют, трескотня одна!
– Пап, а правда у Ирака есть наша «Катюша»?
– Какая еще Катюша? – не верила я собственным ушам. – Неужели та самая – «расцветали яблони и груши»?
– Она самая, – важно соглашался Серега. – Неожиданно, да?!
– И не одна «Катюша», – отвечал на вопрос сына дядя Саша. – Наших «Катюш» у иракцев много, а еще советские ракеты «земля-воздух», танки и БМП (см. сноску-2 внизу).
– Из «калаша» пальнули, – определял по звуку Серега.
– Да, «калаш», – важно соглашался Макс.
Звучало это так обыденно, будто все было не взаправду, а мы лишь играли в «войнушку» и «самолетики».
Правда, Вовка и Танюшка с нами не стояли, они всегда спускались в укрытие. Их можно было понять, ведь они новенькие. А мы вчетвером уже такого насмотрелись за время своей жизни в иранской столице, что чувствовали себя ветеранами, закаленными сначала революцией, а теперь и войной, которая и впрямь превратилась для нас в новую игру.
* * *
Но все равно наша жизнь перестала быть прежней: теперь все вокруг подчинялось законам военного времени.
Авиасообщение с Москвой прекратилось: «Аэрофлот» закрыл свои регулярные рейсы в Тегеран, и теперь в Союз можно было добраться только через Баку – поездом или паромом.
Разъезжать по городу, как раньше, стало опасно. Не потому, что для советских людей возникла какая-то особая угроза, а просто на улицах случалась стрельба и исходила она не от Ирака. Как обычно это бывает, отдельные группировки и личности, пользуясь военным положением, стали при помощи оружия решать собственные проблемы. На войне как на войне: она все спишет и разбираться никто не будет.
На Рухишках второй год санкций и военное положение в зоне Персидского залива тоже сказались: в последний год большинство товаров ввозилось в Иран из арабских стран морским путем, а теперь торговые суда не ходили. Рухишки закрыли все свои магазины, оставив только «супер» возле нас. Я вспомнила, как пять месяцев назад мой папа предрек, что о верховой амуниции от «Живанши» им скоро придется забыть. Так оно и вышло. Но Рухишки все равно по-прежнему улыбались, смеялись и уверяли, что ни капли не жалеют, что не уехали вслед за родней в Париж и Калифорнию. Они любят родину, что бы с ней не случилось. А Ромина как-то потихоньку призналась мне, что они с матерью и Роей, может быть, и поехали бы в Париж. Но отец ни за что не согласится, брат его поддерживает, а они ни за что не оставят своих мужчин. И спорить с ними не станут, ведь слово мужчины в семье – закон.
Я вспомнила, как запросто обе сестры Рухи обращались со своим отцом, и еще раз подивилась этому странному для меня сочетанию. Почитание отца в их семье было не формальным из серии «так со старшими не разговаривают», как любила одергивать моя мама, а глубоким, внутренним. Дочки могли подшучивать над своим папой, но при этом не стеснялись признаться, что как он решит, так все и будет. А их отец, в свою очередь, не показывал свою власть в бытовых мелочах, приберегая ее для принципиальных вопросов. В повседневной жизни господин Рухи держался с домочадцами снисходительно, добродушно и на равных, но в момент принятия решения изрек свое веское слово, оспаривать которое никому из семьи не пришло даже в голову.
В советских семьях чаще было все наоборот. Русские дети не могли подшучивать над родителями, это считалось хамством и невоспитанностью. Зато послушно кивать, а потом делать все по-своему, они очень даже могли и умели. Как только родители отворачивались, русские детки норовили сделать хоть что-нибудь им наперекор. И чем строже были родители, тем чаще возникало такое желание, и я не была исключением. А чем меньше было мелочного давления со стороны старших, тем чаще чадо включало собственную голову. В то время я где-то вычитала, что далеко не все люди умеют разумно пользоваться предоставленной им свободой. Ведь это тоже навык, которому нужно обучать с детства, давая ребенку разумную степень свободы и наделяя его ответственностью за самого себя. Мне так понравилась эта мысль, что я даже записала ее в свой личный дневник.
Вспомнилось, как зимой в Москве мы чинно выходили из дома в теплых шапках, но как только оставались во дворе одни, срывали их с себя и кидались ими друг в друга. Конечно, все мы ежедневно слышали про «отмороженные уши», «менингит» и прочие ужасы, связанные с переохлаждением головы, но это было так занудно, так буднично, что всерьез не воспринималось. С моими ушами вопрос решил папа: как-то в морозное воскресное утро, когда меня выпустили во двор одну, он заметил в окно, что я бегаю без головного убора. Не сказав маме ни слова, он спустился вниз. При виде его все мои подружки срочно натянули шапки, а мою папа отобрал со словами: «Давай сюда, а то еще потеряешь!» Чувствуя подвох, я неуверенно протянула ему свою голубую мохеровую шапочку с ушками и розочками. Папа взял ее и пошел назад в подъезд. Я провожала его глазами, пока он в нем не скрылся. Прошло минут пять, максимум десять, но мне показалось, что минула целая вечность. Играть мне больше не хотелось. Я отчетливо ощущала, как отмораживаются мои уши, леденеют волосы, а в переохлажденной голове начинается менингит. Все мамины «пугалки» всплыли из памяти и замаячили перед моими глазами во всех жутких подробностях. Я подумала, что папа небось не в курсе, чем грозит мне его безрассудное поведение. «Наверное, побоялся, что мама станет ругаться из-за потерянной шапки, вот и унес ее домой от греха подальше, – пришла к выводу я. – А на то, что я от этого заболею и умру, папе наплевать!» Мне срочно захотелось домой, в тепло. Но вернуться без шапки я не могла, что я скажу маме, если дверь откроет она?!
Еще полчаса назад я не чувствовала холода, но теперь моя голова отмерзала с каждой секундой и мысли в ней застывали, едва появившись. Но все-таки я придумала, что делать. Попросила свою дворовую подружку Ленку подняться в мою квартиру, вызвать моего папу и потихоньку попросить у него назад мою шапку. И строго-настрого наказала Ленке ни за что не рассказывать, зачем она пришла, если вдруг нарвется на мою маму. Подружка вернулась во двор с моей шапкой подмышкой очень быстро. Ленке даже не пришлось ничего объяснять: дверь открыл папа и сразу сунул Ленке мою шапку, будто ждал ее прихода. Эта история произвела на меня глубокое впечатление, несмотря на то, что заняла не более четверти часа. Страшные картины обморожения в моем воображении вкупе с лихорадочным поиском решения, как не попасться на глаза маме, отложились в моем детском сознании штампом: шапку снял – получил проблемы.
По моим детским наблюдениям, в советской семье главной всегда была жена: в семьях всех моих московских подруг командовали мамы, их боялись папы, дети и даже бабушки. Когда такая же семья приезжала работать за границу, это не так бросалось в глаза, ведь в командировку отправляли мужчину с семьей, а не наоборот, и формально именно он отвечал за поведение своих близких и обязан был в случае необходимости призывать их к порядку. Но все равно почти все советские мужчины больше всего боялись не начальников и не внешних обстоятельств, а собственных жен.
А в моей семье было нечто среднее: мы все слушались маму, но в итоге всегда поступали, как считал нужным папа.
Сказалась война и на наших бытовых привычках – не то, чтобы очень сильно, но все же мы это чувствовали. К примеру, раньше мы с мальчишками играли в «брызгалки», паля друг в друга из дорогих водных «пестиков», которые периодически ломали и просили у родителей новые. Но с началом войны импортные игрушки значительно подорожали и так легко родители нам их уже не покупали. Теперь мы брызгались из одноразовых шприцев, их по доброте душевной выдавала нам доктор-аптека.
Продукты очень подорожали, зато из Союза стала целыми ящиками поступать гуманитарная помощь. Раз в месяц продуктовые наборы выдавались каждой семье. Благодаря этим пайкам, я впервые в жизни попробовала топленое масло из большой стеклянной банки и бычков в томате. Еще в наборе были гречка, вермишель, соль, сахар, сгущенка и тушенка.
Бычки в томате из гуманитарной помощи оказались первой в моей жизни рыбой, на которую у меня не было аллергии. До этого родители при мне рыбу не готовили и сами не ели: мама считала, что я покрываюсь сыпью и задыхаюсь не только от ее запаха, но даже от вида. В Москве так оно и было: стоило мне где-то в гостях съесть хоть крохотный кусочек рыбы, как у меня немедленно заплывали глаза, распухали губы, и нещадно драло горло. Иногда этого всего не происходило, зато я начинала задыхаться, а с внутренней стороны запястий немедленно высыпала крапивница.
Но я все равно продолжала потихоньку ставить эксперименты над собой, время от времени тайком пробуя рыбу. Меня терзало непреодолимое любопытство, почему все остальные рыбу спокойно едят, а мой организм сопротивляется?! И почему каждый раз по-разному?
Пробу с бычков в томате я тоже сняла тайком. Оставшись дома одна, я достала из холодильника открытую банку, зацепила вилкой маленькую рыбку, отправила ее в рот и стала прислушиваться к организму, ожидая, какое сопротивление он окажет в этот раз. Время шло, но со мной не происходило абсолютно ничего, кроме того, что вкус бычка мне понравился.
В моей аллергии на рыбу мама винила себя. Она говорила, что все девять месяцев, пока она меня ждала, ей непреодолимо хотелось рыбы. Врачи из ее семьи сказали, что ничего плохого в этом нет: ребенок, то есть, я, получит много фосфора и родится очень умным. И тетя Мотя маме на радость готовила рыбу во всех возможных видах – жареную, вареную, запеченную, уху, пирожки с рыбой, заливное и рыбные салаты. А в промежутках между этим мама лакомилась воблой и копченой рыбкой с рынка.
– Должно быть, я поела рыбы и за тебя тоже! – грустно признавала мама. – Но я рассчитывала, что ты будешь умная!
– А я и есть умная! – гордо отвечала я. И действительно считала себя такой: зря, что ли, во мне столько фосфора, что мой организм даже больше его не принимает!
Но бычку в томате мой гигантский фосфорный умище никак не помешал. Он прекрасно проскочил, и к приходу родителей консервная банка была пуста, а я очень довольна.
При виде этой картины мама было схватилась за голову, но папа опередил ее словами:
– Ирина, не кричи, нам это выгодно! Разносолов у нас больше нет, и прекрасно, если ребенка можно прокормить бычками.
– Аллерген имеет свойство накапливаться в организме, – грозно изрекла мама, подозрительно меня осматривая. – Вот сейчас она съела всю банку, а реакция наступит ночью! Сам тогда и будешь ее спасать от такого прокорма!
В тот день мама меня никуда не выпустила и до самого вечера подозрительно на меня косилась, проверяя, не начался ли у меня анафилактический шок, ужасы которого она очень любила расписывать. Но ничего так и не случилось.
– Должно быть, в этих консервах совсем нет рыбы, одни субпродукты и красители, – разочарованно вздохнула мама. – Вкусовые рецепторы можно обмануть, но организм-то не проведешь!
С того дня «гуманитарные» бычки в томате стали официальным блюдом в моем рационе, я их обожала. Ела сама и втихаря таскала котятам под центральной лестницей госпиталя. Мальчишки тоже регулярно притаскивали им гостинцы из «гуманитарки», как мы ее называли, и, благодаря нам, котята вскоре выросли в упитанных котов.
Как-то вместо бычков из Союза прислали консервированный лосось, его мой организм тоже спокойно проглотил и полюбил. Папа посмеялся и сказал, что голод не тетка, а мой организм – не дурак, в военное время ему не до аллергий.
Как раньше мне нравилась довольно простая иранская еда, так и теперь пришлась по душе нехитрая «гуманитарка». Из всех московских вкусностей я скучала только по тети Мотиным домашним пирожкам с капустой. Хотя, кроме них, она готовила целую кучу того, чего в Тегеране совсем не было – мясо в духовке под сыром и майонезом, холодец, оливье, свиные отбивные, рулеты с маком… Но без всего этого я спокойно обходилась.
С началом войны закрылось не только мое английское отделение армянской школы, как ожидалось, но и все остальные. Из-за бомбежек школы в центре города временно прекратили работу. Месяца через два школа возобновила работу, но английского отделения в ней не стало.
Мама с новой силой заладила свою старую песню, ругая папу, что «по милости его дурацкой работы его дочь станет тегеранским дворником». Живописала, как я буду подметать Тегеран, напевая себе под нос на фарси, потому что ни на что иное мне не хватит знаний. Знала б она, сколько дворников, напевающих на фарси, станут подметать ее родную Москву пару десятков лет спустя! Но тогда никто даже представить себе не мог, какие изменения ждут нашу Родину в ближайшее десятилетие.
– Даже до того, как советский строй ввел всеобщее обязательное среднее образование, – грозно вещала мама, – в деревнях и то заканчивали три класса. А ты ребенку и их не дал закончить! Даже в этом вашем Иране шахиня добивалась ликвидации неграмотности. И что в итоге? Шахиню прогнали, а неучами останутся наши дети!
В этом духе мама пилила папу дня три кряду. Он ничего не отвечал и ходил задумчивый. А в один прекрасный день вернулся из посольства довольный.
– Я придумал, как побороть неграмотность отдельно взятых советских детей! – заявил он.
– В медресе, что ли, поведешь?! – съехидничала мама (медресе – исламская религиозная школа при мечети – перс.).
Папа рассказал, что к одному из наших дипломатов приехала из Союза его жена-учительница и рассчитывает пробыть с ним целый год. В Москве Светлана Александровна, так ее звали, работает завучем школы и преподает русский язык и литературу. В Тегеране работы для нее пока не нашлось, но поработать она не прочь. Папа уже переговорил со Светланой Александровной, и она согласилась два раза в неделю приезжать к нам в бимарестан, чтобы заниматься с нами русским и литературой. А поскольку такой статьи в бюджете нет и официально все дети эвакуированы на Родину, то на оплату труда учительницы придется скинуться из своих зарплат. Но, по словам папы, педагог сама распереживалась, узнав, что в советском госпитале подрастают «неучи» и согласилась на символическую оплату.
– А привозить ее я буду сам! – победно изрек папа, ожидая от мамы похвалы.
Но малой кровью получить похвалу от моей мамы никогда не удавалось.
– А английский тоже она будет преподавать? – подозрительно прищурилась она.
– Инглиш я буду преподавать сам! – храбро заявил мой папа. – Леонид Владимирович рассказал, как сам обучил своего сына, когда тот отставал по языку. Примерно в таких же условиях, за рубежом. В итоге в Москве Алеша оказался лучше всех сверстников! Методику я понял, так что мы со своей медресе, как ты выражаешься, еще переплюнем вашу Первую школу!
– Разговоры одни! – махнула рукой мама и тут же нашла, к чему еще прицепиться:
– А математика?
На математику у папы ответа не было, ее никто не знал. Он развел руками.
– Я же говорила! – патетически воскликнула мама.
Но тут папе, наконец, надоело быть крайним, и он парировал:
– Ты же у нас финансовый закончила и экономист по образованию? Вот и займись с детьми математикой! А я беру на себя английский.
На это мама надулась и прекратила дискуссию.
Родители Сереги и Макса с энтузиазмом восприняли идею со Светланой Александровной и тут же согласились на нее скинуться.
Вскоре папа привез нашу будущую учительницу знакомиться. Светлана Александровна оказалась очень симпатичной тетей с приятным грудным голосом и добрыми глазами. Всем троим бимарестанским «неучам» в лице Сереги, Макса и меня она сразу понравилась. Она поговорила сначала со всеми тремя, потом с каждым из нас в отдельности, а потом с нашими родителями. В результате было решено, что мы с Серегой станем заниматься вместе, так как теоретически мы оба в четвертом классе. А с третьеклассником Максом Светлана Александровна будет заниматься индивидуально по программе его класса. Оплату она брала почасовую, поэтому наши с Серегой родители смогли поделить расходы на «ликвидацию нашей неграмотности» пополам, а Максовым пришлось платить отдельно, других третьеклассников у нас не было.
Светлана Александровна сказала, что во время наших занятий будет делать упор на русский и литературу, так как это ее специальность, но в отведенное время может также давать нам домашние задания по истории, природоведению, рисованию и внеклассному чтению и проверять их во время следующего урока. От математики учительница тоже категорически отреклась.
Нам повезло: у Светланы Александровны оказались с собой дидактические материалы по русскому языку. В Москве они были большим дефицитом, это я знала из Олиных писем. «Дидактичка» по каждому предмету предназначалась для учителя и содержала все контрольные, запланированные Министерством Просвещения на данный год обучения. Например, в «дидактичке» по русскому за 4-й класс были собраны все диктанты, изложения и условия прочих проверочных работ по русскому языку за каждую четверть. Разумеется, иметь такое пособие дома было очень выгодно: можно вперед прописать все «контрошки» и жить спокойно. Школьные учителя негласно приветствовали наличие у ученика «дидактички», хоть это было и не положено. Но педагоги понимали, что по «подпольной» брошюрке школьников непременно станут гонять дома родители, чтобы их чадо блеснуло на контрольной и утерло нос всем остальным. В советской школе все стремились к тому, чтобы их ставили в пример остальным – и дети на уроках, и мамы-папы на родительских собраниях. А учителя этим соперничеством успешно пользовались, чтобы вовлечь родителей в обучение отпрыска. Но «дидактички» выдавали в РОНО ограниченным количеством на каждую школу, под подписку директора, и выдавать их на руки ученикам строго запрещалось. Оля писала мне, что папы-мамы крутились, как могли, ведь в продаже «дидактичек» не было, а тем временем их чада безнадежно проигрывали в успеваемости счастливчикам, которые знали все задания контрольных наперед и тренировались по ним дома.
Из этого в Москве возник целый «подпольный самиздат», как называл его Олин папа, которому пришлось в нем активно участвовать. Оля рассказала, что их классная руководительница в строжайшей тайне выдала одну «дидактичку» Олиному папе всего на один день, чтобы он размножил ее на весь класс у себя в НИИ на «ротапринте» – копировальном аппарате. По словам подружки, таким образом их «классная» боролась за показатели своего подшефного класса в глазах РОНО, а вот Олиному папе пришлось нелегко. В НИИ, оборудованных «ротапринтами», в то время велся жесткий учет каждой копии, так государство боролось с размножением запрещенной литературы. В учреждении, где и без того была строгая пропускная система и куда посторонний проникнуть никак не мог, «ротапринт» стоял в специально охраняемой комнате и при нем неотлучно находился сотрудник на отдельной ставке – оператор копировального аппарата.
Олиному папе как-то удалось прорвать все кордоны и сделать 40 копий брошюры для дочкиных одноклассников, но после этого иначе как «подпольным самиздатчиком» он себя не называл.
О треволнениях с «дидактичками» Оля писала мне еще в прошлом учебном году, но тогда я не очень поняла суть проблемы. Такой аппарат фирмы «Canon» совершенно спокойно стоял в канцелярии нашего госпиталя, не вызывая никакого ажиотажа. Только мы называли его не «ротапринт», а «копир». И в секретариате посольства был такой: только если за бимарестанским вообще никто не следил, то посольский тоже был подотчетным, хотя до московского, который в охраняемой комнате, а комната – в секретном НИИ, ему, конечно, было далеко. Чтобы воспользоваться посольским копиром, надо было всего лишь договориться с секретаршей.
Как выяснилось, ради этого доступного копира Светлана Александровна и захватила из Москвы «дидактички» по русскому за все классы, хотя тогда еще и понятия не имела, что ей предстоит учить «бимарестанких неучей». Она хотела в Тегеране сделать копии для своих московских учеников.
Благодаря этим дидактическим материалам и тому, что наша учительница очень любила свой предмет, мы с Серегой очень скоро стали показывать по русскому удивительные результаты. А когда поняли, что у нас получается, и Светлана Александровна нас хвалит, и сами увлеклись предметом. Мы с увлечением писали диктанты и изложения, радуясь тому, что с каждым днем в них все меньше ошибок.
Занимались мы на последнем этаже нашего жилого дома. Там, в актовом зале, где обычно проходили бимарестанские банкеты и репетиции к ним, для нас оборудовали учебный класс. Даже добыли в закрывшейся посольской школе две настоящие парты и школьную доску с мелом. Папа привозил Светлану Александровну четыре раза в неделю: по понедельникам и средам она занималась с Максом, а по вторникам и четвергам – с Серегой и мной. У Макса в каждый «школьный» день было два урока по 45 минут, а у нас с Серегой – три. Между уроками, как в настоящей школе, у нас была переменка, в которую мы отдыхали и готовились к следующему уроку.


