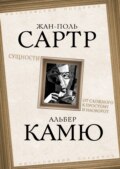Жан-Поль Сартр
Проблемы метода
Однако марксистский волюнтаризм, для которого анализ служит одной из излюбленных тем рассуждений, свел эту операцию к пустой церемонии. Теперь уже нельзя сказать, что факты изучаются в общей перспективе марксизма с целью обогащения знания и освещения действия: анализ состоит исключительно в том, что отделываются от частностей, извращают значение тех или иных событий, искажают или даже измышляют факты, чтобы обнаружить за ними в качестве их субстанции неизменные фетишизированные «синтетические понятия». Открытые понятия марксизма стали закрытыми; они больше уже не являются ключами, интерпретационными схемами: они утверждаются как самоцель, как уже тотализированное знание. Эти сингуляризированные и фетишизированные типы марксизм делает, выражаясь кантовским языком, конститутивными понятиями опыта. Реальное содержание этих типических понятий всегда определяется прошлым знанием, но для современного марксиста они превращаются в вечное знание. Единственное, о чем он заботится в процессе анализа, – как «пристроить» (placer) эти сущности. Чем больше его уверенность в том, что они априори представляют истину, тем менее разборчив он в доказательствах. Для французских коммунистов достаточно поправки Керстайна, призывов радио «Свободная Европа»[26] и разного рода слухов, чтобы «пристроить» такую сущность, как «мировой империализм», сделав ее причиной венгерских событий. Тотализирующее исследование сменилось схоластикой тотальности. Эвристический принцип: «искать целое через части» – обернулся террористической практикой: «уничтожать частное»[27]. Не случайно Лукач – тот самый Лукач, который так часто учинял насилие над историей, – в 1956 г. нашел лучшее определение этому застывшему марксизму. Двадцать лет практики дали ему полное право назвать эту псевдофилософию волюнтаристическим идеализмом.
В наше время социальный и исторический опыт находится за пределами знания. Буржуазные понятия почти не обновляются и быстро выходят из употребления; те, что остаются, не имеют под собой основания: подлинные достижения американской социологии не могут скрыть ее теоретической неуверенности; после ошеломляющего начала психоанализ застыл. Накоплены многочисленные познания, касающиеся частностей, но нет никакой базы. Что же до марксизма, то у него есть теоретическое основание, он охватывает всю человеческую деятельность, но теперь уже он ничего не знает: его понятия – это предписания; цель его заключается уже не в приобретении познаний, а в том, чтобы априори конституироваться в абсолютное знание. В противовес этому двоякому незнанию экзистенциализм смог возродиться и сохранить себя благодаря тому, что он утверждал реальность людей, так же как Кьеркегор утверждал, наперекор Гегелю, свою собственную реальность. Но датский мыслитель отвергал гегелевское понимание человека и действительности. Напротив, экзистенциализм и марксизм стремятся к одной и той же цели, но у второго человек оказался поглощенным идеей, тогда как первый ищет его всюду, где он есть, – на работе, дома, на улице. В отличие от Кьеркегора, мы, конечно, не утверждаем, что этот реальный человек непознаваем. Мы говорим только, что он не познан. Если он пока еще ускользает от познания, то лишь потому, что все те понятия, которыми мы располагаем для его понимания, заимствованы из правого либо из левого идеализма. Мы отнюдь не смешиваем эти два вида идеализма: первый заслуживает своего названия из-за содержания понятий, которыми он оперирует, второй – из-за того, как он пользуется сейчас своими понятиями. К тому же марксистская практика в массах не отражает или слабо отражает отвердение теории; но именно конфликт между революционным действием и схоластикой оправдания мешает человеку с коммунистическими убеждениями как в социалистических, так и в капиталистических странах обрести ясное самосознание: одной из самых приметных особенностей нашей эпохи является то, что истории не удается познать себя. Мне, вероятно, возразят, что так было всегда; и действительно, так было до середины прошлого века – коротко говоря, до Маркса. Но сила и богатство марксизма заключались в том, что он представлял собой самую решительную попытку осветить исторический процесс в его тотальности. А ныне мы наблюдаем обратное: вот уже двадцать лет, как он закрывает историю своей тенью, и происходит это оттого, что он перестал жить вместе с историей и пытается в лице бюрократического консерватизма свести изменение к тождеству[28].
Однако нужно пояснить: это окостенение марксистской теории не равносильно естественному старению. Оно вызвано мировой обстановкой частного типа; марксизм далеко не исчерпал себя, он еще совсем юн, он едва только вышел из детского возраста, едва начал развиваться. Поэтому он остается философией нашего времени: его невозможно преодолеть, потому что еще не преодолены породившие его обстоятельства. Наши мысли, каковы бы они ни были, могут формироваться только на этой почве; они должны вмещаться в рамки, которые устанавливает для них марксизм, иначе они канут в пустоту или обратятся вспять. Экзистенциализм, как и марксизм, исследует опыт, чтобы выявить в нем конкретные синтезы; эти синтезы он может помыслить лишь в контексте продвигающейся диалектической тотализации, такой, как сама история или же – если строго придерживаться избранной нами точки зрения культуры – как «становление-философии-миром». Для нас истина становится, она стала и станет. Это беспрерывно тотализирующая себя тотализация; отдельные факты ничего не значат, они ни истинны, ни ложны, пока они не отнесены через посредство разного рода частичных тотальностей к осуществляющейся тотализации. Пойдем дальше. Когда Гароди пишет (“Humanité” за 17 мая 1955 г.): «Действительно, марксизм образует сегодня единственную систему координат, которая позволяет определить место той или иной мысли и охарактеризовать ее в какой бы то ни было области – от политической экономии до физики, от истории до этики», мы с ним согласны. Мы согласились бы с ним и в том случае, если бы он распространил это утверждение – что, однако, не входило в его задачу – на действия индивидуумов и масс, на произведения, на образ жизни и виды труда, на чувства, на конкретное развитие какого-либо установления или какого-либо характера. И, если пойти еще дальше, мы целиком и полностью разделяем мысль, высказанную Энгельсом в письме, которое было использовано Плехановым для известного выступления против Бернштейна: «Следовательно, экономическое положение не оказывает своего воздействия автоматически, как это для удобства кое-кто себе представляет, а люди сами делают свою историю, однако в данной, их обусловливающей среде, на основе уже существующих действительных отношений, среди которых экономические условия, как бы сильно ни влияли на них прочие – политические и идеологические, – являются в конечном счете все же решающими и образуют ту красную нить, которая пронизывает все развитие и одна приводит к его пониманию»[29]. Читателям уже известно, что мы отнюдь не рассматриваем экономические условия как статическую структуру неизменного общества: именно заключенные в них противоречия служат движущей силой истории. Смешно, что Лукач в цитированной мною работе решил, будто он расходится с нами, когда напоминает следующее марксистское определение материализма: «примат существования над сознанием»[30], хотя для экзистенциализма – на что указывает уже само его название – утверждение о примате существования над сознанием является основополагающим[31].
Будем еще более точны. Мы безоговорочно принимаем следующую формулировку из «Капитала», в которой содержится определение «материализма» Маркса: «Способ производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще»[32]; и это обусловливание мы не можем помыслить иначе как в форме диалектического движения (противоречия, снятие, тотализация). М. Рюбель упрекает меня в том, что я не упоминаю об этом «марксовском материализме» в своей статье 1946 г. «Материализм и революция»[33]. Но он сам же и объясняет мое молчание: «Правда, автор имеет в виду скорее Энгельса, чем Маркса». Совершенно верно – и даже главным образом современных французских марксистов. Но приведенное положение Маркса останется, на мой взгляд, непреодолимой очевидностью, до тех пор пока преобразование общественных отношений и технический прогресс не освободят человека от гнета нужды. У Маркса есть пассаж, в котором упоминается об этом отдаленном времени: «Царство свободы начинается в действительности лишь там, где прекращается работа, диктуемая нуждой и внешней целесообразностью, следовательно, по природе вещей оно лежит по ту сторону сферы собственно материального производства»[34]. Когда по ту сторону производства жизни будет для всех существовать сфера подлинной свободы, марксизм изживет себя; его место займет философия свободы. Но у нас нет никаких средств, никаких интеллектуальных инструментов, никакого конкретного опыта, благодаря которым мы могли бы представить себе эту свободу и эту философию.
II. Проблема посредствующих звеньев и вспомогательных дисциплин
Почему же я не считаю себя просто марксистом? Да потому, что для меня утверждения Энгельса и Гароди – это руководящие принципы, это постановка задач, это проблемы, а не конкретные истины; потому, что они представляются мне недостаточно определенными и, следовательно, допускающими разные интерпретации, – одним словом потому, что они представляются мне регулятивными идеями. Современный марксист, напротив, находит их ясными, точными и однозначными; для него они уже составляют знание. Я же полагаю, что все еще только предстоит сделать, а именно: выработать метод и конституировать науку.
Нет сомнения, что марксизм позволяет отнести (situer) не только ту или иную речь Робеспьера, политику монтаньяров по отношению к санкюлотам, экономические ограничения и законы о «максимуме», принятые Конвентом, но и поэмы Валери, и «Легенду веков»[35]. Но что значит отнести? Обращаясь к работам современных марксистов, я вижу, что это значит для них определить действительное место рассматриваемого объекта в тотальном процессе: выяснить материальные условия его существования, выявить класс, его породивший, интересы этого класса (или какой-либо фракции этого класса) и его развитие, формы его борьбы против других классов и сложившееся соотношение сил, цель, поставленную данным классом, и т. д. Речь, решение, принятое голосованием, политическая акция или книга предстанут тогда в своей объективной реальности как некоторый момент этого конфликта; им дадут определение, исходя из факторов, которыми они обусловлены, и из реального действия, которое они производят; тем самым они будут включены как характерные проявления во всеобщность идеологии или политики, также рассматриваемых в качестве надстройки. Так, жирондистов отнесут к буржуазии коммерсантов и судовладельцев, которая своим торговым империализмом спровоцировала войну, но очень скоро уже помышляла о том, чтобы ее прекратить, поскольку война мешала внешней торговле. Монтаньяры же, наоборот, окажутся представителями новой буржуазии, разбогатевшей на скупке национальных имуществ[36] и на военных поставках, главный интерес которой, следовательно, заключался в продолжении конфликта. Действия и речи Робеспьера истолкуют, исходя из фундаментального противоречия: чтобы продолжать войну, этот мелкий буржуа должен был опираться на народ, но обесценение ассигнатов, скупка и продовольственный кризис привели к тому, что народ стал требовать экономического дирижизма[37], который наносил ущерб интересам монтаньяров и претил их либеральной идеологии. За этим конфликтом обнаружат более глубокое противоречие – между авторитарным парламентаризмом и прямой демократией[38]. Требуется «отнести» какого-либо современного автора? Пожалуйста. Питательной средой для всех буржуазных произведений служит идеализм; идеализм этот претерпевает изменения, так как он по-своему отражает глубинные противоречия общества; любое из его понятий – оружие против восходящей идеологии, либо наступательное, либо оборонительное, в зависимости от обстановки. Или, лучше, так: поначалу наступательное, в дальнейшем оно становится оборонительным. Рассуждая подобным образом, Лукач различает мнимую безмятежность тех лет, что предшествовали Первой мировой войне, – безмятежность, которая выражается в «своего рода беспрерывном карнавале фетишизированного внутреннего мира», и великое покаяние, и спад послевоенного периода, когда писатели ищут «третий путь», чтобы скрыть свой идеализм.
Подобный метод нас не удовлетворяет: он является априорным; его понятия не выведены из опыта или, во всяком случае, из нового опыта, который он пытается расшифровать, – он их уже образовал и, не подвергая сомнению их истинность, отводит им роль конститутивных схем; единственная его цель – втиснуть рассматриваемые события, личности или действия в заранее отлитые формы. Так, например, по мнению Лукача, экзистенциализм Хайдеггера под влиянием нацистов превращается в акти-визм[39]; французский экзистенциализм, имеющий либеральную и антифашистскую направленность, наоборот, выражает мятеж порабощенных в период оккупации мелких буржуа. Хороша сказка! Да, на беду, Лукач не учитывает двух важных фактов. Прежде всего, в Германии существовало по крайней мере одно экзистенциалистское течение, отвергавшее всякое соглашение с гитлеризмом и, однако, пережившее Третий рейх, – оно было представлено Ясперсом. Почему это непокорное течение не укладывается в предписанную схему? Может быть, оно, наподобие павловской подопытной собаки, обладает «свободным рефлексом»? Далее, в философии есть такой существенный фактор, как время. Требуется немало времени, чтобы написать теоретический труд. Моя книга «Бытие и ничто», к которой явно обращается Лукач, стала результатом изысканий, начатых в 1930 г. Я впервые прочел Гуссерля, Шелера, Хайдеггера и Ясперса в 1933 г., во время годичной стажировки во Французском Доме в Берлине, и именно в тот период (когда «активизм» Хайдеггера уже должен был проявиться в полной мере) я испытал их влияние. Наконец, зимой 1939–1940 гг. я уже владел методом и сделал основные выводы. Да и что такое «активизм», как не формальное, пустое понятие, позволяющее одним махом разделаться с несколькими идеологическими системами, между которыми существует лишь поверхностное сходство? Хайдеггер никогда не был «активистом» – по крайней мере если судить по его философским трудам. Само это слово, при всей своей расплывчатости, свидетельствует о полном непонимании марксистом других воззрений. Да, у Лукача есть инструменты, необходимые для того, чтобы понять Хайдеггера, но он его не поймет, потому что его надо читать, вдумываться в смысл каждой фразы. А на это, насколько мне известно, не способен сейчас ни один марксист[40]. Наконец, была целая диалектика – и очень сложная – от Брентано до Гуссерля и от Гуссерля до Хайдеггера: влияния, расхождения, единомыслие, новые расхождения, непонимание, недоразумения, отречения, преодоления и т. д. Все это в итоге составляет то, что можно назвать региональной историей. Что же, ее надо рассматривать как чистый эпифеномен? Тогда пусть Лукач так и скажет. Или существует нечто вроде движения идей и феноменология Гуссерля входит как сохраненный и снятый момент в систему Хайдеггера? В этом случае принципы марксизма остаются неизменными, но отнесение становится гораздо более сложным.
Точно так же стремление поскорее свести политическое к социальному коверкает порой исследования Герена: с ним трудно согласиться в том, что революционная война уже с 1789 г. является новым эпизодом торгового соперничества Англии и Франции. Милитаристский настрой жирондистов имеет, по существу, политическую природу; вне всякого сомнения, жирондисты в самой своей политике представляют породивший их класс и выражают интересы кругов, оказывающих им поддержку: их гордый идеал, их стремление подчинить народ, который они презирают, буржуазной элите Просвещения, т. е. предоставить буржуазии роль просвещенного властителя, их радикализм на словах и оппортунизм на практике, их восприимчивость и неосмотрительность – все это словно несет на себе фабричное клеймо, но в этом сказывается скорее опьянение мелкобуржуазной интеллигенции, которая вот-вот придет к власти, чем уже испытанное высокомерное благоразумие судовладельцев и негоциантов.
Когда Бриссо ввергает Францию в войну[41], чтобы спасти революцию и разоблачить измену короля, этот наивный макиавеллизм, в свою очередь, прекрасно выражает только что описанную нами позицию жирондистов[42]. Но если перенестись в ту эпоху и принять во внимание предшествующие события: бегство короля, расстрел республиканцев на Марсовом поле, поправение доживающего последние дни Учредительного собрания и пересмотр конституции, колебания масс, недовольных монархией и запуганных расправами, массовое уклонение парижской буржуазии от голосования (10 000 голосующих на 80 000 избирателей на муниципальных выборах) – одним словом, если принять во внимание, что революция остановилась; если учесть к тому же честолюбие жирондистов – стоит ли сейчас затушевывать политическую практику? Надо ли напоминать слова Бриссо: «Нам нужны великие измены»?[43] Надо ли указывать на предосторожности, принятые в течение 92-го года, чтобы не дать Англии вступить в войну, которая, по Герену, должна была быть направлена как раз против Англии?[44] Почему нужно непременно рассматривать это предприятие[45] – которое само обнаруживает свой смысл и свою цель через речи и сочинения современников – как обманчивую видимость, скрывающую столкновение экономических интересов? Историк, даже если он марксист, не должен забывать, что политическая реальность для людей 92-го года есть некий абсолют, нечто несводимое. Конечно, они пребывают в заблуждении, не ведая о действии сил более скрытых, не так легко обнаруживаемых, но неизмеримо более могучих; но это-то и определяет их как буржуа 92-го года. Неужели из-за этого надо впадать в противоположное заблуждение, отрицая относительную несводимость их деятельности и политических побуждений, которые она характеризует? С другой стороны, речь идет не о том, чтобы раз и навсегда выяснить природу и силу сопротивления, которое оказывают надстроечные явления попыткам грубого сведе́ния, – это значило бы противопоставить один вид идеализма другому. Нужно просто отказаться от априоризма: только непредвзятое исследование исторического объекта может в каждом конкретном случае установить, отражает ли действие или произведение надстроечные побуждения групп либо индивидуумов, возникшие в силу определенных базисных обусловливаний, или же их невозможно объяснить иначе, как только ссылаясь непосредственно на экономические противоречия и столкновение материальных интересов. Война за отделение[46], несмотря на пуританский идеализм северян, должна быть истолкована непосредственно в экономических терминах, это сознавали уже современники; революционная же война, напротив, хотя и приобрела начиная с 93-го года вполне определенный экономический смысл, в 92-м году не могла быть прямо сведена к исконному столкновению торговых капитализмов. Необходимо рассмотреть посредствующие звенья (médiations): конкретных людей; отпечаток, который наложила на них обусловленность базисом; применяемые ими идеологические инструменты; реальную среду, в которой осуществлялась революция. А главное – не следует забывать, что политика сама по себе имеет социальный и экономический смысл, так как буржуазия стремится разорвать путы отжившего феодализма, изнутри мешающего ей достичь полноты своего развития. Столь же абсурдно слишком быстро сводить все богатство идеологии к интересам классов: тогда мы в конце концов вынуждены будем признать правоту тех антимарксистов, которых в наши дни называют «макиавеллистами». Когда Законодательное собрание решает начать освободительную войну, оно, без сомнения, вовлекается в сложный исторический процесс, который с необходимостью приведет к тому, что оно начнет завоевательные войны. Но надо быть совсем уж убогим макиавеллистом, чтобы отводить идеологии 92-го года роль простого покрова, наброшенного на буржуазный империализм. Если мы не призна́ем ее объективной реальности и ее действенности, мы впадем в ту форму идеализма, которую часто приходилось разоблачать Марксу, – она известна под названием «экономизм»[47].
Почему мы разочарованы? Почему мы восстаем против блестящих и ложных доказательств Герена? Да потому, что конкретный марксизм должен изучать реальных людей, а не растворять их в сернокислотной ванне. При скором и схематичном объяснении: «Война – дело рук торговой буржуазии» хорошо известные нам люди – Бриссо, Гюаде, Жансонне, Верньо – исчезают или оказываются в конечном счете совершенно пассивными орудиями своего класса. Но в конце 91-го года верхушка буржуазии едва не потеряла контроль над революцией (вновь овладеть ситуацией ей удастся лишь в 94-м году): пришедшие к власти новые люди были мелкими буржуа, в большей или меньшей степени деклассированными, небогатыми, почти ничем не связанными, не отделявшими свою судьбу от судьбы революции. Естественно, они испытывали какие-то влияния, их подкупал «высший свет» («весь Париж», с которым не шло ни в какое сравнение избранное общество Бордо). Однако они никоим образом не могли стихийно выражать коллективную реакцию бордоских судовладельцев и торгового империализма; они не чинили препятствий умножению богатств, но мысль рисковать революцией в войне ради того, чтобы обеспечить прибыль некоторой части крупной буржуазии, была им глубоко чужда. Впрочем, теория Герена приводит нас к весьма неожиданному результату: буржуазия, извлекающая прибыли из внешней торговли, ввергает Францию в войну против австрийского императора, чтобы ослабить могущество Англии; в то же время ее представители в правительстве делают все, чтобы помешать Англии вступить в войну; год спустя, когда война Англии наконец объявлена, эта буржуазия, утратившая мужество в момент успеха, уже не выражает никакого желания вести войну, и ее должна сменить буржуазия новых земельных собственников, не заинтересованная в расширении конфликта. Для чего мы затеяли столь подробное обсуждение? Для того, чтобы показать на примере одного из лучших ученых-марксистов, что, когда исследователь слишком быстро тотализирует и бездоказательно превращает значение в намерение, результат – в действительно поставленную цель, он не видит реальности. И еще – что надо всячески остерегаться подменять реальные, совершенно определенные группы (Жиронда) недостаточно определенными общностями (буржуазия импортеров и экспортеров). Жирондисты существовали в действительности, они преследовали определенные цели, они творили историю в конкретной обстановке, сообразуясь с внешними условиями: они рассчитывали ловко использовать революцию для собственной выгоды, а на деле придали ей более радикальный и демократический характер. Мы должны понять и объяснить их в рамках этого политического противоречия. Нам, разумеется, станут возражать: цель, объявленная сторонниками Бриссо, не более чем маска, эти революционные буржуа воображают себя прославленными римлянами, в действительности же то, что они делают, определяется через объективный результат. Но здесь надо быть очень внимательными. Подлинная мысль Маркса, которую мы находим в «Восемнадцатом брюмера», заключает в себе попытку осуществить непростой синтез намерения и результата; современное использование этой мысли является поверхностным и недобросовестным. В самом деле, если мы доведем до конца Марксову метафору[48], то придем к новому представлению о человеческой деятельности. Вообразите себе актера, играющего Гамлета и всецело поглощенного этой ролью; он проходит через комнату своей матери, чтобы убить Полония, спрятавшегося за ковром. В действительности он делает не это: он пересекает сцену перед публикой, проходя справа налево, чтобы заработать себе на жизнь, чтобы снискать известность, и подобная реальная деятельность определяет его положение в обществе. Однако нельзя отрицать, что эти реальные результаты как-то присутствуют в акте его воображения. Нельзя отрицать, что походка воображаемого принца косвенно, в преломленной форме, выражает его настоящую походку и что сама манера, в какой он воображает себя Гамлетом, есть его способ сознавать себя актером. Вернемся теперь к нашим римлянам 89-го года. Их манера заявлять себя Катонами – это их способ становиться буржуа, членами класса, который открывает историю и уже стремится ее остановить, который мнит себя всеобщим и воздвигает на экономике конкуренции горделивый индивидуализм своих членов – в конечном счете наследников классической культуры. В этом-то все и дело: одно и то же – заявить себя римлянином и стремиться остановить революцию; или, точнее, ее легче остановить, изобразив из себя Брута или Катона: это мышление, само для себя неясное, приписывает себе мистические цели, скрывающие смутное знание его объективных целей. Поэтому можно говорить одновременно о субъективной комедии – простой игре видимостей, за которой ничего нет, не скрыто никакого «бессознательного» элемента, – и об объективной и интенциональной организации реальных средств для достижения реальных целей, без того чтобы этот аппарат был организован каким-либо сознанием или какой-либо предваряющей волей. Просто истина воображаемой практики содержится в практике реальной, и первая – постольку, поскольку она считается всего лишь воображаемой – неявно отсылает к последней как к своей интерпретации. Было бы неверно полагать, будто буржуа 89-го года мнит себя Катоном, чтобы остановить революцию, отрицая историю и подменяя политику добродетелью, и будто он говорит себе, что похож на Брута, чтобы достичь мифического понимания совершаемого им действия, которое выходит из-под его контроля: он есть одновременно и тот и другой. И именно такой синтез позволяет выявить в каждом воображаемое действие как дублет и одновременно матрицу реального и объективного действия.
Но если хотят сказать именно это, тогда сторонники Бриссо в самом своем неведении должны быть ответственны за экономическую войну. Эта внешняя многоуровневая ответственность должна быть интериоризирована как некий неясный смысл разыгрываемой ими политической комедии. Короче, мы судим людей, а не физические силы. Так вот, если исходить из этого прямолинейного, но совершенно верного представления об отношении субъективного к объективации – представления, которое я, со своей стороны, целиком разделяю, Жиронду надо оправдать в данном пункте обвинения: разыгрываемые ею комедии и ее сокровенные мечтания, равно как и объективная организация ее действий, не отсылают к будущему столкновению между Францией и Англией.
Однако в наше время эту непростую идею очень часто сводят к жалкому трюизму. Охотно допуская, что Бриссо не ведал, что творил, настаивают на той банальной истине, что социальная и политическая структура Европы рано или поздно должна была повлечь за собой распространение войны. Стало быть, объявляя войну князьям и императору, Законодательное собрание объявляло ее английскому королю. Именно это оно и делало, само того не зная. Но ведь в таком представлении нет ничего специфически марксистского; те, кто его придерживается, в который раз утверждают то, что всем и так уже известно: последствия наших действий всегда уходят из-под нашего контроля, поскольку всякое завершенное дело вступает во взаимосвязь со всем универсумом и это бесконечное множество отношений превосходит наше понимание. Если смотреть на вещи под этим углом зрения, то человеческое действие приравнивается к действию физической силы, результат которого явным образом зависит от системы, где действует эта сила. Но именно поэтому понятие делать в таком случае уже неприменимо. Ведь что-либо делают люди, а не лавины. Недобросовестность наших марксистов состоит в том, что они играют двумя представлениями, желая сохранить преимущества телеологического подхода и при этом скрыть широко применяемое ими примитивное объяснение через конечную цель. Используя второе представление, они наглядно демонстрируют всем механистическое истолкование истории: цели исчезают. В то же время они пользуются первым представлением, чтобы незаметно превратить в реальные цели человеческой деятельности неизбежные, но непредвиденные последствия, к которым эта деятельность приводит. Отсюда – столь докучные колебания марксистских объяснений: историческое деяние то имплицитно определяется через цели (которые часто бывают лишь непредвиденными результатами), то приравнивается к распространению физического движения в инертной среде. Что это – противоречие? Нет, недобросовестность: нельзя смешивать мелькание понятий с диалектикой.
Задача марксистского формализма – устранение. Метод становится равнозначным террору из-за упорного отказа проводить различия, его задача – тотальная ассимиляция, достигаемая минимальными усилиями. Речь идет не о том, чтобы осуществить интеграцию многообразного как такового, сохраняя за ним его относительную самостоятельность, а о том, чтобы его уничтожить; так, постоянное движение к отождествлению отражает унифицирующую практику бюрократии. Специфические определения вызывают в области теории такие же подозрения, как личности – в реальной жизни. Для большинства современных марксистов мыслить – это значит пытаться тотализировать и под этим предлогом подменять частное всеобщим; это значит пытаться привести нас к конкретному и представить нам в качестве такового фундаментальные, но абстрактные определения. Гегель, по крайней мере, признавал существование частного в виде снятой частности – марксист решил бы, что он тратит время зря, стараясь, к примеру, понять буржуазное мышление в его своеобразии. Для него важно одно: показать, что это мышление является одним из модусов идеализма. Он, конечно, не станет отрицать, что книга, написанная в 1956 г., не похожа на ту, что написана в 1930 г.: ведь мир изменился, и вместе с ним изменилась идеология, отражающая мир с точки зрения определенного класса. Для буржуазии начинается период отступления – идеализм принимает новую форму, чтобы выразить эту новую позицию и новую тактику. Но в восприятии ученого-марксиста это диалектическое движение не покидает сферы всеобщности: требуется только определить его в его общности и показать, что оно выражается в рассматриваемом произведении точно так же, как и во всех других произведениях, относящихся к тому же времени. Вследствие этого марксист считает реальное содержание некоторого поступка или некоторой мысли видимостью, и когда он растворяет частное во всеобщем, он с удовлетворением думает о том, что ему удалось свести видимость к действительности. На деле же он определяет только самого себя – свое субъективное понимание реальности. Маркс был настолько далек от подобной ложной всеобщности, что пытался диалектически построить (engendrer) свое знание о человеке, постепенно восходя от наиболее широких определений к определениям наиболее точным. В одном из писем к Лассалю он характеризует свой метод как исследование, «восходящее от абстрактного к конкретному». А конкретное для него есть иерархическая тотализация иерархически располагающихся определений и реальностей. «Население – это абстракция, если я оставляю в стороне, например, классы, из которых оно состоит. Эти классы опять-таки пустой звук, если я не знаю основ, на которых они покоятся, например наемного труда, капитала и т. д.»[49] Но сами эти фундаментальные определения остались бы абстрактными, если бы мы должны были отделить их от реальностей, к которым они относятся и которые они модифицируют[50]. Население Англии середины XIX в. есть абстрактная всеобщность, «хаотическое представление целого»[51], пока оно рассматривается просто как некое множество; но экономические категории также недостаточно определенны, если мы не положили, что они применяются к населению Англии, т. е. к реальным людям, которые живут и делают историю в капиталистической стране, достигшей самого высокого уровня промышленного развития. Именно в порядке такой тотализации Маркс сумел показать воздействие надстройки на базисные явления.