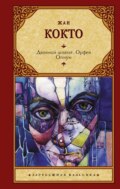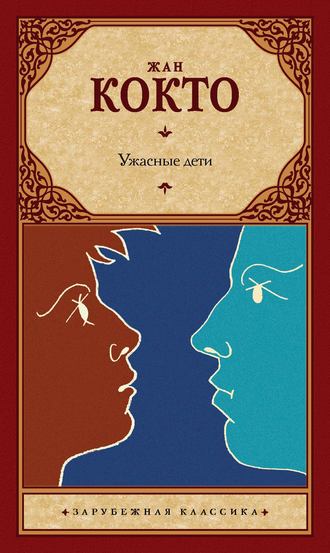
Жан Кокто
Ужасные дети. Адская машина. Дневник незнакомца
Стоило ему достигнуть этого идеала – и уже никакая сила не могла бы сдвинуть его с места. Он больше чем укладывался – он бальзамировался; спеленутый, обложенный запасами пищи, священными безделушками, он уходил в мир теней.
Элизабет дожидалась завершения обустройства, за которым следовал ее выход, и кажется невероятным, как им удавалось целых четыре года из ночи в ночь играть свою пьесу, не держа в уме заранее всех ее сюжетных линий. Ибо, не считая кое-каких штрихов, пьеса была всегда та же самая. Быть может, эти девственно-невежественные души, повинуясь некоему ритму, совершают действо, столь же волнующее, как то, что смыкает на ночь лепестки цветов.
Штрихи вводила Элизабет. Она устраивала сюрпризы. Как-то раз она отставила крем, свесилась до полу и вытащила из-под кровати хрустальную салатницу. В салатнице были креветки. Она прижимала ее к груди, обвив прекрасными обнаженными руками, поводя взглядом лакомки на креветок и на брата.
– Жерар, креветку? Берите, берите! Ну же, они так и просятся в рот.
Она знала пристрастие Поля к перцу, сахару, горчице. Он делал себе с ними бутерброды.
Жерар встал. Он боялся сердить девушку.
– Зараза! – прошептал Поль. Она же терпеть не может креветок. Терпеть не может перца. Она себя заставляет; нарочно ест так смачно.
Сцене с креветками предназначено было длиться до тех пор, пока Поль, не выдержав, не просил дать ему одну. Теперь он был у нее в руках, и она могла карать столь ненавистное ей чревоугодие.
– Жерар, видали вы что-нибудь более презренное, чем шестнадцатилетний парень, который унижается ради креветки? Он половик готов лизать, на четвереньках ползать, уверяю вас. Нет! Не относите ему, пускай сам встанет и возьмет. Что за безобразие, в конце концов, здоровенный детина лежит, исходит слюной и не желает сделать маленького усилия. Мне стыдно за него, потому и не даю ему креветок…
Следовали пророчества. Элизабет изрекала их лишь в те вечера, когда чувствовала, что она в форме, на треножнике, во власти божества.
Поль затыкал уши или хватал книгу и принимался читать вслух. Сен-Симон разделял с Бодлером честь занимать место на его стуле. По окончании пророчеств он говорил:
– Слушай, Жерар, – и громко продолжал:
Люблю дурной твой вкус и вздорные понятья,
Диковинную шаль и пестренькое платье,
И этот узкий лоб.
Он декламировал великолепную строфу, не сознавая, что она воспевает детскую и красоту Элизабет.
Элизабет схватила газету. Подражая голосу Поля, она принялась читать раздел «Разное». Поль кричал: «Хватит, хватит!» Сестра продолжала громче прежнего.
Тогда, воспользовавшись тем, что мучительнице не видно его за газетой, он выпростал руку и, прежде чем Жерар успел вмешаться, со всего маху плеснул в нее молоком.
– Мерзавец! Бешеный!
Элизабет задыхалась от ярости. Газета прилипла к телу, как компресс, все было в молоке. Но, поскольку Поль рассчитывал довести ее до слез, она сдержалась.
– Жерар, – сказала она, – помогите-ка мне, возьмите полотенце, вытрите здесь, газету унесите на кухню. А я-то, – пробормотала она, – как раз собиралась дать ему креветок… Хотите одну? Только осторожно, все в молоке. Принесли полотенце? Спасибо.
Возвращение к теме креветок донеслось до Поля сквозь надвигающуюся дрему. Ему больше не хотелось креветок. Он снимался с якоря. Чревоугодие отваливалось, освобождало его, отпускало, спеленутого, по реке мертвых.
Это был великий миг, который Элизабет всеми силами искусно провоцировала, чтобы перебить его. Она усыпляла брата отказами, а когда было уже поздно, вставала, подходила к постели, ставила ему на колени салатницу.
– Ладно, скотина, я не жадная. Вот тебе твои креветки.
Несчастный приподымал над глубинами сна отяжелевшую голову, слипающиеся, запухшие глаза, рот, уже не вдыхающий человеческий воздух.
– Ну, ешь, что ли. Сам просишь, сам не хочешь. Ешь, а то заберу.
Тогда, словно обезглавленный в последней попытке соприкоснуться с этим миром, Поль приоткрывал губы.
– Нет, сама бы не увидела – не поверила. Эй, Поль! Эй, там! Вот тебе креветка!
Она снимала панцирь, всовывала тушку ему в рот.
– Жует во сне! Смотри, смотри, Жерар! Смотри, как интересно. Вот обжора! Надо же до такого докатиться!
И Элизабет продолжала свою работу с сосредоточенным интересом специалиста. Ноздри ее расширились, язык чуть-чуть высунулся. Серьезная, терпеливая, горбатая, она была похожа на сумасшедшую, кормящую мертвого ребенка.
Из этого показательного урока Жерар усвоил лишь одно: Элизабет обратилась к нему на «ты».
На следующий день он попробовал перейти на «ты» сам. Он боялся нарваться на пощечину, но она приняла взаимное «тыканье», и Жерар ощутил это как глубокую ласку.
* * *
Ночи детской длились до четырех часов утра. Соответственно отодвигалось пробуждение. Около одиннадцати Мариетта приносила кофе с молоком. Его оставляли стынуть. Засыпали снова. При втором пробуждении остывший кофе был не слишком привлекателен. При третьем уже не вставали. Кофе с молоком мог спокойно подергиваться морщинами. Лучше было послать Мариетту в кафе «Шарль», недавно открывшееся в нижнем этаже. Она приносила сэндвичи и аперитивы.
Бретонка, разумеется, предпочла бы, чтоб ей дали возможность стряпать добротные буржуазные блюда, но она поступалась своими привычками и без спора подчинялась причудам детей.
Иногда она расталкивала их, гнала к столу, насильно обслуживала.
Элизабет накидывала пальто на ночную рубашку, усаживалась, погруженная в грезы, опершись на руку щекой. Все ее позы были позами аллегорических женских фигур, представляющих Науку, Земледелие, Времена года. Поль, полусонный, качался на стуле. И тот и другая ели в молчании, как акробаты бродячего цирка в перерыве между спектаклями. День тяготил их. Он казался им пустым. Течение несло их к ночи, к детской, где они снова могли жить.
Мариетта умела наводить чистоту, не нарушая беспорядка. С четырех до пяти она шила в угловой гостиной, превращенной в бельевую. Вечером готовила что-нибудь съестное на ночь и уходила домой. Это был тот час, когда Поль рыскал по пустынным улицам в поисках девушек, которые вызвали бы в памяти сонет Бодлера.
Оставшись дома одна, Элизабет примеряла там и сям свои надменные позы. Она выходила только купить какой-нибудь сюрприз, тут же возвращаясь, чтоб его спрятать. Она бродила по квартире, и ей было не по себе от комнаты, где умерла некая женщина, – вне всякой связи с матерью, которая жила в ней.
Болезненное ощущение возрастало с угасанием дня. Тогда она входила в эту комнату, куда вступили сумерки. Прямая и неподвижная, она стояла в самой середине. Комната тонула, погружаясь все глубже, и сирота давала себя поглотить, не опуская глаз, не подымая рук, стоя, как капитан на борту своего судна.
Бывают такие дома, такие жизни, от которых люди благоразумные пришли бы в изумление. Они бы не поняли, как беспорядок, который, казалось бы, не должен продержаться и двух недель, может держаться годами. А они, эти дома, эти сомнительные жизни, держатся, и все тут, многочисленные, незаконные, держатся вопреки всем ожиданиям. Но в одном благоразумие право: если сила обстоятельств действительно сила, то она толкает их в пропасть.
Необычайные существа и их асоциальное поведение составляют очарование мира множеств, который их отторгает. Жуть берет от скорости, достигаемой вихрем, где вольно дышат эти трагические и легкие души. Начинается это с ребячеств; поначалу в них видят всего лишь игру.
Итак, три года прошли на улице Монмартр в однообразном ритме никогда не ослабевающего высокого напряжения. Элизабет и Поль, созданные для детства, продолжали жить так, словно все еще занимали смежные колыбельки. Жерар любил Элизабет. Элизабет и Поль обожали и терзали друг друга. Каждые две недели после очередной ночной сцены Элизабет собирала чемодан и объявляла, что переедет в гостиницу.
Те же бурные ночи, те же тягучие утра, те же долгие дни, в которых дети были как выброшенные морем обломки, как кроты на свету. Случалось, что Элизабет и Жерар куда-нибудь ходили вдвоем. Поль гулял и развлекался. Но все, что они видели, слышали, само по себе им не принадлежало. Служители неумолимого культа, они все несли в детскую, где претворяли в мед.
Этим бедным сиротам даже в голову не приходило, что жизнь – это борьба, что существуют они контрабандно, что судьба только терпит их, закрывает на них глаза. Им представлялось вполне естественным, что домашний врач и дядя Жерара содержат их.
Богатство – это личное свойство, бедность тоже. Бедняк, ставший богатым, развернется пышным убожеством. Они были так богаты, что никакое богатство не могло бы изменить их жизнь. Свались на них, спящих, целое состояние – проснувшись, они бы его не заметили.
Они опровергали предубеждение против беззаботной жизни, вольных нравов и, сами того не ведая, осуществляли на деле «восхитительные возможности жизни легкой и гибкой, потерянной для работы», о которых говорит философ.
Планы на будущее, ученье, служба интересовали их не больше, чем охрана овец соблазняет собаку декоративной породы. В газетах они читали только криминальную хронику. Они принадлежали к породе, которая не укладывается в рамки, которую казарма вроде Нью-Йорка переделывает, но предпочитает видеть в Париже.
Так что никакие соображения практического порядка не руководили линией поведения, которую, как однажды вдруг заметили Жерар и Поль, избрала Элизабет.
Она хочет найти работу. Хватит с нее домашнего хозяйства. Поль пускай как хочет, а ей девятнадцать, она гибнет, она и дня больше не выдержит.
– Понимаешь, Жерар, – твердила она, – Поль свободен, и вообще, он ни на что не годится, он ничто, это же осел, лунатик. Мне надо пробиваться самой. И вообще, что с ним станется, если я не буду зарабатывать? Пойду работать, место я найду. Так надо.
Жерар понимал. Только сейчас и понял. Обстановка детской обогатилась незнакомым мотивом. Поль, забальзамированный и готовый уйти, слушал эти новые оскорбления, изрекаемые с большой серьезностью.
– Бедный мальчик, – продолжала она, – он нуждается в помощи. Знаешь, он ведь все еще очень болен. Доктор…(ничего-ничего, Жираф, он спит) доктор меня так пугает! Подумай, довольно было снежка, чтобы сбить его с ног, да так, что пришлось бросить учебу. Он не виноват, я его не упрекаю, но получается, что у меня на руках инвалид.
«Зараза, ох, зараза», – думал Поль, притворяясь спящим и выдавая свое раздражение нервным тиком.
Элизабет зорко наблюдала за ним, умолкала и, как опытная истязательница, снова принималась советоваться и жалеть его.
Жерар противопоставлял ее доводам цветущий вид Поля, его рост, силу. В ответ она поминала его слабости, страсть к лакомствам, безволие.
Когда, не в силах больше сдерживаться, он шевелился, изображая пробуждение, она нежно спрашивала, не нужно ли ему чего-нибудь, и переводила разговор на другие темы.
Полю было семнадцать. Уже в шестнадцать он выглядел на все двадцать. Креветками и сладостями уже было не обойтись. Сестра подняла планку.
Притворный сон ставил Поля в такую невыгодную позицию, что он предпочел открытую схватку. Он взорвался. Сетования Элизабет немедленно приняли обвинительную окраску. Его лень преступна, омерзительна. Он заедает ей жизнь. Он готов жить за ее счет.
Взамен Элизабет стала хвастуньей, кривлякой, ослицей, ни к чему не пригодной и не способной делать что бы то ни было.
Эта контратака обязывала Элизабет перейти от слов к делу. Она упрашивала Жерара порекомендовать ее в дом моделей, с владелицей которого он был знаком. Она станет продавщицей. Будет работать!
Жерар привел ее к модельерше, которая была поражена ее красотой. К сожалению, работа продавщицы требует знания языков. Она может взять девушку только в манекенщицы. У нее есть уже одна сирота, Агата; ей она и поручит новенькую, и той легче будет приспособиться к незнакомой обстановке.
Продавщица? Манекенщица? Элизабет все равно. А, впрочем, нет: предложить ей стать манекенщицей – значит открыть ей выход на подмостки. И сделка была заключена.
Этот успех имел еще один любопытный результат.
– Полю это будет как отрава, – предвкушала она.
И вот Поль без тени лицедейства, подкрепляемый неизвестно каким противоядием, пришел в неистовую ярость, размахивал руками, кричал, что не желает быть братом ходячей вешалки и предпочел бы, чтоб она пошла на панель.
– Там бы я встретила тебя, – парировала Элизабет, – а я к этому не стремлюсь.
– И вообще, – издевался Поль, – ты бы хоть на себя посмотрела, бедняжка. Тебя же засмеют. Не пройдет и часа, как тебя выставят пинком под зад. Манекенщица! Ты ошиблась адресом. Тебе надо было наняться пугалом.
Раздевалка манекенщиц – жестокая встряска. Там вновь переживают страхи первого школьного дня, каверзы одноклассников. Элизабет, выйдя из нескончаемого полумрака, поднимается на подиум, под свет прожекторов. Она считала себя дурнушкой и готовилась к худшему. Ее великолепная стать молодого животного уязвляла всех этих крашеных и заморенных девиц, но она же замораживала их насмешки. Ей завидовали и отворачивались. Эти сорок дней стали тяжелым испытанием. Элизабет пыталась подражать своим товаркам; она изучала манеру идти прямо на клиента, словно собираясь потребовать от него публичного объяснения, а подойдя вплотную, с презрением поворачиваться к нему спиной. Ее стиль не оценили. Ей приходилось демонстрировать скромные платья, которые ее не вдохновляли. Она была дублершей Агаты.
Так роковая, нежная дружба, до сих пор незнакомая Элизабет, соединила двух сирот. Неприятности у них были одинаковые. В перерывах между выходами, одетые в белые халаты, они, примостившись среди мехов, обменивались книгами, признаниями, отогревались душой.
И поистине, таким же образом, как на заводе какая-то деталь, изготовленная в подвале одним рабочим, точно стыкуется с деталью, изготовленной другим рабочим в верхнем этаже, Агата вошла в детскую, как по маслу.
Элизабет рассчитывала на некоторое сопротивление со стороны брата. «У нее имя игрального шарика», – предупредила она. Поль объявил, что имя великолепное и рифмуется с фрегатом в одном из прекраснейших на свете стихотворений.
* * *
Механизм, в свое время переключивший Жерара с Поля на Элизабет, переключил Агату с Элизабет на Поля. Этот объект был менее неприступен. Поль почувствовал, что присутствие Агаты его оживляет. Очень мало склонный к анализу, он включил сиротку в каталог приятных предметов.
А между тем, сам того не ведая, он перенес на Агату туманное скопление грез, которое собрал вокруг Даржелоса.
Это открылось с ослепительностью молнии в один из вечеров, когда девушки осматривали достопримечательности детской.
Когда Элизабет демонстрировала сокровище, Агата схватила фотографию Атали и воскликнула:
– У вас есть моя карточка? – таким странным голосом, что Поль выглянул из саркофага, приподнявшись на локтях, как христианский юноша из Антинои.
– Это не твоя, – сказала Элизабет.
– Правда, костюм не такой. Но это прямо невероятно. Я принесу свою. Точно та же самая. Это я, вылитая я. Кто это?
– Один мальчик, старуха. Тот парень из Кондорсе, который залепил в Поля снежком…Точно, похож. Поль, похожи они с Агатой?
Стоило его упомянуть, незримое сходство, только и ждавшее предлога, так и полыхнуло. Жерар узнал роковой профиль. Агата, обернувшись к Полю, взмахнула белой карточкой, и Поль увидел в пурпурных тенях Даржелоса, замахивающегося снежком, и ощутил тот же удар в грудь.
Он откинулся обратно.
– Нет, моя девочка, – сказал он угасшим голосом, – это фотографии похожи, а вы – вы на него не похожи.
Эта ложь встревожила Жерара. Сходство было разительным.
На самом деле Поль никогда не шевелил магматических уровней своей души. Эти глубинные слои были слишком драгоценны, и он боялся собственной неловкости. Приятное останавливалось у порога этого кратера, дурманящие испарения которого были для него фимиамом.
С этого вечера между Полем и Агатой протянулись, скрещиваясь, нити и начали сплетаться в ткань. Справедливое время перераспределило роли. Гордый Даржелос, уязвлявший сердца безысходной любовью, перевоплощался в робкую девочку, над которой Поль мог властвовать.
Элизабет бросила снимок обратно в ящик. На другой день она обнаружила его на каминной полке. Она нахмурилась. Ни слова не сказала. Только мысль ее работала. В свете прозрения она вдруг заметила, что все апаши, детективы, американские кинозвезды, приколотые Полем к стенам, походили на сироту и на Даржелоса-Атали. Это открытие повергло ее в смятение, от которого она задыхалась, не пытаясь в нем разобраться. «Это уж слишком, – говорила она себе, – у него секреты». Он жульничает в Игре. Раз он жульничает, она будет жульничать впрок. Сблизится с Агатой, не станет обращать внимания на Поля и не выкажет ни малейшего любопытства.
Фамильное сходство лиц на портретах было реальным фактом. Если бы Полю на это указали, он бы очень удивился. Преследуя определенный тип лица, он преследовал его вслепую. Сам он такого предпочтения за собой не знал. А между тем влияние, которое это предпочтение без его ведома оказывало на него, и то, которое сам Поль оказывал на сестру, пересекали их беспорядочное существование прямыми, неумолимыми линиями, устремленными навстречу, как две враждебные линии, которые сходятся от основания к вершине греческого фронтона.
Агата вслед за Жераром прижилась в неправильной комнате, чем дальше, тем больше приобретавшей вид цыганского табора. Не хватало только лошади, а отнюдь не оборванных детей. Элизабет предложила поселить Агату у них. Мариетта может обставить для нее пустующую комнату, которая ей-то не навеет никаких печальных воспоминаний. «Мамина комната» угнетала тех, кто видел, вспоминал, кто стоял в ней неподвижно, дожидаясь наступления темноты. Если осветить ее и прибрать, в ней можно отдыхать вечерами.
С помощью Жерара Агата перевезла кое-какие вещи. Ей были уже знакомы все обычаи, бдения, спячки, раздоры, ураганы, штили, кафе «Шарль» и сэндвичи.
Жерар встречал девушек у выхода демонстрационного зала. Они гуляли или шли домой, на улицу Монмартр. Мариетта оставляла им холодный обед. Они ели где угодно, только не за столом, а наутро бретонка отправлялась собирать урожай яичной скорлупы. Поль спешил использовать возможность отыграться, которую предоставила ему судьба. Неспособный играть под Даржелоса и равняться с ним в высокомерии, он обходился старым оружием, раскиданным по детской, иначе говоря, изводил Агату грубостями. Элизабет вступалась за нее. Тогда Поль пользовался тихонькой Агатой, чтоб рикошетом ранить сестру. Все четверо сирот от этого выигрывали: Элизабет получала возможность усложнить диалог с братом, Жерар мог перевести дух, Агата поражалась наглости Поля, да и сам Поль тоже, ибо наглость придает неотразимую силу, а он, не будучи Даржелосом, никогда не обнаружил бы в себе такой силы, не послужи ему Агата поводом пооскорблять сестру.
Агате нравилось быть жертвой, потому что она чувствовала, что детская наэлектризована любовью, самые жестокие разряды которой остаются безболезненными и несут живительный запах озона.
Она была дочерью наркоманов-кокаинистов, которые дурно обращались с ней и покончили с собой, отравившись газом. В одном доме с ней жил администратор дома моделей. Он подозвал ее и отвел к своей начальнице. Ее держали на побегушках, потом доверили демонстрировать платья. Она знала толк в ударах, оскорблениях, злых шутках. В детской они были чем-то совсем другим; так ударяет волна, так хлещет по щекам ветер, так шаловливая молния догола раздевает пастуха.
Несмотря на эту разницу, в быту наркоманов она набралась опыта по части полумрака, угроз, драк с ломкой мебели, еды всухомятку по ночам. Ничто из того, что могло бы шокировать юную девицу на улице Монмартр, не удивило ее. Она прошла суровую школу, и школа эта оставила на ее лице свой отпечаток – что-то нелюдимое, залегшее под глазами и у ноздрей, что с первого взгляда можно было принять за Даржелосовскую надменность.
В детской она в каком-то смысле обрела небеса своего ада. Она жила, дышала полной грудью. Ничто не внушало ей тревоги, и ни разу не возникло опасения, что ее друзья соблазнятся наркотиками, потому что они и так жили под воздействием ревнивого естественного наркотика, и принимать наркотики для них было бы все равно что красить белым по белому или черным по черному.
Случалось, однако, что ими овладевал какой-то бред; лихорадка искажала детскую в кривых зеркалах. Тогда Агата мрачнела и задумывалась, так ли уж безобиден таинственный наркотик, пусть и естественный, и не всякий ли наркотик в конце концов толкает открыть газ.
Сброс балласта, восстановление равновесия разгоняли сомнения и успокаивали ее.
Но наркотик был. Элизабет и Поль родились с этой фантастической субстанцией в крови.
В действии наркотиков существуют периоды и смена атрибутики. Эти перемены, это чередование стадий одного цикла происходят не скачками. Переход неощутим, а воспринимается промежуточная зона неустройства. Все беспорядочно перемещается, чтоб образовать новый рисунок.
Игра занимала все меньше места в жизни Элизабет и даже Поля. Жерар, поглощенный одной Элизабет, больше не играл. Брат и сестра еще пытались и злились, потому что ничего не получалось. Они не уходили. Они чувствовали, что не могут сосредоточиться, теряют нить грезы. На самом деле они уходили, но не туда. Привычные к упражнению, состоящему в выходе за пределы своего «я», они называли разболтанностью новый этап – погружение в себя. Интрига трагедии Расина вытесняла и заменяла механизмы, с помощью которых этот поэт осуществлял появление и исчезновение богов на Версальских празднествах. Их празднества от этого совершенно разладились. Погружение в себя требует дисциплины, к чему они были неспособны. Ничего, кроме потемок, призраков чувств, они в себе не находили. «Тьфу! тьфу!» – возмущенно вскрикивал Поль. Все подымали головы. Поль бесился оттого, что не мог уйти в мир теней. Это «тьфу!» вырывалось у него в раздражении, когда уже на грани Игры он был отвлечен воспоминанием о каком-то жесте Агаты. Он возлагал вину на нее и срывал на ней злость. Причина этой вспышки была слишком проста, чтобы Поль изнутри, а Элизабет со стороны ее обнаружили. Элизабет, которая тоже пыталась выйти в открытое море и сбивалась с курса, погружаясь в смутные мысли, ловила на лету повод вынырнуть из себя. Она ошибочно истолковывала любовную обиду брата. Она думала: «Он злится на Агату за то, что она похожа на того типа», – и эта пара, столь же неумелая в самопознании, сколь искусная когда-то в разрешении неразрешимого, возобновляла через Агату обмен оскорблениями.
Чем громче кричишь, тем скорее хрипнешь. Диалог затухал, обрывался, и бойцы делили добычу – реальную жизнь, которая теснила сновидения, колебала растительную жизнь детства, населенную исключительно вещами безобидными.
Какой защитный инстинкт, какой душевный рефлекс приостановил было руку Элизабет в день, когда она сунула Даржелоса в сокровище? Несомненно, той же природы, что другой инстинкт, другой рефлекс, побудившие Поля бросить: «Прячем?» – легким тоном, так не вязавшимся с его скорбью. Во всяком случае, фотография была предметом отнюдь не безобидным. Поль поспешил со своим предложением, как человек, застигнутый на месте преступления, с нарочито оживленным видом преподносит первую пришедшую на ум ложь; Элизабет согласилась без всякого энтузиазма и вышла, разыграв пантомиму, имеющую целью показать, что ей многое известно, и заинтриговать Поля и Жерара, если у них от нее секреты.
Теперь мы убедились воочию: безмолвие ящика медленно, жестоко закаляло образ, и то, что Поль отождествил его в руке Агаты с мистическим снежком, вовсе не смешно.