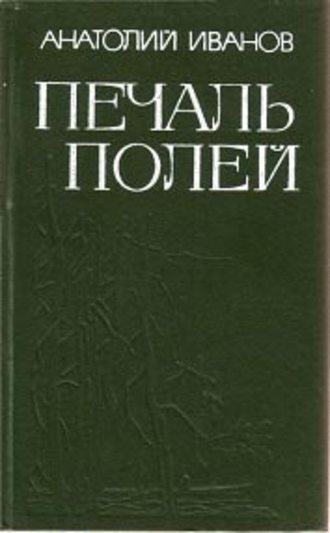
Анатолий Иванов
Печаль полей (Повести)
9
Возвращались с Борисенковых прудов молча, Чернышов был хмур, в машине не проронил ни одного слова, промолчал и на обеспокоенный вопрос Сапожникова: «Что с тобой, заболел, может?» – лишь махнул рукой – ничего, мол, так, хандра напала. Он отказался заехать на чашку чая к Сапожниковым, попросил отвезти его прямо в гостиницу и там, выйдя из машины, сказал Леониду Гавриловичу:
– Писатель, он всегда болен. Всегда… Извини, я пойду к себе. – И действительно болезненно улыбнулся: – Как выздоровлю – дам о себе знать.
Потом он два дня сидел, запершись, в номере, выходил только в буфет, где, впрочем, кроме жидкого чая, прокисшего овощного салата, консервов да каких-то приторно сладких лепешек, ничего не было. Руководство района попыталось было соблазнить по телефону отдохновением на лоне природы, но Чернышов сердито отказался: «Давайте как-нибудь потом с отдохновением, поскольку… пришло ко мне вдохновение». – «Понятно. Работаете?» – «Да, решил поработать». – «Понятно, понятно. Не будем мешать…»
И не мешали. Чернышов часами лежал на жесткой и скрипучей гостиничной кровати, смотрел в потолок, в ушах его все звучало и звучало:
– Боль такую, дочь моя,
Не заворожить.
Как сумела полюбить,
Так сумей забыть.
Все просто, как мрак и свет, как огонь и вода, как лето в зима… И он, Чернышов, все это знает лучше, чем многие и многие другие, он сам не раз в своих повестях писал об об оскорбленном, униженном, поруганном и так далее чувстве и женщин и мужчин. Так чем же, чем так ошеломил его этот обыкновенный жизненный случай, рассказанный в песне? Сходством с жизненной историей Маши Дмитренко? Но ведь, собственно, то же самое произошло и с Анной Карениной (на что указывал Сеня Куприк, мелькнуло почему-то у Чернышова), и с пушкинской Татьяной, и… да мало ли еще с кем. Все это повторялось в жизни миллиарды и миллиарды раз и неисчислимо будет повторяться в будущем. И так же неисчислимое количество раз будет отражаться в литературе, искусстве, ибо эта человеческая драма действительно извечна. «Извечна!» – мысленно воскликнул Чернышов и быстро поднялся с кровати, взволнованный еще неизвестно чем.
Он подошел к окну, долго стоял и глядел, как сентябрьский ветер качал в палисаднике прутья кустов с какими-то мелкими и круглыми листьями, сильно тронутыми желтизной, похожими на медные копейки. Листочки беспомощно и обреченно трепетали на ветках, а когда ветер всхлестывал порезче, листья сыпались на землю горстями, и Чернышову казалось, что это в самом деле мелкие монеты и что, падая, они звенят, как медная мелочь. Он долго глядел через стекло на обсыпающийся под ветром кустарник и снова думал, что в песне рассказана извечная, знакомая каждому и потому привычная человеческая драма, но если расшифровать не только слова, но и мелодию, голос неведомой певицы, – то захлебывающийся от счастья, то рвущийся от тоски и горя, то взлетающий в немыслимую и необъятную высь, то разбивающийся о жесткую и тесную землю, – а главное, если расшифровать все те чувства, которые испытывала сама певица и неисчислимое количество людей, слышавших песню, что же тогда будет?! А тогда и будет, что эта простая и бесхитростная народная песня вобрала в себя всю историю человечества…
Кто-то из знаменитых художников, кажется Маковский, сказал, что народ творит веками, веками, к примеру, создавались нехитрые русские узоры. Потому-то, думал Чернышов, всякий рисунок этих узоров совершенен, каждый завиток имеет смысл и вместе с другими создает художественно-эстетический шедевр, полную гармонию прекрасного. И вот эта песня – тоже как народный узор, в ней, казалось ему, нельзя изменить ни одного слова, ни одной нотки, иначе все рухнет, пропадет, произведения высокого искусства уже не будет.
Чернышов оттолкнулся от окна, сделал несколько шагов по гостиничной комнате, остановился, сильно потер ладонями лицо, будто желая стереть смертельную усталость. Потом опустился в затертое кресло, пружины его неприятно заскрипели. Откинулся на спинку. Да, именно всю историю человечества вобрала в себя эта услышанная им песня. С теми чувствами, которые в ней выражены, люди живут, старятся, умирают… И так из века в век, из века в век. Ах, как это не просто – день и ночь, огонь и вода, добро и зло… Где-то посредине этих понятий, наверное, и находится самое разумное начало, способствующее горению жизни, оберегающее ее от угасания. «Как сумела полюбить, так сумей забыть…» Это ведь тоже спасительная середина. До чего же все-таки народ мудрый! Чернышов тысячи раз слышал – народная мудрость, народная мудрость, но никогда всерьез как-то не задумывался, а что это, собственно, значит, в чем она, эта мудрость? И вот сейчас впервые ощутил, что начинает понимать это, и не сознанием, не умом, а чутьем, что ли… И, холодея при мысли, что его-то собственные сочинения о жизни, которые столь невысоко ценят Маша и Леонид Сапожниковы, наверное, и в самом деле жалки, беспомощны и некудышны. Тот же Маковский писал, что из простых народных песен в несколько тактов расцвели кружевные симфонии Римского-Корсакова, изысканные, нежные романсы Чайковского. Увы, он, Чернышов, до сих пор этих песенных тактов не слышал, хотя они, конечно, постоянно звучали вокруг, поэтому… поэтому-то его творчество никак не расцвело, не волнует людей. Значит, его произведения никому не нужны, кроме Сени Куприка и его знакомых критиков. «А впрочем, нужны ли они им? Нужны ли они даже им?!»
10
Уезжал он из родного села тусклым и дождливым утром. Станционные строения были мокрыми, унылый кирпичный вокзальчик тоскливо смотрел черными окнами на блестевшие под дождем рельсовые пути, проложенные мимо него на запад и на восток.
Провожали Чернышова только Сапожниковы, никто из руководства района даже и не знал, что он уезжает, так захотел сам Валентин Михайлович. Они втроем молча стояли на мокром перроне под накрапывающим осенним дождиком. Беспрерывно похлестывал холодный ветер. До поезда было еще четверть часа, Сапожников предложил укрыться от дождя и ветра в зале ожидния вокзала. В ответ Чернышов сказал странную фразу:
– Если я войду туда… в это здание со слепыми окнами, я оттуда уже никогда не выйду.
Леонид Гаврилович и Мария Ивановна поглядели на него с удивлением и тревогой, но он, усмехнувшись, успокоил их:
– Вы не волнуйтесь, я не спятил пока. Просто я иногда боюсь каких-то мест на земле, зданий, каких-то людей…
Потом опять молча топтались на мокром асфальте, Сапожниковы чувствовали себя неловко, но о чем говорить – не знали.
И лишь когда застучал на стыках рельсов приближающийся поезд, Сапожников проговорил:
– Ну что ж, Валентин… Когда тебя снова к нам ждать?
На это Чернышов промолчал, только почему-то вздохнул.
– А главное, будем с нетерпением ждать твои новые произведения, – сказал Сапожников.
Чернышов быстро вскинул на Леонида Гавриловича воспаленные от бессонницы глаза и тут же опустил их.
– Чего уж там ждать… Немного доставят они вам радости.
Молчавшая до сих пор Мария Ивановна произнесла:
– Доставят, Валя. Твой талант еще не раскрылся. У меня всегда… всегда возникает такое чувство, когда я читаю тебя. Но ты обязательно…
Он вскинул и на нее воспаленные глаза точно так же, как перед этим на Сапожникова – торопливо и будто испуганно, – и она умолкла на полуслове. А он глухо промолвил:
– Когда уже теперь раскрываться ему? Поздно…
– Почему поздно? Не поздно! – возразила она горячо и торопливо, будто боясь, что он не даст ей договорить. – Ты в такой поре… В самой-самой творческой.
– Да? – спросил он, и голос его прозвучал не то печально, не то иронически по отношению к себе.
– Ты столько знаешь… Столько повидал всего! – восторженно продолжала Маша. – Ты чуть не весь мир изъездил!
– Что ж из того? – опять глядя себе под ноги, произнес Чернышов.
– Да ведь… жизненный опыт писателя… вообще всякого художника состоит из наблюдений над жизнью и, конечно, из понимания этой жизни. И к тебе это понимание придет…
Леонид Гаврилович Сапожников неловко кашлянул, Мария Ивановна осеклась, Чернышов стал медленно и тяжело поднимать распухшие от бессонницы веки. И она, глядя в его глаза, наполненные обидой и болью, по инерции произнесла виновато и тихо:
– Ага, придет…
– Н-ну… спасибо, – оскорбленно сказал он.
– Ты прости меня… Прости, – встрепенулась она, но Чернышов повернулся к ней и Леониду Гавриловичу спиной и так стоял, сгорбившись, пока подошедший состав из зеленых вагонов не остановился. Так и не взглянув больше на Сапожниковых, он шагнул в открывшуюся дверь вагона и скрылся в его глубине.
Почти весь день потом, до самого вечера, Чернышов недвижимо просидел в своем двухместном купе, равнодушно глядя через грязные стекла вагонного окна на мелькающие телеграфные столбы, путевые постройки, на проплывающие назад поля, холмы, перелески, деревушки, деревни, города. Там, в этих строениях, полях, лесах, деревнях и городах, шла какая-то своя жизнь, она пролетала мимо, мимо. За дверью его купе раздавались голоса, вспыхивал порой смех, на остановках по проходу топали люди, слышно было, как они тащили чемоданы, отыскивали свои места, стучали вагонными дверьми. Но все это его не задевало, не интересовало. Он не любил, чтобы в купе ехал кто-то еще, кроме него, заплатил за оба места и знал, что до самого конца, вплоть до Москвы, его никто не потревожит. Беспокоил его лишь стук вагонных колес, которые без конца выговаривали: «Так су-мей за-быть… Так су-мей за-быть…»
Этот колесный говор все сильнее раздражал Чернышова, он слышал его и ночью, раз двадцать просыпался, яростный от бессилия унять перестук вагонных колес. Но к утру как-то успокоился и, глядя в вагонную темноту, стал думать, что обиделся он на Машу Дмитренко зря, ведь она сказала ему правду. Ту правду, которую, как ни крути, он знал, да старался не думать об этом, ибо боялся признаться в ней самому себе. Жизнь он, конечно, в какой-то мере понимал. Понимал, что она развивается по классовым законам, что в глубинах народных недр происходят сложнейшие социально-исторические процессы, постоянно вызревают нравственные конфликты, а в ходе их разрешения рождаются новые человеческие типы и характеры. Исследовать и отображать все это и призван в меру своих сил всякий, художник, в том числе и он, Валентин Чернышов, но в его повестях, увы, такого не случается. И далеко не первой ему об этом сказала Мария Ивановна Сапожникова, бывшая Маша Дмитренко. Потому-то давненько писатель Валентин Чернышов не жалует читательских встреч, избегает их, ибо нет-нет да люди и намекнут ему об этом, а то и прямо скажут. До сих пор горько памятен для него случай на машиностроительном заводе. Лет пять или шесть минуло уже с того дня, а вихрастый парнишка в зеленой спецовке все стоит перед глазами. Литературная встреча была подготовлена Сеней Куприком, происходила она в обеденный перерыв в красном уголке одного из цехов и уже благополучно заканчивалась, когда встал этот паренек и, смущаясь, вежливо спросил: «А можно вас, Валентин Михайлович, покритиковать? А то все вот тут хвалили вас…» – «Валяйте, – добродушно улыбнулся Чернышов. – А как вас звать, кем работаете?» – «Да звать Петей, – почти по-детски сказал он, – токарь я по специальности». – «Очень хорошо. Давай, Петя, критикуй», – еще раз улыбнулся Чернышов, довольный даже таким поворотом, ибо разговор до этого шел какой-то унылый, холодный, очень уж казенный.
Но в благодушном состоянии Чернышов пробыл совсем немного, еще несколько секунд, и опомнился уже за проходной завода, выскочив оттуда как ошпаренный. Этот Петя-токарь, вежливо попросивший разрешения покритиковать его, провел ладошкой по своим вихрам и заговорил, не выказывая теперь и капли смущения: «Вы знаете, Валентин Михайлович, я очень люблю творчество Алексея Николаевича Толстого. И вот как раз вчера я читал его статьи, публицистику. И натолкнулся на одну мысль, которая меня поразила. Зная, что у нас предстоит встреча с вами, я захватил с собой эту книжку Толстого». – «Ну-ка, ну-ка, что там за мысль, которая так тебя поразила?» – в третий и последний раз улыбнулся Чернышов. «Да вот, я читаю, – и парнишка раскрыл книгу, отчетливо выговаривая слова, прочел: – „Как это ни странно, у нас есть литераторы, и даже известные, которые предпочитают писать без дерзости, без риска, серо, нивелированно, скучновато, и главное – около жизни, не суя нос в этот кипяток, в жизнь“.
Присутствующие в красном уголке замерли, Сеня Куприк, сидевший за столом рядом с ним, Чернышовым, завертел головой на короткой шее, будто ему жал воротник, а сам Чернышов, уже чувствуя, что невзрачный парнишка этими несколькими словами разверзнул перед ним пропасть, невольно произнес, сталкивая сам себя вниз: «Да, есть у нас, к сожалению, такие писатели». – «Вы уж извините, Валентин Михайлович, но ведь вы – один из таких», – совершенно оглушил его Петя-токарь.
В красном уголке стояла теперь такая мертвая тишина, что мертвее и не бывает. Она стояла, казалось Чернышову, долго-долго, ее надо было нарушить, но сделать это никому было не под силу. Эти силы нашел лишь он сам и, кашлянув, уронил: «Очень уж ты, Петя, безжалостен ко мне… И потом, надо же такое обвинение еще доказать». – «Можно и доказать, – спокойно сказал паренек. – Вы не исследуете в ваших повестях истинную природу человеческих конфликтов, их причинность, их социальную суть. Я все повести ваши прочел, давайте разберем любую, и я вам докажу сейчас, что вы не понимаете нашей жизни. А не понимаете потому, что не любите ее…» Чернышов был взбешен такими словами, он полагал почему-то, что всему этому молодого токаря просто кто-то научил, сдерживая свой гнев, глухо сказал: «Что же, давайте разберем. И я постараюсь доказать, что не только нравственные, психологические, но и социально-исторические обоснования изображаемых мною характеров и событий в моих произведениях присутствуют…»
На этом бы надо тогда остановиться, приступить к конкретному разбору повестей, и, конечно, начитанного, видимо, но неопытного в литературных разговорах парнишку он скорее всего забил бы, но Чернышов имел неосторожность к сказанному выше добавить: «В этом, кстати, убеждена вся наша критика». Тут-то и взвился его неожиданный оппонент: «Критика убеждена?! И вы ей верите? Да, я читал в газетах и журналах, как вас хвалят, Чернышов, мол, своими образами выражает общечеловеческое, философское содержание жизни, что судьбы героев постигаются автором как момент вечности… Ложь!» – «Даже?!» – бросил Чернышов. «Да, ложь! Ваши герои никогда ведь не задумываются об истории, о прошлом, о будущем народа, они не анализируют настоящее, у них нет самоубеждений в правоте или неправоте содеянного. Ну вот кто-нибудь из ваших героев когда-нибудь спросил себя-кто я, зачем я на земле? Не спросил… А критики ваши говорят… Много вреда они вам приносят, эти ваши критики. Не верьте им, они говорят вам неправду. Не верьте!» – закончил парень под такие аплодисменты, что возразить ему и вести дальше какой-то разговор было уже невозможно, и он, Чернышов, только через силу улыбнулся. Он старался, чтобы улыбка его была снисходительной, а на самом деле она была жалко-виноватой.
«Не переживайте, Валенька, – сказал Сеня Куприк по дороге домой. – Это же демагог… Из молодых, да ранний, как говорится. Вырастили мы разных…» Слова эти вызвали раздражение, Чернышов зло бросил: «А если это правда?!» Куприк Сеня быстро поднял на него испуганные глаза, но не возразил, ничего больше не сказал.
Этот случай на машиностроительном заводе Чернышов переживал очень болезненно, на несколько недель изолировал себя от всего мира, жене сказал, чтобы она на телефонные звонки всем, в том числе и Сене Куприку, отвечала, что его дома нет, он уехал куда-то в свою Сибирь. В это время как раз была опубликована его очередная повесть под названием «Обманутые», посвященная жизни так называемых маленьких людей. Он вчитывался в собственные строчки, анализировал весь ряд художественных образов и приходил в ужас – ведь Петя-токарь прав, прав, написано без дерзости, без риска, по рецептам Сени Куприка. Героиня повести, телефонистка городского коммутатора, страдает от неразделенной любви и, беременная, уезжает от позора в глушь, в один из районов Нечерноземья, но ребенок рождается мертвый, а она дает через подругу знать бывшему возлюбленному, по профессии строителю, что у нее родился сын, который растет помаленьку. У строителя возникают отцовские чувства, возвращается прежняя любовь, но когда он нежданно-негаданно появляется в районном городке, где живет его бывшая любовь, та устроила уже свою судьбу с другим. И тут-то для всех троих начинается драма – у нее возникает раскаяние в содеянном да плюс обнаруживается старая любовь, но оба мужчины, обманутые в лучших своих душевных устремлениях, отворачиваются от нее. Чернышов, перечитывая свою вещь, уныло думал, что его герои действительно бескрылые, никто из них не задумывается, как говорится, о времени и о себе, у них нет никаких противоречивых оценок тех или иных событий. Все это происходило в начале семидесятых годов двадцатого века, но могло с таким же успехом произойти и в пятидесятых, и до войны, и даже до революции. Когда он, Чернышов, поделился с Куприком этим замыслом, тот аж подпрыгнул от восторга: «Валенька! Маленькие люди, а накал страстей как у Шекспира! Только – куда, куда твоя героиня уезжает? В Сибирь? Это ты брось. Пусть едет в Нечерноземье. Актуальная местность!» – «Но… если бы я собирался поднять и исследовать в повести какие-то проблемы, связанные с Нечерноземьем… тогда бы можно говорить об актуальности», – попробовал возразить Чернышов. «Ну, и так много грехов простится… А главное – драма-то какая в конце тобой придумана! Твоя героиня – маленький человек, а чувства у нее поглубже, чем у Анны Карениной! И назови вещь – „Обманутые“. Кто, кем, как? То-то и оно, пусть читатель голову ломает, тут для него – крючочек!»
Так говорил Сеня Куприк, но вот повесть написана, опубликована, и Чернышов увидел всю ее убогость. Какая там драма, какая Анна Каренина – все мелко, примитивно, в лучшем случае, банально. Прав, прав Петя-токарь…
Но однажды в квартиру ворвался возбужденный Сеня Куприк, бросил на стол ворох газет, буквально заорал: «Где он, наш с вами герой, Ниночка? Вы кому-нибудь скажите, что Чернышов в Сибири, а не Куприку. Я его запах по телефону слышал… Ну-с, вот, смотрите, Ниночка, как бушует критика по поводу очередного шедевра вашего мужа. А то Петя-токарь! Много ему дано понять! Пусть свои железки точит…»
Чернышов, небритый, в халате, вышел в гостиную, стал молча смотреть газеты. В статьях мелькали привычные формулировки: «поэма о смысле человеческой жизни», «волнующее исследование потаенных глубин человеческого духа», «беспредельная любовь писателя к людям, к Отчизне», и даже – «значительный вклад в духовную жизнь народа», и т.д. и т.п. И странное дело – он не очень-то вроде всем этим словам верил или не хотел верить, но они успокаивали, согревали, умиротворяли его, и где-то на краю сознания шевелилось, что, может быть, Сеня Куприк и прав, демагог тот Петя-токарь, даже, скорее всего, прав Сеня, да и сам он, Чернышов, верно определил тогда, что кто-то поднатаскал, подготовил этого парня к выступлению, а истина-то о его произведениях – вот она, здесь, в оценках его труда квалифицированными людьми… И на смятом, угрюмом его лице сквозь грязную многодневную щетину стало проявляться нечто вроде улыбки. «Ну вот, а вы, Валенька, в единоличничество впали», – весело проговорил Сеня.
Хвалебные статьи по поводу его последней повести совсем почти заглушили неприятные воспоминания о злополучной читательской встрече на машиностроительном заводе, настроение его улучшилось, портить он его не хотел.
Вагонное окно начало светлеть, за мутно-синим стеклом мелькали неясные еще очертания электрических и телеграфных опор, деревьев, иногда каких-то сооружений, и Чернышов ощутил, как поезд неудержимо мчится мимо перелесков и полей, городов и селений, он физически почувствовал, как сам он стремительно летит сквозь бесконечное пространство огромной страны, в которой живет. И вспомнилось вдруг почему-то лермонтовское:
… Проселочным путем люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень…
Мысленное сравнение этой самой телеги с могучим поездом, упрямо подминающим пространство, невольно вызвало у Чернышова улыбку: как изменилась жизнь! Но улыбка эта, не успев полностью проявиться, тут же исчезла. Жизнь изменилась, но постоянны, вечны чувства человеческие, например, эта вот всепоглощающая любовь к Отчизне, к Родине, которую так пронзительно выразил поэт тогда… давно, давно, почти сто пятьдесят лет назад. И непонятно – слова употребил обычные и прием использовал обыкновенный – взял да и прямо сказал, что любит, за что и сам не знает, степей холодное молчанье, лесов безбрежных колыханье, дымок спаленной жнивы, в степи ночующий обоз… А у читателя сердце щемит. А вот он, Валентин Чернышов, тоже любит жизнь, родную землю, старается выразить эту любовь в своих произведениях, но… Чернышов опять усмехнулся, теперь горько и печально. Знаменитый критик пишет о его «беспредельной любви к людям, к Отчизне», а Петя-токарь прямо в лицо бросает: «Вы не понимаете нашей жизни. А не понимаете потому, что не любите ее». И еще, как это там: «…не суя нос в этот кипяток, в жизнь». Ну да, вот он даже за второе место в купе заплатил, чтобы рядом никого не было… И жизнь, пролетающая за вагонным окном, его не волнует, не тревожит. И то, что великий Дон в верховьях катастрофически обмелел, что родная речка Белоярка пересохла, исчезла, его, говоря по совести, не очень взволновало, так, поговорил об этом с Сапожниковыми, как говорится для авторитета. Как для авторитета же писал статьи о неразумном хозяйствовании людей на земле. Ах, боже мой, да ведь если отбросить прочь самолюбие, если найти в себе силы заглянуть правде в глаза… правде в глаза…
А вагонные колеса все стучали и стучали беспрерывно: «Так су-мей за-быть… Так су-мей за-быть…»







