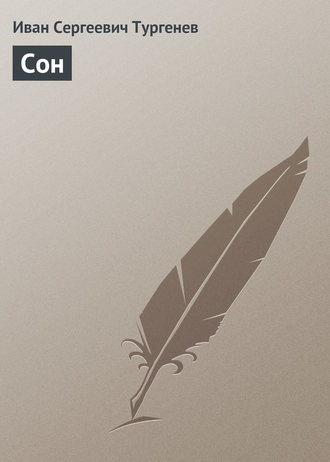
Иван Тургенев
Сон
I
Я жил тогда с моей матушкой в небольшом приморском городе. Мне минуло семнадцать лет, а матушке не было и тридцати пяти; она очень молода вышла замуж. Когда мой отец скончался, мне пошел всего седьмой год, но я хорошо его помнил. Матушка моя была небольшого роста белокурая женщина с прелестным, но вечно печальным лицом, с тихим, усталым голосом, робкими телодвижениями. В молодости она славилась красотой и до конца оставалась привлекательной и милой. Я не видывал более глубоких, более нежных и грустных глаз, более тонких и мягких волос; не видывал рук более изящных. Я ее обожал, и она любила меня… Но жизнь наша проходила невесело: казалось, тайное, неизлечимое и незаслуженное горе постоянно подтачивало самый корень ее существования. Это горе не объяснялось одной печалью об отце, как велика она ни была, как страстно моя мать его ни любила, как свято ни сохраняла память о нем… Нет! тут еще что-то таилось, чего я не понимал, но что я чувствовал, чувствовал смутно и сильно, как только, бывало, взглядывал на эти тихие и неподвижные глаза, на эти прекрасные, тоже неподвижные, не горько сжатые, но словно навек застывшие губы.
Я сказал, что матушка меня любила; но бывали минуты, когда она меня отталкивала, когда мое присутствие ей было тягостным, невыносимым. Она чувствовала тогда как бы невольное отвращение ко мне – и ужасалась потом, винилась со слезами, прижимала меня к своему сердцу. Я приписывал эти мгновенные вспышки вражды расстройству ее здоровья, ее несчастью… Правда, эти враждебные ощущения могли бы, до некоторой степени, быть вызваны какими-то странными, для меня самого непонятными порывами злых и преступных чувств, которые изредка поднимались во мне… Но эти порывы не совпадали с теми минутами отвращения.
Матушка ходила постоянно в черном, точно в трауре. Жили мы на довольно большую ногу, хотя почти ни с кем не знались.
II
Матушка сосредоточила на мне все свои помыслы и заботы. Ее жизнь слилась с моей жизнью. Такого рода отношения между родителями и детьми не всегда полезны для детей… они скорее вредны бывают. Притом я у матушки был один… а единственные дети большею частью развиваются неправильно. Воспитывая их, родители столько же заботятся о самих себе, сколько о них… Это не дело. Я не избаловался и не ожесточился (то и другое случается с единственными детьми), но нервы мои до времени расстроились; к тому же и здоровьем я был довольно слаб – в матушку, на которую я и лицом очень походил. Я избегал общества своих однолетков; я вообще чуждался людей; я даже с матушкой разговаривал мало. Я пуще всего любил читать, гулять наедине – и мечтать, мечтать! О чем были мои мечты – сказать трудно: мне, право, иногда чудилось, будто я стою перед полузакрытой дверью, за которой скрываются неведомые тайны, стою и жду, и млею, и не переступаю порога – и всё размышляю о том, что там такое находится впереди, – и всё жду и замираю… или засыпаю. Если бы во мне билась поэтическая жилка – я бы, вероятно, принялся писать стихи; если б я чувствовал наклонность к набожности, я бы, может быть, пошел в монахи; но у меня ничего этого не было – и я продолжал мечтать… и ждать.
III
Я сейчас упомянул о том, как я засыпал иногда под наитием неясных дум и мечтаний. Я вообще спал много – и сны играли в моей жизни значительную роль; я видел сны почти каждую ночь. Я не забывал их, я придавал им значение, считал их предсказаниями, старался разгадать их тайный смысл; некоторые из них повторялись от времени до времени, что всегда казалось мне удивительным и странным. Особенно смущал меня один сон. Мне казалось, что я иду по узкой, дурно вымощенной улице старинного города, между многоэтажными каменными домами с остроконечными крышами. Я отыскиваю моего отца, который не умер, но почему-то прячется от нас и живет именно в одном из этих домов. И вот я вступаю в низкие, темные ворота, перехожу длинный двор, заваленный бревнами и досками, и проникаю наконец в маленькую комнату с двумя круглыми окнами. Посредине комнаты стоит мой отец в шлафроке и курит трубку. Он нисколько не похож на моего настоящего отца: он высок ростом, худощав, черноволос, нос у него крючком, глаза угрюмые и пронзительные; на вид ему лет сорок. Он недоволен тем, что я его отыскал; я тоже нисколько не радуюсь нашему свиданию – и стою в недоумении. Он слегка отворачивается, начинает что-то бормотать и расхаживать взад и вперед небольшими шагами… Потом он понемногу удаляется, не переставая бормотать и то и дело оглядываться назад, через плечо; комната расширяется и пропадает в тумане… Мне вдруг становится страшно при мысли, что я снова теряю моего отца, я бросаюсь вслед за ним, но я уже его не вижу – и только слышится мне его сердитое, точно медвежье, бормотанье… Сердце во мне замирает – я просыпаюсь и долго не могу заснуть опять… Весь следующий день я думаю об этом сне и, конечно, ни до чего додуматься не могу.
IV
Наступил июнь месяц. Город, в котором мы жили с матушкой, об эту пору оживлялся необыкновенно. Множество кораблей прибывало в пристань, множество новых лиц появлялось на улицах. Я любил тогда бродить по набережной, мимо кофейных домов и гостиниц, засматриваться на разнородные фигуры матросов и других людей, сидевших под полотняными навесами, перед небольшими белыми столиками, за оловянными кружками, налитыми пивом.
Вот однажды, проходя перед одной кофейной, я увидал человека, который тотчас же приковал к себе всё мое внимание. Одетый в длинный черный балахон, с нахлобученной на глаза соломенной шляпой, он сидел неподвижно, скрестив руки на груди. Жидкие завитки черных волос спускались почти до самого носа; тонкие губы стискивали мундштук короткой трубки. Человек этот до того показался мне знакомым, каждая черта его смуглого, желчного лица, вся его фигура до того несомненно запечатлелась в моей памяти, что я не мог не остановиться перед ним, не мог не задать себе вопроса: кто этот человек? где я его видел? Почувствовав, вероятно, мой пристальный взгляд, он возвел на меня свои черные, колючие глаза… Я невольно ахнул…
Этот человек был тот отец, которого я отыскивал, которого я видел во сне!
Не было возможности ошибиться, – сходство было слишком поразительно. Самый даже долгополый балахон, облекавший его худощавые члены, цветом и складом напоминал тот шлафрок, в котором являлся мне мой отец.
«Уж не сплю ли я?» – подумалось мне… Нет… Теперь день, кругом шумит толпа, солнце ярко светит с голубого неба, и передо мной не призрак, а живой человек.
Я подошел к порожнему столику, спросил себе кружку пива, газету – и сел в недальнем расстоянии от того загадочного существа.
V
Поставив лист газеты в уровень лица, я продолжал пожирать незнакомца глазами. Он почти не шевелился и лишь изредка приподнимал понурую голову. Он явно ждал кого-то. Я глядел, глядел… Иногда мне казалось, что я всё это выдумал, что сходства собственно никакого нет, что я поддался полуневольному обману воображения… Но «тот» вдруг повернется немного на стуле или руку слегка поднимет – и я опять чуть не ахну, опять вижу пред собой моего «ночного» отца!
Он, наконец, заметил мое неотвязчивое внимание и, сперва с недоумением, потом с досадой взглянув в мою сторону, собрался было встать – и уронил небольшую тросточку, прислоненную им к столу. Я мгновенно вскочил, поднял и подал ему ее. Сердце во мне сильно билось.
Он натянуто улыбнулся, поблагодарил меня и, приблизив свое лицо к моему лицу, поднял брови и раскрыл немного губы, словно что его поразило.
– Вы очень вежливы, молодой человек, – заговорил он вдруг сухим и резким, гнусливым голосом. – В теперешнее время это редкость. Позвольте вас поздравить: вы получили хорошее воспитание.
Не помню, что именно я ответил ему; но разговор скоро завязался между нами. Я узнал, что он мой соотечественник, что он недавно вернулся из Америки, где прожил много лет, и скоро опять туда отправляется. Он назвал себя бароном… имени я не мог хорошенько расслышать. Он так же, как мой «ночной» отец, оканчивал каждую свою речь каким-то неясным внутренним бормотаньем. Он пожелал узнать мою фамилию… Услыхав ее, он опять как будто изумился; потом он спросил меня, давно ли я живу в этом городе и с кем. Я отвечал ему, что живу с моей матерью.
– А батюшка ваш?
– Мой отец давно умер.
Он осведомился о христианском имени моей матери и тотчас же рассмеялся неловким смехом – а потом извинился, говоря, что у него такая американская манера и что вообще он чудак порядочный. Потом он полюбопытствовал узнать, где находится наша квартира. Я сказал ему.
VI
Волнение, овладевшее мною в начале нашего разговора, постепенно утихло; я находил наше сближение несколько странным – и только. Мне не нравилась улыбочка, с которой г-н барон меня расспрашивал; не нравилось также выражение его глаз, когда он их словно вонзал в меня… В них было что-то хищное и покровительственное… что-то жуткое. Этих глаз я во сне не видел. Странное было лицо у барона! Поблеклое, усталое и в то же время моложавое, неприятно моложавое! У моего «ночного» отца не было также того глубокого шрама, который косвенно пересекал весь лоб моего нового знакомца и которого я не заметил до тех пор, пока не пододвинулся к нему поближе.
Не успел я сообщить барону название улицы и нумер дома, где мы жили, как высокого роста арап, закутанный в плащ по самые брови, подошел к нему сзади и тихонько постучал ему по плечу. Барон обернулся, промолвил: «Ага! наконец-то!» – и, слегка кивнув мне головою, отправился вместе с арапом в кофейную. Я остался под навесом, я хотел дождаться выхода барона, не столько для того, чтобы снова заговорить с ним (я собственно не знал, о чем бы я мог повести с ним речь), сколько для того, чтобы снова проверить свое первое впечатление. Но минуло полчаса; минул час… Барон не появлялся. Я вошел в кофейную, пробежал по всем комнатам – но нигде не увидал ни барона, ни арапа… Они оба, должно быть, удалились через заднюю дверь.
У меня голова немного разболелась – и я, чтобы освежиться, отправился вдоль морского берега до пространного загородного парка, разведенного лет двести тому назад. Погуляв часа два в тени громадных дубов и платанов, я вернулся домой.






