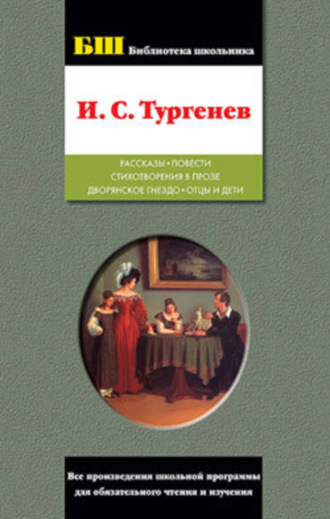
Иван Тургенев
Рассказы. Повести. Стихотворения в прозе. Дворянское гнездо. Отцы и дети
XX
Базаров высунулся из тарантаса, а Аркадий вытянул голову из-за спины своего товарища и увидал на крылечке господского домика высокого, худощавого человека с взъерошенными волосами и тонким орлиным носом, одетого в старый военный сюртук нараспашку. Он стоял, растопырив ноги, курил длинную трубку и щурился от солнца.
Лошади остановились.
– Наконец пожаловал, – проговорил отец Базарова, все продолжая курить, хотя чубук так и прыгал у него между пальцами. – Ну, вылезай, вылезай, почеломкаемся.
Он стал обнимать сына… «Енюша, Енюша», – раздался трепещущий женский голос. Дверь распахнулась, и на пороге показалась кругленькая, низенькая старушка в белом чепце и короткой пестрой кофточке. Она ахнула, пошатнулась и наверно бы упала, если бы Базаров не поддержал ее. Пухлые ее ручки мгновенно обвились вокруг его шеи, голова прижалась к его груди, и все замолкло. Только слышались ее прерывистые всхлипыванья.
Старик Базаров глубоко дышал и щурился пуще прежнего.
– Ну, полно, полно, Ариша! перестань, – заговорил он, поменявшись взглядом с Аркадием, который стоял неподвижно у тарантаса, между тем как мужик на козлах даже отвернулся. – Это совсем не нужно! пожалуйста, перестань.
– Ах, Василий Иваныч, – пролепетала старушка, – в кои-то веки батюшку-то моего, голубчика-то, Енюшень-ку… – И, не разжимая рук, она отодвинула от Базарова свое мокрое от слез, смятое и умиленное лицо, посмотрела на него какими-то блаженными и смешными глазами и опять к нему припала.
– Ну да, конечно, это все в натуре вещей, – промолвил Василий Иваныч, – только лучше уж в комнату пойдем. С Евгением вот гость приехал. Извините, – прибавил он, обращаясь к Аркадию, и шаркнул слегка ногой, – вы понимаете, женская слабость; ну, и сердце матери…
А у самого губы и брови дергало и подбородок трясся… но он, видимо, желал победить себя и казаться чуть не равнодушным. Аркадий наклонился.
– Пойдемте, матушка, в самом деле, – промолвил Базаров и повел в дом ослабевшую старушку. Усадив ее в покойное кресло, он еще раз наскоро обнялся с отцом и представил ему Аркадия.
– Душевно рад знакомству, – проговорил Василий Иванович, – только уж вы не взыщите: у меня здесь все по простоте, на военную ногу. Арина Власьевна, успокойся, сделай одолжение: что за малодушие? Господин гость должен осудить тебя.
– Батюшка, – сквозь слезы проговорила старушка, – имени и отчества не имею чести знать…
– Аркадий Николаич, – с важностию, вполголоса, подсказал Василий Иваныч.
– Извините меня, глупую. – Старушка высморкалась и, нагиная голову то направо, то налево, тщательно утерла один глаз после другого. – Извините вы меня. Ведь я так и думала, что умру, не дождусь моего го… o… o…лубчика.
– A вот и дождались, сударыня, – подхватил Василий Иванович. – Танюшка, – обратился он к босоногой девочке лет тринадцати, в ярко-красном ситцевом платье, пугливо выглядывавшей из-за двери, – принеси барыне стакан воды – на подносе, слышишь?.. а вас, господа, – прибавил он с какою-то старомодною игривостью, – позвольте попросить в кабинет к отставному ветерану.
– Хоть еще разочек дай обнять себя, Енюшечка, – простонала Арина Власьевна. Базаров нагнулся к ней. – Да какой же ты красавчик стал!
– Ну, красавчик не красавчик, – заметил Василий Иванович, – а мужчина, как говорится: оммфе.[244] А теперь, я надеюсь, Арина Власьевна, что, насытив свое материнское сердце, ты позаботишься о насыщении своих дорогих гостей, потому что, тебе известно, соловья баснями кормить не следует.
Старушка привстала с кресел.
– Сию минуту, Василий Иваныч, стол накрыт будет, сама в кухню сбегаю и самовар поставить велю, все будет, все. Ведь три года его не видала, не кормила, не поила, легко ли?
– Ну, смотри же, хозяюшка, хлопочи, не осрамись; а вас, господа, прошу за мной пожаловать. Вот и Тимофеич явился к тебе на поклон, Евгений. И он, чай, обрадовался, старый барбос. Что? ведь обрадовался, старый барбос? Милости просим за мной.
И Василий Иванович суетливо пошел вперед, шаркая и шлепая стоптанными туфлями.
Весь его домик состоял из шести крошечных комнат. Одна из них, та, куда он привел наших приятелей, называлась кабинетом. Толстоногий стол, заваленный почерневшими от старинной пыли, словно прокопченными бумагами, занимал весь промежуток между двумя окнами; по стенам висели турецкие ружья, нагайки, сабля, две ландкарты, какие-то анатомические рисунки, портрет Гуфеланда,[245] вензель из волос в черной рамке и диплом под стеклом; кожаный, кое-где продавленный и разорванный, диван помещался между двумя громадными шкафами из карельской березы; на полках в беспорядке теснились книги, коробочки, птичьи чучелы, банки, пузырьки; в одном углу стояла сломанная электрическая машина.
– Я вас предупредил, любезный мой посетитель, – начал Василий Иваныч, – что мы живем здесь, так сказать, на бивуаках…
– Да перестань, что ты извиняешься? – перебил Базаров. – Кирсанов очень хорошо знает, что мы с тобой не Крезы[246] и что у тебя не дворец. Куда мы его поместим, вот вопрос.
– Помилуй, Евгений; там у меня во флигельке отличная комнатка: им там очень хорошо будет.
– Так у тебя и флигелек завелся?
– Как же-с; где баня-с, – вмешался Тимофеич.
– То есть рядом с баней, – поспешно присовокупил Василий Иванович. – Теперь же лето… Я сейчас сбегаю туда, распоряжусь; а ты бы, Тимофеич, пока их вещи внес. Тебе, Евгений, я, разумеется, предоставлю мой кабинет. Suum cuique.[247]
– Вот тебе на! Презабавный старикашка и добрейший, – прибавил Базаров, как только Василий Иванович вышел. – Такой же чудак, как твой, только в другом роде. Много уж очень болтает.
– И мать твоя, кажется, прекрасная женщина, – заметил Аркадий.
– Да, она у меня без хитрости. Обед нам, посмотри, какой задаст.
– Сегодня вас не ждали, батюшка, говядинки не привезли, – промолвил Тимофеич, который только что втащил базаровский чемодан.
– И без говядинки обойдемся, на нет и суда нет. Бедность, говорят, не порок.
– Сколько у твоего отца душ? – спросил вдруг Аркадий.
– Имение не его, а матери; душ, помнится, пятнадцать.
– И все двадцать две, – с неудовольствием заметил Тимофеич.
Послышалось шлепанье туфель, и снова появился Василии Иванович.
– Через несколько минут ваша комната будет готова принять вас, – воскликнул он с торжественностию, – Аркадий… Николаич? так, кажется, вы изволите величаться? А вот вам и прислуга, – прибавил он, указывая на вошедшего с ним коротко остриженного мальчика в синем, на локтях прорванном, кафтане и в чужих сапогах. – Зовут его Федькой. Опять-таки повторяю, хоть сын и запрещает, не взыщите. Впрочем, трубку набивать он умеет. Ведь вы курите?
– Я курю больше сигары, – ответил Аркадий.
– И весьма благоразумно поступаете. Я сам отдаю преферанс[248] сигаркам, но в наших уединенных краях доставать их чрезвычайно затруднительно.
– Да полно тебе Лазаря петь,[249] – перебил опять Базаров. – Сядь лучше вот тут на диван да дай на себя посмотреть.
Василий Иванович засмеялся и сел. Он очень походил лицом на своего сына, только лоб у него был ниже и уже, и рот немного шире, и он беспрестанно двигался, поводил плечами, точно платье ему под мышками резало, моргал, покашливал и шевелил пальцами, между тем как сын его отличался какою-то небрежною неподвижностию.
– Лазаря петь! – повторил Василий Иванович. – Ты, Евгений, не думай, что я хочу, так сказать, разжалобить гостя: вот, мол, мы в каком захолустье живем. Я, напротив, того мнения, что для человека мыслящего нет захолустья. По крайней мере, я стараюсь, по возможности, не зарасти, как говорится, мохом, не отстать от века.
Василий Иванович вытащил из кармана новый желтый фуляр, который успел захватить, бегая в Аркадиеву комнату, и продолжал, помахивая им по воздуху:
– Я уже не говорю о том, что я, например, не без чувствительных для себя пожертвований, посадил мужиков на оброк и отдал им свою землю исполу.[250] Я считал это своим долгом, самое благоразумие в этом случае повелевает, хотя другие владельцы даже не помышляют об этом: я говорю о науках, об образовании.
– Да; вот я вижу у тебя – «Друг здравия»[251] на тысяча восемьсот пятьдесят пятый год, – заметил Базаров.
– Мне его по знакомству старый товарищ высылает, – поспешно проговорил Василий Иванович, – но мы, например, и о френологии[252] имеем понятие, – прибавил он, обращаясь, впрочем, более к Аркадию и указывая на стоявшую на шкафе небольшую гипсовую головку, разбитую на нумерованные четыреугольники, – нам и Шенлейн[253] не остался безызвестен, и Радемахер.
– А в Радемахера еще верят в *** губернии? – спросил Базаров.
Василий Иванович закашлял.
– В губернии… Конечно, вам, господа, лучше знать; где ж нам за вами угоняться? Ведь вы нам на смену пришли. И в мое время какой-нибудь гуморалист[254] Гоффман,[255] какой-нибудь Броун[256] с его витализмом казались очень смешны, а ведь тоже гремели когда-то. Кто-нибудь новый заменил у вас Радемахера, вы ему поклоняетесь, а через двадцать лет, пожалуй, и над тем смеяться будут.
– Скажу тебе в утешение, – промолвил Базаров, – что мы теперь вообще над медициной смеемся и ни перед кем не преклоняемся.
– Как же это так? Ведь ты доктором хочешь быть?
– Хочу, да одно другому не мешает.
Василий Иванович потыкал третьим пальцем в трубку, где еще оставалось немного горячей золы.
– Ну, может быть, может быть – спорить не стану. Ведь я что? Отставной штаб-лекарь, волату;[257] теперь вот в агрономы попал. Я у вашего дедушки в бригаде служил, – обратился он опять к Аркадию, – да-с, да-с; много я на своем веку видал видов. И в каких только обществах не бывал, с кем не важивался! Я, тот самый я, которого вы изволите видеть теперь перед собою, я у князя Витгенштейна[258] и у Жуковского пульс щупал! Тех-то, в южной-то армии, по четырнадцатому, вы понимаете (и тут Василий Иванович значительно сжал губы), всех знал наперечет.[259] Ну да ведь мое дело – сторона; знай свой ланцет, и баста! А дедушка ваш очень почтенный был человек, настоящий военный.
– Сознайся, дубина была порядочная, – лениво промолвил Базаров.
– Ах, Евгений, как это ты выражаешься! помилосердуй… Конечно, генерал Кирсанов не принадлежал к числу…
– Ну, брось его, – перебил Базаров. – Я, как подъезжал сюда, порадовался на твою березовую рощицу, славно вытянулась.
Василий Иванович оживился.
– А ты посмотри, садик у меня теперь какой! Сам каждое деревцо сажал. И фрукты есть, и ягоды, и всякие медицинские травы. Уж как вы там ни хитрите, господа молодые, а все-таки старик Парацельский святую правду изрек: in herbis, verbis et lapidibus…[260] Ведь я, ты знаешь, от практики отказался, а раза два в неделю приходится стариной тряхнуть. Идут за советом – нельзя же гнать в шею. Случается, бедные прибегают к помощи. Да и докторов здесь совсем нет. Один здешний сосед, представь, отставной майор, тоже лечит. Я спрашиваю о нем: учился ли он медицине?.. Говорят мне: нет, он не учился, он больше из филантропии… Ха-ха, из филантропии! а? каково! ха-ха! ха-ха!
– Федька! Набей мне трубку! – сурово проговорил Базаров.
– А то здесь другой доктор приезжает к больному, – продолжал с каким-то отчаяньем Василий Иванович, – а больной уже ad patres;[261] человек и не пускает доктора, говорит: теперь больше не надо. Тот этого не ожидал, сконфузился и спрашивает: «Что, барин перед смертью икал?» – «Икали-с». – «И много икал?» – «Много». – «А, ну – это хорошо», – да и верть назад. Ха-ха-ха!
Старик один засмеялся; Аркадий выразил улыбку на своем лице. Базаров только затянулся. Беседа продолжалась таким образом около часа; Аркадий успел сходить в свою комнату, которая оказалась предбанником, но очень уютным и чистым. Наконец вошла Танюша и доложила, что обед готов.
Василий Иванович первый поднялся.
– Пойдемте, господа! Извините великодушно, коли наскучил. Авось хозяйка моя удовлетворит вас более моего.
Обед, хотя наскоро сготовленный, вышел очень хороший, даже обильный; только вино немного, как говорится, подгуляло: почти черный херес, купленный Тимофеичем в городе у знакомого купца, отзывался не то медью, не то канифолью; и мухи тоже мешали. В обыкновенное время дворовый мальчик отгонял их большою зеленою веткой; но на этот раз Василий Иванович услал его из боязни осуждения со стороны юного поколения. Арина Власьевна успела принарядиться; надела высокий чепец с шелковыми лентами и голубую шаль с разводами. Она опять всплакнула, как только увидела своего Енюшу, но мужу не пришлось ее усовещивать: она сама поскорей утерла свои слезы, чтобы не закапать шаль. Ели одни молодые люди: хозяева давно пообедали. Прислуживал Федька, видимо обремененный необычными сапогами, да помогала ему женщина с мужественным лицом и кривая, по имени Анфисушка, исполнявшая должности ключницы, птичницы и прачки. Василий Иванович во время обеда расхаживал по комнате и с совершенно счастливым и даже блаженным видом говорил о тяжких опасениях, внушаемых ему наполеоновскою политикой и запутанностью итальянского вопроса.[262] Арина Власьевна не замечала Аркадия, не потчевала его; подперши кулачком свое круглое лицо, которому одутловатые, вишневого цвета губки и родинки на щеках и над бровями придавали выражение очень добродушное, она не сводила глаз с сына и все вздыхала; ей смертельно хотелось узнать, на сколько времени он приехал, но спросить она его боялась. «Ну как скажет на два дня», – думала она, и сердце у ней замирало. После жареного Василий Иванович исчез на мгновение и возвратился с откупоренною полбутылкой шампанского. «Вот, – воскликнул он, – хоть мы и в глуши живем, а в торжественных случаях имеем чем себя повеселить!» Он налил три бокала и рюмку, провозгласил здоровье «неоцененных посетителей» и разом, по-военному, хлопнул свой бокал, а Арину Власьевну заставил выпить рюмку до последней капельки. Когда очередь дошла до варенья, Аркадий, не терпевший ничего сладкого, почел, однако, своею обязанностью отведать от четырех различных, только что сваренных сортов, тем более что Базаров отказался наотрез и тотчас закурил сигарку. Потом явился на сцену чай со сливками, с маслом и кренделями; потом Василий Иванович повел всех в сад, для того чтобы полюбоваться красотою вечера. Проходя мимо скамейки, он шепнул Аркадию:
– На сем месте я люблю философствовать, глядя на захождение солнца: оно приличествует пустыннику. А там, подальше, я посадил несколько деревьев, любимых Горацием.[263]
– Что за деревья? – спросил, вслушавшись, Базаров.
– А как же… акации.
Базаров начал зевать.
– Я полагаю, пора путешественникам в объятия к Морфею,[264] – заметил Василий Иванович.
– То есть пора спать! – подхватил Базаров. – Это суждение справедливое. Пора, точно.
Прощаясь с матерью, он поцеловал ее в лоб, а она обняла его и за спиной, украдкой, его благословила трижды. Василий Иванович проводил Аркадия в его комнату и пожелал ему «такого благодатного отдохновения, какое и я вкушал в наши счастливые лета». И действительно, Аркадию отлично спалось в своем предбаннике: в нем пахло мятой, и два сверчка вперебивку усыпительно трещали за печкой. Василий Иванович отправился от Аркадия в свой кабинет и, прикорнув на диване в ногах у сына, собирался было поболтать с ним, но Базаров тотчас его отослал, говоря, что ему спать хочется, а сам не заснул до утра. Широко раскрыв глаза, он злобно глядел в темноту: воспоминания детства не имели власти над ним, да к тому ж он еще не успел отделаться от последних горьких впечатлений. Арина Власьевна сперва помолилась всласть, потом долго-долго беседовала с Анфисушкой, которая, став как вкопанная перед барыней и вперив в нее свой единственный глаз, передавала ей таинственным шепотом все свои замечания и соображения насчет Евгения Васильевича. У старушки от радости, от вина, от сигарочного дыма совсем закружилась голова; муж заговорил было с ней и махнул рукою.
Арина Власьевна была настоящая русская дворяночка прежнего времени; ей бы следовало жить лет за двести, в старомосковские времена. Она была очень набожна и чувствительна, верила во всевозможные приметы, гаданья, заговоры, сны; верила в юродивых, в домовых, в леших, в дурные встречи, в порчу, в народные лекарства, в четверговую соль, в скорый конец света; верила, что если в светлое воскресение на всенощной не погаснут свечи, то гречиха хорошо уродится, и что гриб больше не растет, если его человеческий глаз увидит; верила, что черт любит быть там, где вода, и что у каждого жида на груди кровавое пятнышко; боялась мышей, ужей, лягушек, воробьев, пиявок, грома, холодной воды, сквозного ветра, лошадей, козлов, рыжих людей и черных кошек и почитала сверчков и собак нечистыми животными; не ела ни телятины, ни голубей, ни раков, ни сыру, ни спаржи, ни земляных груш, ни зайца, ни арбузов, потому что взрезанный арбуз напоминает голову Иоанна Предтечи;[265] а об устрицах говорила не иначе, как с содроганием; любила покушать – и строго постилась; спала десять часов в сутки – и не ложилась вовсе, если у Василия Ивановича заболевала голова; не прочла ни одной книги, кроме «Алексиса, или Хижины в лесу»,[266] писала одно, много два письма в год, а в хозяйстве, сушенье и варенье знала толк, хотя своими руками ни до чего не прикасалась и вообще неохотно двигалась с места. Арина Власьевна была очень добра и, по-своему, вовсе не глупа. Она знала, что есть на свете господа, которые должны приказывать, и простой народ, который должен служить, – а потому не гнушалась ни подобострастием, ни земными поклонами; но с подчиненными обходилась ласково и кротко, ни одного нищего не пропускала без подачки и никогда никого не осуждала, хотя и сплетничала подчас. В молодости она была очень миловидна, играла на клавикордах и изъяснялась немного по-французски; но в течение многолетних странствий с своим мужем, за которого она вышла против воли, расплылась и позабыла музыку и французский язык. Сына своего она любила и боялась несказанно; управление имением предоставила Василию Ивановичу – и уже не входила ни во что: она охала, отмахивалась платком и от испуга подымала брови все выше и выше, как только ее старик начинал толковать о предстоявших преобразованиях и о своих планах. Она была мнительна, постоянно ждала какого-то большого несчастья и тотчас плакала, как только вспоминала о чем-нибудь печальном… Подобные женщины теперь уже переводятся. Бог знает – следует ли радоваться этому!
XXI
Встав с постели, Аркадий раскрыл окно – и первый предмет, бросившийся ему в глаза, был Василий Иванович. В бухарском шлафроке, подпоясанный носовым платком, старик усердно рылся в огороде. Он заметил своего молодого гостя и, опершись на лопатку, воскликнул:
– Здравия желаем! Как почивать изволили?
– Прекрасно, – отвечал Аркадий.
– А я здесь, как видите, как некий Цинциннат,[267] грядку под позднюю репу отбиваю. Теперь настало такое время, – да и слава богу! – что каждый должен собственными руками пропитание себе доставать, на других нечего надеяться: надо трудиться самому. И выходит, что Жан-Жак Руссо[268] прав. Полчаса тому назад, сударь вы мой, вы бы увидали меня в совершенно другой позиции. Одной бабе, которая жаловалась на гнетку – это по-ихнему, а по-нашему – дизентерию, я… как бы выразиться лучше… я вливал опиум; а другой я зуб вырвал. Этой я предложил эфиризацию… только она не согласилась. Все это я делаю gratis[269] – анаматёр.[270] Впрочем, мне не в диво: я ведь плебей, homo novus[271] – не из столбовых, не то, что моя благоверная… А не угодно ли пожаловать сюда, в тень, вдохнуть перед чаем утреннюю свежесть?
Аркадий вышел к нему.
– Добро пожаловать еще раз! – промолвил Василий Иванович, прикладывая по-военному руку к засаленной ермолке, прикрывавшей его голову. – Вы, я знаю, привыкли к роскоши, к удовольствиям, но и великие мира сего не гнушаются провести короткое время под кровом хижины.
– Помилуйте, – возопил Аркадий, – какой же я великий мира сего? И к роскоши я не привык.
– Позвольте, позвольте, – возразил с любезной ужимкой Василий Иванович. – Я хоть теперь и сдан в архив, а тоже потерся в свете – узнаю птицу по полету. Я тоже психолог по-своему и физиогномист. Не имей я этого, смею сказать, дара – давно бы я пропал; затерли бы меня, маленького человека. Скажу вам без комплиментов: дружба, которую я замечаю между вами и моим сыном, меня искренно радует. Я сейчас виделся с ним; он, по обыкновению своему, вероятно вам известному, вскочил очень рано и побежал по окрестностям. Позвольте полюбопытствовать, – вы давно с моим Евгением знакомы?
– С нынешней зимы.
– Так-с. И позвольте вас еще спросить, – но не присесть ли нам? – позвольте вас спросить, как отцу, со всею откровенностью: какого вы мнения о моем Евгении?
– Ваш сын – один из самых замечательных людей, с которыми я когда-либо встречался, – с живостью ответил Аркадий.
Глаза Василия Ивановича внезапно раскрылись, и щеки его слабо вспыхнули. Лопата вывалилась из его рук.
– Итак, вы полагаете, – начал он…
– Я уверен, – подхватил Аркадий, – что сына вашего ждет великая будущность, что он прославит ваше имя. Я убедился в этом с первой нашей встречи.
– Как… как это было? – едва проговорил Василий Иванович. Восторженная улыбка раздвинула его широкие губы и уже не сходила с них.
– Вы хотите знать, как мы встретились?
– Да… и вообще…
Аркадий начал рассказывать и говорить о Базарове еще с большим жаром, с большим увлечением, чем в тот вечер, когда он танцевал мазурку с Одинцовой.
Василий Иванович его слушал, слушал, сморкался, катал платок в обеих руках, кашлял, ерошил свои волосы – и наконец не вытерпел: нагнулся к Аркадию и поцеловал его в плечо.
– Вы меня совершенно осчастливили, – промолвил он, не переставая улыбаться, – я должен вам сказать, что я… боготворю моего сына; о моей старухе я уже не говорю: известно – мать! Но я не смею при нем выказывать свои чувства, потому что он этого не любит. Он враг всех излияний; многие его даже осуждают за такую твердость его нрава и видят в ней признак гордости или бесчувствия; но подобных ему людей не приходится мерить обыкновенным аршином, не правда ли? Да вот, например: другой на его месте тянул бы да тянул с своих родителей; а у нас, поверите ли? он отроду лишней копейки не взял, ей-богу!
– Он бескорыстный, честный человек, – заметил Аркадий.
– Именно бескорыстный. А я, Аркадий Николаич, не только боготворю его, я горжусь им, и все мое честолюбие состоит в том, чтобы со временем в его биографии стояли следующие слова: «Сын простого штаб-лекаря, который, однако, рано умел разгадать его и ничего не жалел для его воспитания…» – Голос старика перервался.
Аркадий стиснул ему руку.
– Как вы думаете, – спросил Василий Иванович после некоторого молчания, – ведь он не на медицинском поприще достигнет той известности, которую вы ему пророчите?
– Разумеется, не на медицинском, хотя он и в этом отношении будет из первых ученых.
– На каком же, Аркадий Николаич?
– Это трудно сказать теперь, но он будет знаменит.
– Он будет знаменит! – повторил старик и погрузился в думу.
– Арина Власьевна приказали просить чай кушать, – проговорила Анфисушка, проходя мимо с огромным блюдом спелой малины.
Василий Иванович встрепенулся.
– А холодные сливки к малине будут?
– Будут-с.
– Да холодные, смотри! Не церемоньтесь, Аркадий Николаич, берите больше. Что ж это Евгений не идет?
– Я здесь, – раздался голос Базарова из Аркадиевой комнаты.
Василий Иванович быстро обернулся.
– Ага! ты захотел посетить своего приятеля; но ты опоздал amice,[272] и мы имели уже с ним продолжительную беседу. Теперь надо идти чай пить: мать зовет. Кстати, мне нужно с тобой поговорить.
– О чем?
– Здесь есть мужичок, он страдает иктером…
– То есть желтухой?
– Да, хроническим и очень упорным иктером. Я прописывал ему золототысячник и зверобой, морковь заставлял есть, давал соду; но это все паллиативные средства; надо что-нибудь порешительней. Ты хоть и смеешься над медициной, а я уверен, можешь подать мне дельный совет. Но об этом речь впереди. А теперь пойдем чай пить.
Василий Иванович живо вскочил с скамейки и запел из «Роберта»:
Закон, закон, закон себе поставим
На ра… на ра… на радости пожить!
– Замечательная живучесть! – проговорил, отходя от окна, Базаров.
Настал полдень. Солнце жгло из-за тонкой завесы сплошных беловатых облаков. Все молчало, одни петухи задорно перекликались на деревне, возбуждая в каждом, кто их слышал, странное ощущение дремоты и скуки; да где-то высоко в верхушке деревьев звенел плаксивым призывом немолчный писк молодого ястребка. Аркадий и Базаров лежали в тени небольшого стога сена, подостлавши под себя охапки две шумливо-сухой, но еще зеленой и душистой травы.
– Та осина, – заговорил Базаров, – напоминает мне мое детство; она растет на краю ямы, оставшейся от кирпичного сарая, и я в то время был уверен, что эта яма и осина обладали особенным талисманом: я никогда не скучал возле них. Я не понимал тогда, что я не скучал оттого, что был ребенком. Ну, теперь я взрослый, талисман не действует.
– Сколько ты времени провел здесь всего? – спросил Аркадий.
– Года два сряду; потом мы наезжали. Мы вели бродячую жизнь; больше все по городам шлялись.
– А дом этот давно стоит?
– Давно. Его еще дед построил, отец моей матери.
– Кто он был, твой дед?
– Черт его знает. Секунд-майор какой-то. При Суворове служил и все рассказывал о переходе через Альпы. Врал, должно быть.
– То-то у вас в гостиной портрет Суворова висит. А я люблю такие домики, как ваш, старенькие да тепленькие; и запах в них какой-то особенный.
– Лампадным маслом отзывает да донником, – произнес, зевая, Базаров. – А что мух в этих милых домиках… Фа!
– Скажи, – начал Аркадий после небольшого молчания, – тебя в детстве не притесняли?
– Ты видишь, какие у меня родители. Народ не строгий.
– Ты их любишь, Евгений?
– Люблю, Аркадий!
– Они тебя так любят!
Базаров помолчал.
– Знаешь ли ты, о чем я думаю? – промолвил он наконец, закидывая руки за голову.
– Не знаю. О чем?
– Я думаю: хорошо моим родителям жить на свете! Отец в шестьдесят лет хлопочет, толкует о «паллиативных» средствах, лечит людей, великодушничает с крестьянами – кутит, одним словом; и матери моей хорошо: день ее до того напичкан всякими занятиями, ахами да охами, что ей и опомниться некогда; а я…
– А ты?
– А я думаю: я вот лежу здесь под стогом… Узенькое местечко, которое я занимаю, до того крохотно в сравнении с остальным пространством, где меня нет и где дела до меня нет; и часть времени, которую мне удастся прожить, так ничтожна перед вечностию, где меня не было и не будет… А в этом атоме, в этой математической точке кровь обращается, мозг работает, чего-то хочет тоже… Что за безобразие! Что за пустяки!
– Позволь тебе заметить: то, что ты говоришь, применяется вообще ко всем людям…
– Ты прав, – подхватил Базаров. – Я хотел сказать, что они вот, мои родители то есть, заняты и не беспокоятся о собственном ничтожестве, оно им не смердит… а я… я чувствую только скуку да злость.
– Злость? почему же злость?
– Почему? Как почему? Да разве ты забыл?
– Я помню все, но все-таки я не признаю за тобою права злиться. Ты несчастлив, я согласен, но…
– Э! да ты, я вижу, Аркадий Николаевич, понимаешь любовь, как все новейшие молодые люди: цып, цып, цып, курочка, а как только курочка начинает приближаться, давай бог ноги! Я не таков. Но довольно об этом. Чему помочь нельзя, о том и говорить стыдно. – Он повернулся на бок. – Эге! вон молодец муравей тащит полумертвую муху. Тащи ее, брат, тащи! Не смотри на то, что она упирается, пользуйся тем, что ты, в качестве животного, имеешь право не признавать чувства сострадания, не то что наш брат, самоломанный!
– Не ты бы говорил, Евгений! Когда ты себя ломал?
Базаров приподнял голову.
– Я только этим и горжусь. Сам себя не сломал, так и бабенка меня не сломает. Аминь! Кончено! Слова об этом больше от меня не услышишь.
Оба приятеля полежали некоторое время в молчании.
– Да, – начал Базаров, – странное существо человек. Как посмотришь этак сбоку да издали на глухую жизнь, какую ведут здесь «отцы», кажется: чего лучше? Ешь, пей и знай, что поступаешь самым правильным, самым разумным манером. Ан нет; тоска одолеет. Хочется с людьми возиться, хоть ругать их, да возиться с ними.
– Надо бы так устроить жизнь, чтобы каждое мгновение в ней было значительно, – произнес задумчиво Аркадий.
– Кто говорит! Значительное хоть и ложно бывает, да сладко, но и с незначительным помириться можно… а вот дрязги, дрязги… это беда.
– Дрязги не существуют для человека, если он только не захочет их признать.
– Гм… это ты сказал противоположное общее место.
– Что? Что ты называешь этим именем?
– А вот что; сказать, например, что просвещение полезно, это общее место; а сказать, что просвещение вредно, это противоположное общее место. Оно как будто щеголеватее, а в сущности одно и то же.
– Да правда-то где, на какой стороне?
– Где? Я тебе отвечу, как эхо: где?
– Ты в меланхолическом настроении сегодня, Евгений.
– В самом деле? Солнце меня, должно быть, распарило, да и малины нельзя так много есть.
– В таком случае не худо вздремнуть, – заметил Аркадий.
– Пожалуй; только ты не смотри на меня: всякого человека лицо глупо, когда он спит.
– А тебе не все равно, что о тебе думают?
– Не знаю, что тебе сказать. Настоящий человек об этом не должен заботиться; настоящий человек тот, о котором думать нечего, а которого надобно слушаться или ненавидеть.
– Странно! я никого не ненавижу, – промолвил, подумавши, Аркадий.
– А я так многих. Ты нежная душа, размазня, где тебе ненавидеть!.. Ты робеешь, мало на себя надеешься…
– А ты, – перебил Аркадий, – на себя надеешься? Ты высокого мнения о самом себе?
Базаров помолчал.
– Когда я встречу человека, который не спасовал бы передо мною, – проговорил он с расстановкой, – тогда я изменю свое мнение о самом себе. Ненавидеть! Да вот, например, ты сегодня сказал, проходя мимо избы нашего старосты Филиппа, – она такая славная, белая, – вот, сказал ты, Россия тогда достигнет совершенства, когда у последнего мужика будет такое же помещение, и всякий из нас должен этому способствовать… А я и возненавидел этого последнего мужика, Филиппа или Сидора, для которого я должен из кожи лезть и который мне даже спасибо не скажет… да и на что мне его спасибо? Ну, будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет; ну, а дальше?
– Полно, Евгений… послушать тебя сегодня, поневоле согласишься с теми, которые упрекают нас в отсутствии принципов.
– Ты говоришь, как твой дядя. Принципов вообще нет – ты об этом не догадался до сих пор! – а есть ощущения. Все от них зависит.







