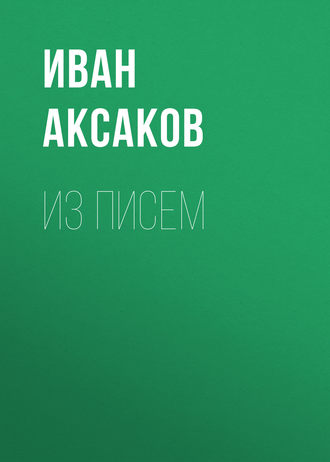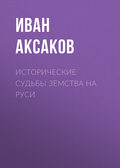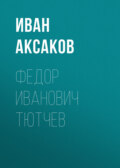Весьма простая вещь – воздать должное Татьяне за соблюдение верности мужу и спросить, по этому случаю, публику: можно ли на несчастии другого созидать свое счастие? Но грянувший от публики взрыв сочувственных рукоплесканий, что же он значил, как не опровержение всех теорий о свободных любвях и всех возгласов Белинского к женщине по поводу Татьяны и ее же подобия в Маше Троекуровой (в «Дубровском» Пушкина же), и всего этого культа страсти?! Когда девицы высших курсов тут же устремились к Достоевскому с выражением благодарности, что привело их в восторг? Они сами не могли бы отдать себе ясного отчета: это было неотразимое действие истины непосредственно на душу, это была своего рода радость эмансипации от безнравственности коверкающих их доктрин, возвращения к своему нравственному первообразу. Вероятно, всем им, бедным, досталось или достанется еще от профессоров; в первую минуту никто не спохватился, а потом, уже к вечеру, Ковалевские, Глебы Успенские и т. п. повесили носы, вероятно, выругали себя сами за то, что «увлеклись», и стали думать о том, как бы сгладить, стушевать или перетолковать в свою пользу все случившееся. Мне передавали сами студенты возникшие между ними потом разговоры: «А ведь знаете, господа, куда мы с нашим восторгом по поводу Достоевского влетим: в мистицизм!» Но если бы даже два десятка душ удержали в себе благотворное воздействие речи Достоевского, и то слава богу.
Не понимаю Градовского. Зачем нашел нужным он ослаблять действие речи Достоевского и вступаться за скитальцев?.. Можно бы, конечно, многое сказать о бродяжничестве на Руси; это самый народный тип, некогда меня пленивший, но всего менее может быть он истолкован отсутствием политической свободы и присутствием Держиморд…
Автограф. ЛБ, ф.93.II.1.23.
9. Максим Максимович Ковалевский (1851–1916) – историк и этнограф, профессор Московского университета. Достоевский относил его во время пушкинских торжеств к «враждебной партии» вместе с Тургеневым и «всем университетом» («Письма», IV, стр. 157).
10. Отчет Г. И. Успенского о пушкинских торжествах был напечатан в «Отеч. записках», 1880, № 6. См. о нем в «Лит. наследстве», т. 83, стр. 75.
11. См. примеч. 4 к п. 211.
12. Профессор Петербургского университета Александр Дмитриевич Градовский (1841–1889) напечатал 25 июня 1880 г., в № 174 «Голоса», статью «Мечта и действительность», полемически направленную против речи Достоевского. «Нам представляется прежде всего недоказанным, – писал он, – что „скитальцы“ отрешались от самого существа русского народа, что они переставали быть русскими людьми. До настоящего времени нисколько не определены пределы их отрицания, не указан его объект, так сказать. А пока не определено это, мы не вправе произнести о них окончательное суждение». Приведя цитату из речи Достоевского о необходимости искать правду внутри себя, «подчинить себя себе», Градовский заявлял: «В этих строках г. Достоевский выразил „святая святых“ своих убеждений, то, что составляет одновременно и силу, и слабость автора „Братьев Карамазовых“. В этих словах – великий религиозный идеал, мощная проповедь личной нравственности, но нет намека на идеалы общественные». Ср. «Письма», IV, стр. 182–183. Ответ Достоевского – в «Дневнике писателя», 1881. См. также «Лит. наследство», т. 83, стр. 705.
13. Аксаков являлся автором поэмы «Бродяга» (1852), пользовавшейся некоторым успехом в 1850-х годах.
14. Пересылая публикуемое письмо Достоевскому для передачи его жене, коллекционировавшей автографы, Миллер писал 1 сентября 1880 г.:
«Вот письмо Аксакова – в вечное и потомственное владение Анне Григорьевне. Передайте ей при этом мой глубокий, глубокий поклон. Я с своей стороны рассчитываю на то, что вы по возвращении на брега Невы позволите мне когда-нибудь прочесть письмо Аксакова к вам. Итак – вы постоянно священнодействуете – творите! Берегите только себя, дорогой Федор Михайлович, давайте себе отдыхать по временам, дышите свежим воздухом, который к тому же так упорно дышит летом и до сих пор…» (Авт. ЛБ, ф.93.II.6.85).