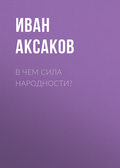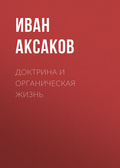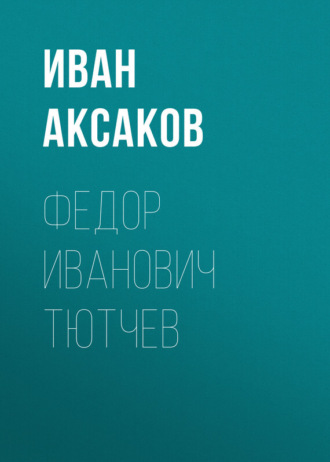
Иван Аксаков
Федор Иванович Тютчев
У Тютчева, наоборот, поэзия была той психической средой, сквозь которую преломлялись сами собой лучи его мысли и проникали на свет Божий уже в виде поэтического представления. У него не то что мыслящая поэзия, – а поэтическая мысль; не чувство рассуждающее, мыслящее, – а мысль чувствующая и живая. От этого внешняя художественная форма не является у него надетой на мысль, как перчатка на руку, а срослась с нею, как покров кожи с телом, сотворена вместе и одновременно, одним процессом: это сама плоть мысли. Мы уже отчасти объяснили этот процесс, приводя выше стихотворение «Слезы». Вот еще пример:
Пошли, Господь, свою отраду
Тому, кто в летний жар и зной,
Как бедный нищий мимо саду,
Бредет по жаркой мостовой.
Кто смотрит вскользь через ограду
На тень деревьев, злак долин,
На недоступную прохладу
Роскошных, светлых луговин.
Не для него гостеприимной
Деревья сенью разрослись;
Не для него, как облак дымный,
Фонтан на воздухе повис.
Лазурный грот, как из тумана,
Напрасно взор его манит,
И пыль росистая фонтана
Его главы не освежит.
Пошли, Господь, свою отраду
Тому, кто жизненной тропой,
Как бедный нищий мимо саду,
Бредет по знойной мостовой.
Здесь мысль стихотворения вся в аналогии этого образа нищего, смотрящего в жаркий летний день сквозь решетку роскошного прохладного сада, – с жизненным жребием людей-тружеников. Но эта аналогия почти не высказана, обозначена слегка, намеком, в двух словах в последней строфе, почти не замечаемых: жизненной тропой, а между тем она чувствуется с первого стиха. Образ нищего, вероятно, в самом деле встреченного Тютчевым, мгновенно осенил поэта сочувствием и – мыслью об этом сходстве. Мысль, вместе с чувством, проняла насквозь самый образ нищего, так что поэту достаточно было только воспроизвести в словах один этот внешний образ: он явился уже весь озаренный тем внутренним значением, которое ему дала душа поэта, и творит на читателя то же действие, которое испытал сам автор. Но если мысль здесь только чувствуется, а в некоторых стихотворениях как бы несколько заслоняется выдающеюся художественностью формы и самостоятельной красотой внешнего образа, то можно указать на другие стихотворения, где мысль не теряет своего самостоятельного значения и высказывается и в художественной форме и как мысль. Начнем опять с картин природы:
Святая ночь на небосклон взошла,
И день отрадный, день любезный,
Как золотой ковер она свила,
Ковер, накинутый над бездной.
И как виденье, внешний мир ушел,
И человек, как сирота бездомный,
Стоит теперь и сумрачен и гол,
Лицом к лицу пред этой бездной темной.
И чудится давно минувшим сном
Теперь ему все светлое живое,
И в чуждом, неразгаданном ночном
Он узнает наследье роковое.
Нельзя лучше передать и осмыслить ощущение, производимое ночной тьмой. Та же мысль выразилась и в другом стихотворении:
На мир таинственный духов,
Над этой бездной безымянной,
Покров наброшен златотканный
Высокой волею богов.
День – сей блистательный покров,
День – земнородных оживленье,
Души болящей исцеленье,
Друг человеков и богов!
Но меркнет день; настала ночь,
Пришла – и с мира рокового
Ткань благодатную покрова
Собрав, отбрасывает прочь.
И бездна нам обнажена
С своими страхами и мглами,
И нет преград меж ей и нами:
Вот отчего нам ночь страшна.
Но нам особенно нравятся следующие стихи:
О чем ты воешь, ветр ночной?
О чем так сетуешь безумно?
Что значит странный голос твой,
То глухо-жалобный, то шумной?
Понятным сердцу языком
Твердишь о непонятной муке,
И ноешь, и взрываешь в нем
Порой неистовые звуки!
О, страшных песен сих не пой
Про древний хаос, про родимый!
Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!
Из смертной рвется он груди
И с беспредельным жаждет слиться…
О, бурь уснувших не буди:
Под ними хаос шевелится!
Кажется, прочитав однажды это стихотворение, трудно будет не припомнить его всякой раз, как услышишь завыванье ночного ветра.
Сколько глубокой мысли в его «Весне»!.. Выпишем несколько строф:
Весна – она о вас не знает,
О вас, о горе и о зле.
Бессмертьем взор ея сияет
И ни морщины на челе!
Своим законам лишь послушна,
В условный час слетает к нам
Светла, блаженно-равнодушна,
Как подобает божествам!
……………………
Не о былом вздыхают розы,
И соловей в тени поет, —
Благоухающие слезы
Не о былом Аврора льет,
И страх кончины неизбежный
Не свеет с древа ни листа:
Их жизнь, как океан безбрежный,
Вся в настоящем разлита,
Игра и жертва жизни частной,
Приди ж, отвергни чувств обман
И ринься, бодрый, самовластный,
В сей животворный океан.
Приди – струей его эфирной
Омой страдальческую грудь
И жизни божески-всемирной
Хотя на миг причастен будь!
Приведем еще стихотворение: «Сон на море» – замечательное красотой формы и смелостью образов, которые могли быть созданы фантазией только мыслителя-художника.
И море и буря качали наш челн;
Я сонный был предан всей прихоти волн,
И две беспредельности были во мне,
И мной своенравно играли оне.
Кругом, как кимвалы, звучали скалы,
И ветры свистели, и пели валы.
Я в хаосе звуков летал оглушен,
Над хаосом звуков носился мой сон:
Болезненно-яркий, волшебно-немой,
Он веял легко над гремящею тьмой.
В лучах огневицы развил он свой мир:
Земля зеленела, светился эфир,
Сады, лабиринты, чертоги, столпы,
И чудился шорох несметной толпы.
Я много узнал мне неведомых лиц,
Зрел тварей волшебных, таинственных птиц,
По высям творенья я гордо шагал,
И мир подо мною недвижно сиял.
Сквозь слезы, как дикий волшебника вой,
Лишь слышался грохот пучины морской,
И в тихую область видений и снов
Врывалася пена ревущих валов.
Таинственный мир снов часто приковывает к себе мысль поэта. Вот строфы, где самая стихия сна воплощается в образ почти так же неопределенный, как она сама, но сильно охватывающий душу:
Как океан объемлет шар земной,
Земная жизнь кругом объята снами;
Настанет ночь, и звучными волнами
Стихия бьет о берег свой.
То глас ее: он нудит нас и просит.
Уж в пристани волшебный ожил челн…
Прилив растет и быстро нас уносит
В неизмеримость темных волн.
Небесный свод, горящий славой звездной,
Таинственно глядит из глубины,
И мы плывем – пылающею бездной
Со всех сторон окружены.
Но мы должны остановиться, – выписывать пришлось бы слишком много. Перейдем теперь к стихотворениям, где раскрывается для нас нравственно-философское созерцание поэта. Припомним сказанное нами выше, что его мыслящий дух никогда не отрешался от сознания своей человеческой ограниченности, но всегда отвергал самообожание человеческого я. Вот как это сознание выразилось в следующих двух стихотворениях:
Смотри, как облаком живым
Фонтан сияющий клубится,
Как пламенеет, как дробится
Его на солнце влажный дым.
Лучом поднявшись к небу, он
Коснулся высоты заветной,
И снова пылью огнецветной
Ниспасть на землю осужден.
О, нашей мысли водомет,
О, водомет неистощимый,
Какой закон непостижимый
Тебя стремит, тебя мятет?
Как жадно к небу рвешься ты!
Но длань незримо-роковая,
Твой луч упорный преломляя,
Свергает в брызгах с высоты!
А вот и другое:
Смотри, как на речном просторе,
По склону вновь оживших вод,
Во всеобъемлющее море
За льдиной льдина вслед плывет.
На солнце ль радужно блистая,
Иль ночью, в поздней темноте,
Но все, неудержимо тая,
Они плывут к одной мете.
Все вместе, малые, большие,
Утратив прежний образ свой,
Все, безразличны, как стихия,
Сольются с бездной роковой.
О, нашей мысли обольщенье,
Ты, человеческое я,
Не таково ль твое значенье,
Не такова ль судьба твоя?
Нельзя не подивиться поэтическому процессу, умеющему воплощать в такие реальные, художественные образы мысль самого отвлеченного свойства.
В приведенных нами сейчас стихотворениях Тютчева, как и во всех, где выражается его внутренняя дума, не слышно торжественных, укрепляющих душу звуков. Напротив, в них слышится ноющая тоска, какая-то скорбная ирония. Но это тоска, хотя и подбитая скорбной иронией, вовсе не походила ни на хандру Евгения Онегина, отставного, пресыщенного удовольствиями «повесы», как называет его сам Пушкин; ни на байроновское отрицание идеалов; ни на разочарование человека, обманутого жизнью, как у Баратынского; ни на доходившее до трагизма безочарование Лермонтова (по прекрасному выражению Гоголя): поэзия Лермонтова – это тоска души, болеющей от своей неспособности к очарованию, от своей собственной пустоты вследствие безверия и отсутствия идеалов. Напротив, тоска у Тютчева происходила именно от присутствия этих идеалов в его душе – при разладе с ними всей окружающей его действительности и при собственной личной немощи возвыситься до гармонического примирения воли с мыслью и до освещения разума верой: его ирония вызывается сознанием собственного своего и вообще человеческого бессилия, – несостоятельности горделивых попыток человеческого разума… Но от этих стихотворений, все же отрицательного характера, перейдем к тем, где задушевные нравственные убеждения поэта высказываются в положительной форме, где открываются нам его положительные духовные идеалы. Так, в его стихах «На смерть Жуковского» мы видим, как высоко ценит поэт цельный гармонический строй верующей души, побеждающий внутреннее раздвоение:
Я видел вечер твой; он был прекрасен,
Последний раз прощаяся с тобой,
Я любовался им: и тих, и ясен,
И весь насквозь проникнут теплотой.
О, как они и грели, и сияли
Твои, поэт, прощальные лучи!..
А между тем заметно выступали
Уж звезды первые в его ночи.
В нем не было ни лжи, ни раздвоенья;
Он все в себе мирил и совмещал.
С каким радушием благоволенья
Он были мне Омировы читал, —
Цветущие и радужные были
Младенческих, первоначальных лет!
А звезды между тем на них сводили
Таинственный и сумрачный свой свет.
Поистине, как голубь, чист и цел
Он духом был; – хоть мудрости змеиной
Не презирал, понять ее умел, —
Но веял в нем дух чисто-голубиный.
И этою духовной чистотою
Он возмужал, окреп и просветлел;
Душа его возвысилась до строю:
Он стройно жил, он стройно пел.
И этот-то души высокий строй,
Создавший жизнь его, проникший лиру,
Как лучший плод, как лучший подвиг свой,
Он завещал взволнованному миру.
Поймет ли мир, оценит ли его?
Достойны ль мы священного залога?
Иль не про нас сказало божество:
«Лишь сердцем чистые – те узрят бога?»
Следующее стихотворение есть уже истинный вопль души, разумеющей болезнь и тоску века, – оно в то же время и исповедь самого поэта:
Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует.
Он к свету рвется из ночной тени —
И, свет обретши, ропщет и бунтует.
Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит…
И сознает свою погибель он,
И жаждет веры… но о ней не просит.
Не скажет век с молитвой и слезой,
Как ни скорбит пред замкнутою дверью:
«Впусти меня! Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему безверью!..»
Вот те основные нравственные тоны, которые слышатся у Тютчева сквозь все его философские, исторические, политические и поэтические думы. Они не благоприобретенное размышлением, не нажитое горьким опытом достояние; таясь в глубине его духа, они не только пережили искус долгого заграничного пребывания, но сильнее всего оградили независимость и самостоятельность его мышления в чужеземной среде, поддержали пламя беспредельной любви к России, сохранили духовную связь с родной землей и, как мы уже видели, воспитали в нем способность сочувственного разумения тех высоких нравственных сторон русской народности, которые в самой России постигались и ценились очень немногими. Стихотворения: «На смерть Жуковского» и «Наш век» объясняют нам уже приведенные прежде стихотворения: «Эти бедные селенья», «Тебе они готовят плен», равно и некоторые другие, – и взаимно объясняются ими. Мы, впрочем, не станем здесь ни выписывать, ни разбирать тех его поэтических произведений, которые посвящены России или выражают его политические убеждения и мечтания. Они отчасти уже нашли себе место в предшествовавшем отделе нашего очерка, где мы именно старались показать читателям рост и силу русской народной стихии в Тютчеве-европейце, – а некоторые будут помещены нами ниже, в пояснение его политических статей. Хотя этих стихотворений довольно много и иные высокого поэтического достоинства, однако же не ими определяется значение Тютчева поэта с точки зрения эстетической критики. Скажем здесь несколько слов только об общем характере этих патриотических и политических стихотворений: в них (за исключением двух-трех) менее всего слышится его внутреннее, духовное раздвоение, его ирония, обращенная на самого себя, его нравственная тоска, а также и тот особенный личный процесс поэтического творчества, который налагает такую оригинальную печать на его поэзию и дает ей такую своеобразную прелесть. Его политическое миросозерцание, его убеждения относительно исторической будущности русского народа были, как мы уже знаем, тверды, цельны – до односторонности, до страстности, а потому только в этом отделе стихотворений и доходит он до торжественных, почти «героических» звуков, столько вообще чуждых его поэзии. Для примера укажем на следующие даа стихотворения: «Море и утес» и «Рассвет», которые оба блещут поэтическими красотами, особенно последнее, но красотами несколько иного рода, выделяющими обе пьесы из общего строя его поэтических творений.