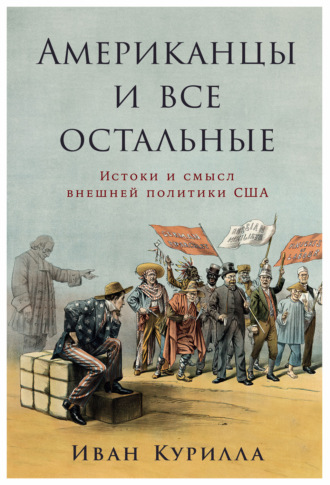
Иван Курилла
Американцы и все остальные: Истоки и смысл внешней политики США
Новый свет как альтернатива старому порядку
Взгляд из Европы на колониальную Америку
Появление Америки в европейском воображении подстегнуло формирование исторического мышления: Джон Локк в 1680 году писал, что «раньше весь мир был Америкой», представляя ее вариантом далекого прошлого Европы, «когда никто не знал денег». География и история, пространство и время сливались в этом представлении воедино.
В первые десятилетия контакта с Америкой европейцы пытались вписать ее в знакомые представления о мире. В тот период Америка была для них такой же периферией, как экзотическая Азия, а коренные американцы воспринимались как какие-нибудь индийцы. Их, собственно, так и называли. В Европе Америка стала синонимом экзотики и приключений[17].
В середине XVIII века чрезвычайно популярный женевский философ Жан-Жак Руссо популяризовал представление о «естественном человеке», не испорченном цивилизацией. Идея «благородного дикаря» широко распространилась в Европе, где в качестве примера таких людей чаще всего приводили американских индейцев. Америка в представлении людей эпохи Просвещения была местом, где цивилизованные европейцы встречали благородных дикарей[18]. В повести Вольтера «Простодушный» (1767), напротив, воспитанный индейцами-гуронами главный герой приезжает во Францию. Автор показывает упадок европейских нравов глазами неиспорченного «естественного человека».
Этот взгляд на коренных американцев был далек от отношения колонистов к соседям, в которых они видели постоянную угрозу, но в Европе он сохранил свое влияние вплоть до того времени, когда в самих США началось переосмысление истории сосуществования с индейцами (а это случилось только к концу XX века). В целом просветительская идеология будила социальное воображение европейцев, которые нередко помещали свои фантазии о лучшем общественном устройстве в загадочную страну за океаном. Некоторые английские колонии в Америке и в самом деле были воплощением проектов протестантских сект, и эти примеры лишь добавляли привлекательности Новому Свету.
Так еще в колониальные времена Америка стала для европейской мысли местом, куда можно было помещать просветительские утопии. Новый Свет становился естественным антиподом Старого порядка. География начала воплощать время.
«…И стремление к счастью»
Война за независимость как начало новой истории
Окончание Войны с французами и индейцами не принесло колонистам желаемых результатов. Империя взяла под защиту интересы французских поселенцев в Квебеке, на территории которых рассчитывали американцы, – ведь теперь французы стали такими же подданными короля Георга III. Более того, Лондон решил компенсировать расходы на войну повышением налогообложения колонистов.
Целый ряд неудачных решений английского правительства разжег костер недовольства. Вот теперь общее ощущение несправедливости со стороны метрополии стало быстро сближать жителей разных колоний. Тем не менее один важный результат у победы в Семилетней войне был: колонисты больше не нуждались в том, чтобы от соседей-французов их защищала Британская империя. Внешний фактор, скреплявший узы Лондона и американских поселений, ослаб.
Американцам, поднявшимся на борьбу с Англией, нужны были основания для укрепления единства, причем собственные, которые отличали бы их от жителей Британских островов. Язык или история в этом случае явно не годились. Английская история долго воспринималась колонистами как «своя», но Война за независимость разорвала эту связь.
Представление об Америке как об отдельной стране, не продолжающей историю Британии, а противопоставленной ей, формировалось по мере разрастания конфликта в 1760–1770-е годы. В процессе борьбы против Лондона активисты-патриоты начали вырабатывать другие критерии, главными из которых стали политические принципы и самоидентификация американцев как нации, противопоставляющей себя англичанам.
Провозглашение независимости 4 июля 1776 года было актом разрыва с прежней идентичностью, действием, к которому колонисты шли на протяжении нескольких лет. Независимость, в частности, означала признание, что колонисты больше не англичане. Но кто они тогда?
Новая страна была страной без прошлого. Или, имея в виду ее устремленность в будущее, страной, претендовавшей на универсальное наследие (подразумевалось, что все европейское наследие, а затем и мировое достигнет кульминации в будущем, представленном США). «Отечество Америки – это Европа, а не Англия, – писал главный публицист Войны за независимость Томас Пейн. – Реформации предшествовало открытие Америки: словно Всемогущий милостиво вознамерился открыть убежище гонимым грядущих времен, когда дома у них не станет ни друзей, ни безопасности»[19].
Идентичность американцев нельзя было вывести из прошлого, которое они отвергли, в результате в спорах о ней выросла роль Другого, причем Европа была одновременно и прошлым, и Другим Америки. И уже становилась в глазах американцев объектом будущих преобразований: «В нашей власти пересоздать мир заново», – дополнял свой памфлет Пейн в 1776 году[20].
Американская нация формировалась и путем дальнейшего отсечения не вписавшихся в нее людей. Американцы революционного поколения, во всяком случае потомки пуритан-пилигримов, рассматривали Войну за независимость как выполнение пророчества, обещания, завета между Богом и первыми переселенцами. Многие «лоялисты» (то есть колонисты, продолжавшие считать себя англичанами, а таких насчитывалось до двадцати процентов населения) покинули тринадцать колоний. Значительная часть их перебралась на британские территории к северу от границ нового государства, создав основу английской Канады. Индейцы все так же считались самостоятельными нациями и внешними Другими, с ними продолжались войны, а в 1795 году был заключен Гринвилльский договор, установивший границу между территорией США и территорией племен на северо-западе.
Конечно, в политическое тело нации из жителей колоний вошли только свободные белые мужчины – женщины и черные рабы не включались в этот проект. Соответственно, их участие в Войне за независимость в тот период игнорировалось, оно стало конструироваться постфактум.

Гринвилльский договор с индейскими племенами, 1795 год. Картина неизвестного художника, современника событий
На исключение афроамериканцев из истории создания новой политической общности впервые обратили внимание аболиционисты накануне Гражданской войны[21], но в серьезную проблему это выросло к концу XX века, когда американцы начали пересмотр основ своей национальной идентичности. Историки стали задним числом интегрировать черных в число активистов-патриотов[22], а поставленный в 2015 году мюзикл «Гамильтон», в котором отцов-основателей играли цветные актеры, побил рекорды популярности. Однако это не предотвратило появление в 2019 году «Проекта 1619», авторы которого предложили переписать историю США, утверждая, в частности, что Война за независимость была войной американских рабовладельцев за сохранение рабства, которое собиралась запретить Британская империя.
Но даже после отсечения разных групп населения создать единую нацию из столь разнородных частей было непросто. Неслучайно на лицевой стороне Большой печати США в 1782 году был нанесен девиз E pluribus unum, то есть «Из многих – единое», отражавший главное стремление основателей страны. Из этой приверженности единству росло недоверие Джорджа Вашингтона и многих его соратников к партиям как явлению, противоречащему истинному республиканизму: появление партийной политики вскоре после образования США разочаровало многих участников создания государства.
Политические расхождения среди отцов-основателей можно рассматривать и как споры между теми, для кого важнее всего было республиканское устройство нового общества, и националистами, которые прежде всего боролись за создание единой нации[23]. Первые стремились сохранить и упрочить институты самоуправления, вторые видели в государстве инструмент создания новой политической общности. Федеральное устройство Соединенных Штатов стало решением этого спора – хотя бы на время политической активности этого поколения.

Большая печать США с девизом E pluribus unum
Фактически за десятилетие, предшествовавшее революции, и в годы Войны за независимость отцы-основатели США заложили основы национализма в его гражданской форме. Гражданский национализм в США предвосхитил те формы национализма, основанные на языке и истории, которые распространятся в Европе несколько десятилетий спустя. Этот вид национализма, не имеющий опоры в культуре этноса, в значительно большей степени опирается на противопоставление внешним Другим, подчеркивает уникальность и исключительность собственных ценностей. На успех создания нации в Америке будут оглядываться деятели Французской революции, а уже в следующем веке романтическая и гражданская концепции национализма будут сталкиваться и взаимодействовать в разных частях Старого и Нового Света.
Задача создания новой страны – более того, открытия «нового порядка веков» (эта латинская фраза, Novus оrdo seclorum, появилась на обороте Большой печати США) – решалась основателями США в условиях чрезвычайной популярности идей Просвещения. Их замыслы во многом опирались на просветительские проекты, но проблема заключалась в том, что идей было много и они противоречили друг другу. В результате в основу американского политического устройства легли одновременно радикальные идеи всеобщего равенства и умеренные представления о государственной власти, ограниченной системой сдержек и противовесов.
Автор текста Декларации независимости Томас Джефферсон был наиболее радикальным из отцов-основателей. В черновом варианте Декларации содержалось обещание отмены рабства, исключенное затем из окончательного текста. Зато в него вошло утверждение о праве народа на революцию: «…когда длинный ряд злоупотреблений и насильственных действий, неизменно подчиненных одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа».
В Декларации независимости содержалась и формулировка неотъемлемых прав человека, обновившая триаду, предложенную Дж. Локком: вместо «жизни, свободы и собственности» Джефферсон вписал «жизнь, свободу и стремление к счастью». Автор Декларации тяготел к руссоистской идее равенства и полагал, что право собственности не относится к неотъемлемым правам человека, а является общественным установлением.
Среди множества трактовок этого варианта триады (от утверждения, что «счастье и есть собственность», до сожаления, что Джефферсон «заменил содержательное понятие на красивое и бессмысленное») мне представляется важной догадка о том, что эта формула включила в политику критерий времени, вектор развития. В самом деле, «стремление к счастью» означало возможность и желательность улучшения страны и общества. Некоторые ученые видят в этом подходе – «объединение избранных, ведущих людей к счастью» – влияние масонских практик[24]. И правда, отцы-основатели были масонами и участвовали в улучшении общества с помощью своего «заговора».
Ни английское общество, ни тем более образованная публика в других европейских странах вплоть до 1770-х годов не считали население колоний чем-то отличным от жителей Британии. Поэтому начало борьбы за независимость долго не воспринималось в Лондоне как реальная угроза единству империи. Британия привычно подавляла сопротивление покоренных народов, но не смогла вовремя распознать опасность в недовольстве «американских англичан».
Однако успех Войны за независимость, ее радикальная публицистика и первые документы произвели огромное впечатление на Европу. Для образованных европейцев именно отождествление страны с осуществленным просветительским идеалом сделало США притягательным примером. Американцы не просто создавали новое государство. В процессе его создания они использовали и присвоили описание социальных практик и политических идеалов, «гегемонный дискурс» (используя терминологию Э. Лаклау и Ш. Муфф), рожденный эпохой Просвещения. Соединенные Штаты стали восприниматься как воплощение идей этой эпохи и открытых ею возможностей[25].
Появление нового государства, основанного на идее свободы, народном суверенитете и организованного как республика, привело к резкому росту интереса европейских революционеров и реформаторов к опыту США. Соединенные Штаты стали образцом и «заместителем утопии» – страной, которой европейцы приписывали осуществление их собственных идеалов и устремлений, моделью и инструментом для критики европейских порядков.
Относительно небольшая, не имеющая постоянной армии и флота, далекая заокеанская страна оказала гораздо большее влияние на умы и сердца жителей старых монархий, чем этого можно было ожидать, исходя из ее политических или военных возможностей.
Американские политические лидеры в Войне за независимость показали возможность успешного целенаправленного политического действия и мобилизации населения на революционную войну. Вскоре этот урок будет востребован во Франции. Французская революция потрясет всю Европу и распространит многие идеи, впервые воплощенные в жизнь в Америке, на государства Старого Света. В Париже уже в начале 1790-х годов будет принято несколько конституций, будут провозглашены права человека и гражданина.
Но вот сама независимость еще на десятилетия останется чисто американской историей, которую не скоро разглядят те европейские народы, которые не имели собственной государственности. Напротив, для стран вне Европы именно идея независимости (а не республики или либеральной демократии) стала главной составляющей «американского примера». Испанская Америка последовала путем северных соседей уже в начале XIX века: Гаити (Сан-Доминго) провозгласило независимость в 1804-м, а в 1810 году вспыхнули восстания в Венесуэле, Чили, провинциях Рио-де-ла-Платы (Аргентине) и Верхнем Перу, тогда же Мигель Идальго поднял мятеж в Мексике. И это было только начало.
Глава 2
Из республики в демократию: как американцы построили государство и сочинили внешнюю политику
Все, что мы делаем, привлекает внимание мира. Свободное государство, великая и быстро поднимающаяся республика, мы не можем не видеть, что наши принципы, чувства и наш пример влияют на мнения и надежды общества во всем цивилизованном мире.
ДЭНИЕЛ УЭБСТЕР. Речь о помощи восставшим грекам (1823)[26]
Первые десятилетия своего независимого существования американцы занимались созданием государства. Сначала очевидной моделью для него стала античная Римская республика, основными чертами которой в представлении отцов-основателей было постоянное гражданское участие в жизни общества и управление страной «лучшими людьми», однако уже второе поколение американских политиков разочаровалось в гражданских доблестях соотечественников и в жизнеспособности аристократической модели в условиях нового континента и нового времени.
На протяжении 1820-х в стране происходило быстрое снятие имущественных барьеров для доступа в политику, а главным описанием новой системы стало слово «демократия». Однако включение в гражданскую нацию белых бедняков сопровождалось появлением альтернативных Других. Быстрый территориальный рост делал такими Другими индейцев, которых отселяли по «дороге слез», канадцев, ставших подданными старой метрополии – Англии, теперь соседствовавшей с США на севере, и саму старую Европу.
Внешняя политика Соединенных Штатов обрела в этот период собственный язык, отличавшийся от языка дипломатии Старого Света не меньше, чем американское государство отличалось от европейских монархий. Для соседей по континенту США являлись моделью независимой страны, для революционных дворян-декабристов в России – образцом республики, а для реформаторов Европы все больше воплощали принцип демократии.
Консервативная республика
Истоки институционального дизайна США лежали не только в Просвещении. Пуританская демократия, навыки управления плантациями, самоуправление в колониях – все это повлияло на окончательную форму государственного устройства Соединенных Штатов.
Завоевание независимости поставило перед американскими элитами задачу государственного строительства. К тому же теперь недостаточно было построить представление о себе на отрицании английского или европейского опыта – к негативной идентичности требовалось добавить позитивную. И на первый план в ряду просветительских идей вышла модель государственного устройства в форме республики. Образ республики в ту эпоху однозначно ассоциировался с Римом. Обновленный ответ на вопрос «кто мы такие?» подсказывала та же просветительская идеология: Америка будет республикой, а следовательно, «матерью всех республик», новым Римом[27].

Капитолий США
Американская республика опиралась на наследие Античности, каким его воображали себе образованные люди XVIII века. Отцы-основатели построили новую столицу страны Вашингтон как новый Рим, поставили свой парламент на Капитолийском холме и назвали его верхнюю палату сенатом. Авторы дебатов вокруг принятия Конституции использовали римские псевдонимы: статьи в ее поддержку, опубликованные в виде сборника под заголовком «Федералист», были подписаны именем Публий, а ее критики использовали имена Брута и Катона.
Наличие в стране рабов только усиливало это отождествление. В смысле использования Античности как образца республики создание США можно считать дальним эхом эпохи Возрождения, но римский пример повсюду встречался в просветительских трудах. Отцы-основатели скорее считали себя «новыми римлянами», чем просветителями, – они занимались государственным строительством, а не философией.
Римские аллюзии легко обнаружить в американской политической жизни на всем ее протяжении. Когда в 1840 году президент США Уильям Генри Гаррисон показал черновик своей инаугурационной речи госсекретарю Дэниелу Уэбстеру, тот пришел в замешательство из-за обилия отсылок к Древнему Риму и на другой день сообщал другу, что пережил «тяжелую ночь – убил двенадцать римских проконсулов». Где Римская республика – там и Римская империя. Существует фотография Франклина Делано Рузвельта, отмечающего свой день рождения в костюме римского императора, а Дональда Трампа его критики называли «американским Нероном». Влиятельный мозговой трест в современных США носит название «Институт Катона».

День рождения Франклина Делано Рузвельта. Вечеринка в тогах в Белом доме. 1934 год.
Тринадцать лет после принятия Декларации независимости, на протяжении всей революционной войны и четырех лет после заключения мира американцы пытались организовать государственную жизнь в слабо централизованном государстве, общая политическая жизнь в котором управлялась «Статьями конфедерации и вечного союза», принятыми в 1777-м и ратифицированными всеми колониями к 1781 году. Этот документ еще напоминал международный договор – в нем, как и в Декларации независимости, колонии были названы государствами, states (слово, которое в этом контексте переводится на русский язык как «штаты»). И в то же время он был шагом к созданию единого государства, «вечного союза».
Тем не менее слабые полномочия центральной власти делали эту конструкцию неэффективной, и специально созванный Конвент 1787 года принял другой основной закон страны, назвав его Конституцией Соединенных Штатов. Текст этого документа отражает страхи отцов-основателей перед деспотическим государством. Многие положения конституции и поправок к ней сформулированы как запрет конгрессу принимать те или иные законы: «Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к установлению какой-либо религии или запрещающего свободное ее исповедание либо ограничивающего свободу слова или печати или право народа мирно собираться и обращаться к правительству с петициями об удовлетворении жалоб» (первая поправка). В сегодняшнем мире конституции имеют почти все страны, но в то время создание конституции было политическим нововведением огромной важности.
Эта логика ограничения федеральной власти создала перспективу для развития сильного организованного общества, защищающего гражданина от произвола государства, но при этом оставляющего его один на один с разного рода активистами. В современных США гражданин в целом может не бояться ограничения его свобод правительством – его защищает конституция и множественные горизонтальные связи, формирующие ткань гражданского общества. Однако ограничения могут исходить от самого общества, принимая формы, получившие название «кэнселинга» – «отмены» человека за проступок или взгляды, считающиеся в обществе неприемлемыми. От такого давления конституция граждан не защищает.
Конституция, как и Декларация независимости, опиралась на просвещенческие идеи, но совсем на другие. По-прежнему для авторов была важна манифестация единства новой социальной общности. Конституция начиналась презентацией ее создателей: «Мы, народ Соединенных Штатов…» Идеи освобождения, ярко звучавшие в Декларации независимости, в этом документе уступили место проектам нового государственного устройства.
Авторы основного закона сосредоточились на создании действенной государственной машины, которая учитывала бы разнообразие страны и исключила бы возможность узурпации власти. Одной из проблем, решавшихся в этом документе, стало обеспечение представительства избирателей и штатов в законодательном органе. Британский парламент не обеспечивал представительство территорий (именно поэтому на раннем этапе борьбы за независимость в колониях распространился лозунг «Никаких налогов без представительства!»); предполагалось, что парламентарии выступают от имени всего народа независимо от места избрания.
Американский конгресс создавался как представительный орган, и это решение помогло отмести сомнения просветителей в возможности демократии в больших странах: Монтескье, например, считал эти страны обреченными на монархическое правление в силу сложности определения воли многочисленного народа на обширной территории. В «народ», который должны были представлять депутаты конгресса, попали в некотором смысле и рабы: их количество в штате умножалось на три пятых и добавлялось к числу свободных граждан; посредством этого арифметического действия вычислялось количество населения, имевшего право на представительство в федеральной власти. Таким образом, рабство оказалось закреплено американской конституцией.
Так отцы-основатели «изобрели» представительную демократию и конституцию – документ, без которого трудно вообразить современное государство. В основном законе США заложен мажоритарный принцип выборов: кандидат, получивший на выборах пятьдесят процентов голосов плюс один голос, получает всё. Этот принцип был усилен двухступенчатой процедурой выбора президента США, при которой все голоса выборщиков штата (количество которых зависит от его доли в населении страны) отдаются кандидату, получившему большинство в штате. В результате случается, что президентом становится человек, получивший в национальном масштабе меньше голосов, чем основной соперник. Мажоритарный принцип создает условия для функционирования двухпартийности и для поляризации политических позиций, усиливая внутриполитические расколы, и авторы более поздних конституций часто использовали пропорциональную или смешанную систему. Но в основу американской политической системы было «вшито» противостояние.
За принятие такой конституции пришлось бороться. Важно заметить, что значительная часть аргументации в пользу создания основополагающего документа, жестко связывающего штаты в единое целое, была внешнеполитической. Авторы серии публикаций в «Федералисте» в поддержку конституции утверждали, что сильное правительство будет пользоваться бо́льшим уважением со стороны правительств Англии, Франции и Испании и лучше соблюдать международные договоры, а также будет менее склонно прибегать к силе, чем правительства отдельных штатов, и лучше сумеет себя защитить в случае иностранной агрессии и противостоять попыткам иностранных держав внести раздор во взаимоотношения штатов.
Отцы-основатели надеялись скрепить разнородное население нового государства внешним каркасом, подчеркивая не столько сомнительное внутреннее единство жителей Джорджии и Массачусетса, сколько их общие интересы перед вызовами внешнего мира. К этому приему – использованию внешних угроз, настоящих и воображаемых, для сплочения разнообразного населения – будут прибегать и следующие поколения американских политиков.
Хотя авторы «Федералиста» предостерегали читателей от «фракционности», они же стали создателями первых партий. Уже в течение первого срока президентства Джорджа Вашингтона (1789–1793) сторонники сильного центрального правительства, выступавшие за быстрое развитие торговли и промышленности, объединились вокруг Александра Гамильтона, основав партию федералистов, а те, кто видел будущее США в виде децентрализованной аграрной республики, создали Демократическую республиканскую партию во главе с Джеймсом Мэдисоном и Томасом Джефферсоном.
Заложенный в конституции мажоритарный принцип избрания на все посты способствовал укреплению двухпартийности в американской политике, и хотя история знала случаи появления влиятельных «третьих партий», как правило во главе с харизматичным политическим лидером, они никогда не приводили своих лидеров к власти и оказывались недолговечными.
Война за независимость противопоставила американцев англичанам, но вскоре после признания Соединенных Штатов Великобританией в них возник один из первых политических споров: союз с какой европейской страной больше отвечает американским интересам. Франция поддержала колонии в их борьбе и заслужила благодарность. Англия оставалась главным торговым партнером, к тому же американцы были связаны со вчерашней метрополией общим языком и культурой.
Внешнеполитическая ориентация стала одним из главных различий первых двух партий США: демократические республиканцы (часто их называют также джефферсоновскими республиканцами) во главе с Мэдисоном и Джефферсоном отстаивали союзнические отношения с Францией, а федералисты во главе с Гамильтоном считали нужным опираться на традиционные связи бывших колоний с Великобританией и на лондонские кредиты.



