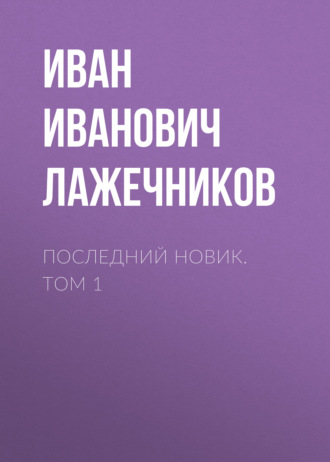
Иван Иванович Лажечников
Последний Новик. Том 1
Глава десятая
Еще нежданные гости
Неприятель кутит, гуляет… а ты из-за гор крутых, из-за лесов дремучих налети на него, как снег на голову…
Слова Суворова
В то самое время, как меч и огонь неприятелей поедали собственные владения Карла XII, чужие царства падали к его стопам и подносили ему богатые контрибуции. Столица Польши одиннадцатого мая приняла в свои стены победителя и ожидала себе от него нового короля. Важные головы занялись тогда политикой, военная молодежь – веселостями в кругу обольстительных полек. Можно догадаться, что Адольф не пропускал ни одного редута. Раз вечером, возвратившись очень рано домой, он сидел, раздосадованный, в своей квартире и записывал в памятной книжке следующий приговор: «Польская нация непостоянна!» Такое определение характеру целого народа вылилось у него из души по случаю, что одна прелестная варшавянка, опутавшая его сетями своих черно-огненных глаз и наступившая на сердце его прекрасной ножкой (мелькавшей в танцах, как проворная рыбка в своей стихии), сама впоследствии оказалась к нему неравнодушной, сулила ему целое небо и вдруг предпочла бешеного мазуриста. Едва докончил он свой приговор, ужасный для народа и особенно для известной ему особы, как трабант загремел у его двери огромными шпорами и объявил приказ короля немедленно явиться к его величеству. Некогда ему было думать, зачем. От самого короля узнал он, что отправляется курьером к Шлиппенбаху с известием о новых победах и обещаниями скоро соединиться с лифляндским корпусом в Москве. Вместе с этим поручением велено Адольфу, до нового приказа, остаться на родине своей при генерал-вахтмейстере: так умела все мастерски уладить дипломатика баронессы Зегевольд. Отпуская Траутфеттера, король сказал, что они не надолго расстаются. Неверность польки все еще сверлила сердце Адольфа, как бурав; образ Луизы начал представляться ему в том обольстительном виде, в каком изобразил ее Густав; поручение короля было исполнено милостей, и Адольф в ту же ночь распрощался с Варшавою.
Курьер северного героя, которого одно имя бичевало кровь владык и народов, не ехал, а летел. Все шевелилось скорее там, где он являлся, – и люди, и лошади.
– Помилуй, паноче! – говорили польские извозчики почтовым смотрителям, почесывая одною рукой голову, другою прикладываясь к поле их кафтана. – То и дело кричит: рушай да рушай! коней хоть сейчас веди на живодерню.
– Цыц, бисова собака! – бывал ответ смотрителя. – Разве ты не знаешь, что офицер великого короля шведского, нашего пана и отца, делает нам честь скакать на наших лошадях, как ему заблагорассудится? Благодари его милость, что он не впряг тебя самого и не влепил тебе сотни бизунов[240], собачий сын!
Красноречивые убеждения шведского палаша разогревали и флегму немецкого почтальона. То печально посматривая на бездыханную трубку, у груди его покоившуюся, то умильно кивая шинкам, мимо его мелькавшим, посылал он мысленно к черту шведских офицеров, не позволявших ему ни курить, ни выпить шнапсу, и между тем чаще и сильнее похлопывал бичом над спинами своих тощих лошадей-дромадеров.
– Не Траутфеттер, а Доннерветтер надобно бы ему прозываться, – говорили сквозь зубы немецкие станционные смотрители, подавая рюмку водки бедному страдальцу почтальону, и со всею придворного вежливостию спешили отправить гостя со двора.
Провожаемый такими приветствиями, Адольф прискакал на четвертые сутки в Ригу; узнав, что Шлиппенбах находится в Пернове, отправился туда, передал ему от короля бумаги, и, желая удивить своим нечаянным приездом баронессу и невесту, которая, по мнению его, должна была умирать от нетерпения его видеть, полетел в Гельмет. Здесь у корчмы остановился он, заметив свадебный поезд. Пристальный взгляд на лица крестьян, необыкновенно развязных, и другой взгляд на миловидных крестьяночек, шушукавших промеж себя и лукаво на него поглядывавших, объяснили ему сейчас, что эта свадебная процессия была одна шутка баронессиных гостей.
Желая скрыть свое настоящее имя, он выдал себя за трабантского офицера Кикбуша, только что вчера прибывшего из армии королевской с известиями к генерал-вахтмейстеру о новых победах и теперь, по исполнении своего дела, возвращающегося в армию; присовокупил, что между тем ему дано от генерала поручение заехать по дороге в Гельмет и доложить баронессе о немедленном приезде его превосходительства; что он остановлен у корчмы видом необыкновенной толпы, угадал тайну актеров и просит позволения участвовать в их шутке. Офицеры и студенты, представлявшие чухонцев, охотно согласились принять Адольфа в свой поезд; а как офицер, игравший жениха, был чрезвычайно услужлив, то, с позволения девицы Рабе, уступил Адольфу свою ролю, прибавив, что в народном празднике первое место принадлежит вестнику народного торжества. Таким-то образом явился Адольф в виде крестьянского жениха перед своею невестою; таким-то образом подруга ее сама представила Луизе того, которого эта, может быть, никогда не желала бы видеть. Каково же было изумление и ужас Катерины Рабе, когда Луиза, при взгляде на мнимого Кикбуша, побледнела, когда трабантский офицер, бывший до того чрезвычайно смелый и ловкий, смутился, произнеся крестьянское приветствие новорожденной, и, наконец, когда он подошел к баронессе Зегевольд и вручил ей письмо.
– Рука приятеля моего Пипера! – вскричала баронесса, взглянув на адрес; потом вгляделась пристально в посланника и бросилась его обнимать, приговаривая задыхающимся от удовольствия голосом: – Адольф! милый Адольф! этой радости я не ожидала.
– Адольф Траутфеттер! – раздалось в толпе гостей.
Фюренгоф, внутренно желавший племяннику провалиться сквозь землю, спешил, однако ж, прижать его к своему сердцу. После первых жарких лобызаний и приветствий со всех сторон Адольф просился переодеться и явиться в настоящем своем виде. Кто бы не сказал, смотря на него: Антиной[241] в одежде военной! Но для Луизы он был все равно что прекрасная статуя, хотя ей дан исподтишка строжайший приказ обходиться с ним как с милым женихом.
– Ты должна его любить, – прибавлено к этому грозному наказу. – Смотри, чего ему недостает? Он все имеет: ум, прекрасную наружность и богатство. Ты была бы ворона, если б и без моих наставлений упустила такой клад! Да что ж ты ничего не говоришь?
– Буду стараться исполнить волю вашу, – отвечала Луиза, опираясь ледяною рукою об руку своей милой Кете.
С другой стороны, влюбчивый Адольф, сравнивая свою невесту с теми женщинами, которыми он пленялся так часто в каждом немецком и польском городке, на марше Карловых побед, разом вычеркнул их всех не только из сердца, даже из памяти своей, и поклялся жить отныне для единственной, избранной ему в подруги самою судьбою. «Она сейчас узнала меня: это добрый знак! – думал он. – И меня испугалась; это что значит?.. Ничего худого! Как не испугать это робкое, прелестное творение появлением нежданного жениха, который, того и гляди, будет муж ее! Сердце мое и ласки матери говорят мне, что мы в дальний ящик откладывать свадьбы не станем».
Желая скорее описать свои новые чувства двоюродному брату, он искал его между гостей, но, к удивлению своему не найдя его, спросил у одного из своих молодых соотечественников о причине этого отсутствия. Вопрошаемый, бывший дальний родственник баронессе, объяснил, что она отказала Густаву от дому за неловкое представление им роли жениха, даже до забвения будто бы приличия.
– Это было в отсутствие маменьки, – продолжал вестовщик, – невеста заметила ошибку и вольное обхождение посетителя, рассердилась и рассказала все матери и…
– И загорелся сыр-бор! – сказал, смеясь, Адольф. – Ну, право, я не узнаю в этом деле моего двоюродного братца, скромного, стыдливого, как девушка! А все я виноват, – продолжал уже про себя Адольф, – невольный мученик! навел я тебя на след сердитого зверя моими наставлениями и погубил тебя; но этому скоро пособить можно. Мой верный Сози будет у меня шафером на свадьбе, и мы тогда заключим мировую с баронессою.
Рассуждения эти были прерваны необыкновенным криком на дворе. Адольф оглянулся и увидел, что народ сделал решительное нападение на съестные припасы. В один миг столы были очищены и бык с золотыми рогами исчез. Всех долее покрасовалась круглая шляпа с цветными лентами на маковке столба, намазанного салом, и всех более насмешили усилия чухонцев достигнуть ее; наконец и она сорвана при громких восклицаниях. Чернь веселилась потом, как обыкновенно веселится. Лишь только гости возвратились во внутренность дома, атман возвестил о приезде его превосходительства генерал-вахтмейстера.
– Его превосходительство! – перенеслось из одной комнаты в другую. Кроме нескольких собеседников, в том числе и Красного носа, все засуетилось в гостиной, все встало с мест своих, чтобы встретить его превосходительство. Зибенбюргер остался преспокойно в креслах, как сидел: коварная усмешка пробежала по его губам; движения его, доселе свободные, сделались напоказ небрежными. Фюренгоф, при вести о прибытии главного начальника шведских войск, задрожал от страха; вынул свои золотые, луковкою, часы из кармана и сказал:
– До двух часов остался еще час?
– Да! – отвечал хладнокровно Красный нос. – Впрочем, если указательная стрелка и заврется, есть средства ее остановить.
Ответ этот был так же хорошо понят, как и напоминание времени, и рингенский барон, оправившись несколько от испуга и приосанившись, спешил засвидетельствовать свое глубочайшее почтение прибывшему генералу.
Вошел мелкорослый мужчина, погруженный в огромный парик, в лосиные перчатки и сапоги с раструбами до того, что из-под этих предметов едва заметен был человек.
– Здравствуйте, мои милые лифляндцы! Как можется? Каково поживаете? – произнес он, не сгибаясь и протягивая руку или, лучше сказать, перчатку встречавшим его низкими поклонами. – Все спокойно, все хорошо небось по милости нашего короля и нас? А? Через нашего вестника вы именно слышали уже о новых победах его величества?
– Честь и слава ему на тысячелетия! – воскликнули два или три голоса, между тем как все молчали.
– Может быть, в эту самую минуту, как я с вами говорю, новый польский король на коленах принимает венец из рук победителя. Каково, meine Kindchen![242] Надобно ожидать еще великих происшествий. Кто знает? Сегодня в Варшаве, завтра в Москве; сегодня Августа долой; завтра, может быть, ждет та же участь Алексеевича.
– Последний поупрямее и тяжел на подъем, – сказал кто-то из толпы. Генерал, казалось, не слыхал этих слов: обратившись к медику Блументросту, ударил большою перчаткою по руке его и произнес ласково:
– А, мой любезный медикус! Довольны ли вы моею бумажкою? Ну, есть ли заказы? Вы меня понимаете? Я говорил о вас профессору анатомии в Пернове: да вот он сам здесь. – Потом, не дав Блументросту отвечать, продолжал, кивая Фюренгофу: – А, господин рингенский королек! к вам приехал племянничек, женишок, молодец хоть куда, любимец его величества: все эти звания требуют… понимаете ли меня? (Здесь генерал показал двумя пальцами одной руки по ладони другой, будто считал деньги.) Мы люди военные; ржавчину счищаем мастерски со всякого металла. Ха-ха-ха! (На все эти приветствия Фюренгоф униженно кланялся.) А это что за урод? – спросил Шлиппенбах Фюренгофа на ухо, показывая огромным перстом на Зибенбюргера, небрежно раскинувшегося в креслах.
– А-а! ваше превосходительство… Гм!.. это… а, а… как бы вам доложить, ваше превосходительство… – проговорил, запинаясь, рингенский барон, проклиная мысленно приятеля своего Никласзона, поставившего его в такое затруднение особою Зибенбюргера.
– Вы крепки на все, – сказал маленький генерал, махнув своею огромной лосиной рукавицей, которая раструбами едва не зацепила за нос Фюренгофа; обратился к баронессе и спросил у ней вполголоса: – Скажите мне, маменька! откуда выкопали вы этого уродца?
– Ах, мой почтеннейший генерал-вахтмейстер! – отвечала баронесса. – Ради бога говорите потише, чтобы не оскорбить этого великого человека. Барон Фюренгоф сделал мне честь привезти его ко мне.
– Гм! потом?
– Если б вы знали, что это за сокровище! Он доктор Падуанского университета, корреспондент разных принцев…
– Конечно, и шпион их.
– Физик…
– Не сомневаюсь.
– Математик…
– Когда марширует.
– Астролог…
– Может быть, подагрик и предугадывает погоду; наверно, еще и алхимист: без того не терся бы около него наш барон. Вернее всего, какой-нибудь шарлатан, который показывает истину не по-старинному, на дне кладезя, а на дне кошелька, ха-ха-ха! как ваш стригун, русский козел Андреас Дионисиус.
– Да, мой козел, – возразила баронесса с сердцем, но все-таки вполголоса, – проблеял мне вчера то, что вашему соловью шведскому никогда не удастся пропеть. Знайте… однако ж я вам не скажу этой тайны до тех пор, пока вы не дадите мне честного слова довесть до его величества мое усердие, мою неограниченную преданность, мои жертвы.
– Вы уже недоверчивы ко мне, милая мамаша? – сказал Шлиппенбах, нежно грозясь на нее огромным пальцем своей перчатки.
– Услуга так важна…
– Повинуюсь. Честное слово шведского офицера, что я исполню ваше желание.
– Теперь вы, наша армия, Лифляндия спасены! – сказала шепотом баронесса и пригласила было генерала в другую комнату, чтобы передать ему важную тайну; но когда он решительно объявил, что голова его ничего не варит при тощем желудке, тогда она присовокупила: – Будь по-вашему, только не кайтесь после. Между тем позвольте мне представить вам ученого путешественника. Господин доктор Зибенбюргер! господин генерал-вахтмейстер и главный начальник в Лифляндии желает иметь честь с вами ознакомиться.
Шлиппенбах, не вставая со стула, протянул было руку Красному носу; с своей стороны этот едва покачнулся телом вперед, кивнул и сказал равнодушно:
– Очень рад!
– Очень рад! – повторил Шлиппенбах голосом оскорбленного самолюбия, привыкшего, чтобы все падало перед ним, и неожиданно пораженного неуважением иностранца. Опустив руку, столь явно отвергнутую, он покраснел до белка глаз и присовокупил насмешливо: – Вы едете, конечно, других посмотреть и себя показать.
– Вы не ошиблись, – отвечал хладнокровно Красный нос, – составляя не последний оригинал в физическом и нравственном мире, я люблю занимать собою исполинов в этом мире! люблю сам наблюдать их; но до мелких уродцев мое внимание никогда не унижалось.
– Господин доктор едет из Московии, – подхватила баронесса, желая облегчить путь пилюле, стоявшей в горле генерала. – Он был несколько времени при дворе тамошнем и в лагере Шереметева; видел и нашего приятеля Паткуля, которого изобразил мне так живо, как бы с ним никогда не расставался.
– Следственно, он присоединился там к порядочному зверинцу, – сказал с горькой усмешкой маленький генерал.
– Не полному! – возразил спокойно Красный нос. – Дорогою имею случай дополнять недостающие экземпляры.
Шлиппенбах опять принял посылку по адресу, надулся, как клещ, думал отвечать по-военному; но, рассудив, что не найдет своего счета с таким смелым словодуэлистом, у которого орудия не выбьешь из рук, и что неприлично было бы ему, генералу шведскому, унизиться до ссоры с неизвестным путешественником, отложил свое мщение до отъезда из Гельмета, старался принять веселый вид и спустил тон речи пониже:
– Так вы удостоились лицезрения Паткуля, господин доктор? Что вы о нем разумеете?
– Что я о нем разумею? На это отвечать трудно при шведском генерале, подданном государя, которого он враг, и среди общества лифляндских дворян, которых права он защищал – как слышно было – так горячо и так безрассудно.
– Горячо, может быть, – возразил кто-то из гостей твердым голосом, – но благородно и не безрассудно!
– Лифляндия должна гордиться таким патриотом, и кто думает противное, недостоин имени благородного сына ее, – присовокупил граф Л-д[243] (тот самый, который в царствование Екатерины I был ее любимым камергером и впоследствии времени, играя важную политическую роль в России, исходатайствовал своим соотечественникам права, за которые пострадал Паткуль).
– Кто смеет спорить с патриотизмом некоторых лифляндцев? – сказал насмешливо Шлиппенбах. – Надобно плотину слишком твердую, чтобы удержать разлив его, который, мне кажется, найдет скоро путь и в Московию.
– В этом случае, ваше превосходительство, крепко ошибаетесь, – сказал граф Л-д. – Между нами нет ни одного изменника своему государю: лифляндцы доказывали и доказывают ему преданность свою, проливая свою кровь, жертвуя имуществом и жизнию даже и тогда, когда отечество не видит в том для себя пользы. Не в Россию, а разве из России вторгнется к нам бурный поток, и, конечно, щепками вашего отряда не остановишь его и погибели нашей!
– Новое, не слыханное доселе красноречие! Щепки! великие жертвы! бурный поток! погибель Лифляндии! Какие громкие имена, граф! Мне, право, смешно слышать их, особенно от вас, в разговоре о таком ничтожном предмете, каков Паткуль. Скоро и очень скоро избавим мы Лифляндию, этого великодушного пеликана[244], от великих, тяжких жертв ее, перенеся театр войны подалее от растерзанного шведами отечества вашего.
– Ничтожный предмет? Не думаю, – сказал граф Л-д.
– Может быть, я ошибаюсь в названии: ничтожный, это неприлично сказано об изменнике, переметчике, бунтовщике. (При этих словах Красный нос сильно повернулся на креслах.) Кажется, теперь настоящее имя ему приискано.
– Ваше превосходительство, назвав его порядочным именем, оскорбили бы верноподданных его величества, – сказал один из гостей.
– Ни дать ни взять, ваше превосходительство вылили его в настоящую форму, – прибавил другой, низко сгибаясь.
– Приговор вашего превосходительства есть приговор потомства, – присовокупил третий, потирая себе ладони.
– Вот истинные сыны отечества! – воскликнул генерал.
– Гм! Низкие льстецы! – произнес громогласно Бир.
Шлиппенбах оглянулся, искал, кто это произнес; но дерптские студенты загородили библиотекаря.
Граф Л-д презрительно посмотрел на низкопоклонников и сказал:
– Я давеча наименовал уже этих господ, и пусть один из них осмелится когда-либо назваться при мне лифляндским дворянином. Еще могли б они сохранить благородное приличие хоть молчанием!.. Кто вынуждал, кто выпытывал у них собственный их позор? Преданность государю, скажут они. Преданность!.. Пускай доказывают они ее, идучи на смерть за него, и не боятся так же смело идти на смерть за истину! Клеветники и низкие люди всегда худые подданные, так же как и худые сыны отечества. И кто ж, в угодность мелкой власти, называет презренными именами того, который пожертвовал собою для защиты их собственных прав, выгод, благосостояния? Не те ли самые, которые называли его некогда своим благодетелем, спасителем, вторым отцом? Едва не лобызали они тогда краев его одежды, едва не к божеству его причли и не ставили ему алтарей! А теперь, когда он для них не может идти в другой раз под плаху, теперь… Нет, я не могу быть с ними вместе; мне душно здесь! – Сказав это, граф Л-д взял шляпу, извинился перед баронессою и вышел; за ним последовало несколько дворян.
– Что скажете вы об этом, маменька? – спросил Шлиппенбах баронессу.
– Я враг Паткулю, не языком, а делом, – отвечала дипломатка. – Впрочем, вы знаете, что я люблю политические споры. Не из возмущенного ли моря выплывают самые драгоценные перлы? Ловите их, ловите, почтеннейший генерал, как я это делаю, и простите благородной откровенности моих соотечественников, этих добрых детей природы, любящих своего государя, право, не хуже шведов.
– Прекрасно! – воскликнуло множество голосов. – Благодарим нашу защитницу.
Приметно было, что баронесса отдыхала на лаврах, между тем как маленькому генералу, повелителю Лифляндии, подсыпались со всех сторон тернии. Казалось, что при новом толчке, данном его самолюбию, он должен был разразиться на собеседников громовым ударом; напротив того, в нем оказался неожиданный перелом: с крошечного лба сбежали тучи, его обвивавшие; на лице проглянуло насмешливое удовольствие, и он, рукоплеская, примешал к восклицаниям собеседников и свое:
– Вот я это люблю, meine Kindchen! Спорьте всегда в любви и преданности к королю своему. Продолжайте, господа, анатомировать Паткуля, который нам многим сделал глубокие операции; но между тем не забудьте, маменька, что для нас, солдат, есть лагерные часы обедать, выпить рюмку и спать. За кем далее черед? Да, что скажет нам почтеннейший мариенбургский патриарх?
Проговорив это, Шлиппенбах прислонился затылком к высокому задку стула, воткнул стоймя огромную перчатку в широкие раструбы своего сапога, как бы делал ее вместо себя соглядатаем и судьею беседы, сщурил глаза, будто собирался дремать, взглянул караульным полуглазом на Фюренгофа и Красного носа, захохотал вдруг, подозвал к себе рукою Адольфа и шепнул ему на ухо:
– Дядя ваш обманут: он привез к нам шпиона. Не правда ли, – продолжал генерал вслух, – дядя ваш не догадался, что он потерял свою перчатку, именно правую?..
Фюренгоф засуетился было искать свою перчатку, но повелитель Лифляндии дал ему знак, чтобы он оставался на своем месте, и, зевая, сказал Глику:
– Мы ждем вашего голоса.
Пастор, который по первому вызову успел только поправить на себе парик, выпрямиться и кашлянуть, по второму вызову произнес довольно протяжно:
– Хотя поздненько меня спрашивают, может быть, тогда, когда все голоса собраны, когда кормчие разговора довели его до Геркулесовых столпов, да не посмеет никто идти далее; однако ж дерзнем на челноке наших понятий пуститься хоть по водам, обозренным моими высокопочтенными собеседниками. Igitur[245], скажу об Иогане Рейнгольде Паткуле, лифляндце родом, сердцем и делами, бывшем изгнаннике, ныне генерал-кригскомиссаре московитского монарха, гения-творца своего государства, вождя своего народа ко храму просвещения – вождя, прибавить надобно, шествующего стопами Гомеровых героев.
– Хватающегося за все и ничего не совершившего, – сказала баронесса.
Катерина Рабе, услышав из другой комнаты тонким своим слухом, что воспитатель ее говорит о московитском царе, привстала со стула, подошла на цыпочках ближе к разговаривавшим и низала на сердце каждое слово, сказанное о Петре.
– Неправда! – возразил пастор, одушевленный необыкновенным восторгом. – Он много, очень много сотворил. У Алексеевича нет колеблющихся начинаний, нет попыток: мысль его есть уже исполнение; она верна, как взгляд стрелка, не знавшего никогда промаха. Стоит ему завидеть цель, и, как бы далека ни была, она достигнута. Другие садят желудь и ждут с нетерпением годы, чтобы дуб вырос: он из чужих пределов могучею рукой исторгает вековые дубы, глубоко врывает на почве благословенной, и дубы вековые быстро принимаются и готовы осенить Московию.
– Придет молодой шведский завоеватель, – перебила опять баронесса, – несколькими ударами грозного меча обсечет ветви великого дерева московитского, и что от него тогда останется? Безобразный столб для смеха проходящих!
– Я сказал, высокородная госпожа баронесса, я сказал, что древо просвещения посажено не руками мальчишек-верхоглядов, а врыто глубоко в землю рукою могучею. Отсеките ветви, срубите самый ствол, появятся через несколько времени отпрыски, которые некогда будут также дубы. Поверьте мне, на исполинском твердом пути Алексеевича ничто его не остановит. Скорее не ручаюсь, чтобы пылкий, воинственный дух молодого героя, всемилостивейшего нашего государя и господина, – но дело не в том – не ручаюсь, говорю я, чтобы дух этот не занес шведского Ахиллеса[246] в ошибки невозвратимые, которые послужат к большему величию Петра. Впрочем, да не оскорбится верноподданнический слух вашего превосходительства и ваш, господа высокоименитые лифляндцы и шведы, если скажу вам по чувству истины: пылкость характера не есть добродетель в царях; она скорее в них погрешность. Обдуманная твердость, ничего не начинающая без цели, никогда не полагающаяся на счастие, одним словом, Минерва в полном вооружении – прошу заметить, в полном… – вот что составляет истинное достоинство государей и благоденствие вверенных им народов. А твердостию такою московитский государь обладает в высшей степени. Еще осмелюсь прибавить… присовокупить, кстати или некстати… в последнем случае, вы меня извините… нигде не покидает Карла мысль о славе, для которой он, кажется… мнится мне… так мне сдается… готов все забыть; нигде не покидает Алексеевича мысль о благе отечества. Алексеевич в Вене, в Стокгольме, в Париже будет всегда близок своего народа. Отважный Карл, занеся ногу в Московию…
– Дело не в том, отец Плиний из Веттина![247] – перебил Шлиппенбах, потягиваясь и передразнивая пастора в любимой его поговорке, – дело не о вашем возлюбленном Алексеевиче, которого новый толчок шведским прикладом, сакрамент, подобный нарвскому, отобьет от кукольных его затей. Мы спрашивали вашего мнения насчет беглеца Паткуля.
– Виноват, господин генерал-вахтмейстер! виноват, я несколько отдалился от заданной темы. Что касается до высокоименитого Иогана Рейнгольда Паткуля, то я должен предупредить о следующем. Знаменитые юристы галльские, в том числе сам Христиан Томазиус[248], это солнце правоведения, и, наконец, лейпцигская судейская палата решили до меня чудесный казус, постигший именованную особу, то есть: имел ли право верноподданный его величества желать сохранить себе жизнь и честь, отнимаемые у него высшим приговором, и предложить свое служение другому государю и стране? был ли приговор шведского суда справедлив и прочее? Галль, Лейпциг, Томазиус решительно оправдали его на немецком и латинском языках в известной дедукции, изданной in quarto[249] прошлого, тысяча семьсот первого года февраля пятнадцатого дня. После того мы, сидящие на последней ступени храма Фемидина[250], какое посмеем сделать определение? Разве примолвим: головы, подобные Паткулевой, надо государям беречь, а не рубить. Правда, нелишним будет еще упомянуть, что в пятом и восьмом пунктах известного адреса он не имел аттенции к юриспруденции, и сожалеть надо, что он не посоветовался с людьми знающими. Вот, например, если позволите, я докажу из конспекта моего…
Здесь пастор вынул из бокового кармана тетрадь в золотой обложке и хотел было почерпнуть в ней свидетельство доводам своим; но генерал, махнув повелительно рукою, сказал:
– До другого времени, отец-юриспрудент и оратор из Веттина! Сакрамент, маменька, лагерный час обеда пробил!
– До обеда я имею еще важное дело вам передать, – возразила баронесса, – оно касается, как я сказала давеча…
– Прошу уволить, высокопочтенная баронесса! – перебил генерал. – Мы поедим, попьем, поспим и тогда примемся за важные дела. Но если для лучшего аппетита необходимо привесть в движение механизм языков, то попытаемся заставить говорить вашего почтенного свата. Гм! например, господин барон Фюренгоф, что бы вы, добрый лифляндец и верноподданный его величества, что бы вы сделали, встретив изменника Паткуля (генерал посмотрел на Красного носа) в таком месте, где бы он мог быть пойман и предан в руки правосудия?
На вопрос Шлиппенбаха язык Фюренгофа прозвучал подобно колокольчику, сжатому посторонним телом:
– А-а, господа!.. что до меня… то я, конечно… вы знаете мою преданность его величеству… но я не знаю, известно ли вашему превосходительству, что он… хотя… но он…
– Кто он? – спросил резко Шлиппенбах.
– Как доложить вашему превосходительству, не смею…
– Вы, дядюшка, хотите сказать, что Паткуль ваш родственник, – подхватил Адольф, – и не имеете духа выговорить это.
– А-а, Адольф, любезный друг, так же как и тебе; но ты знаешь, что я плохой оратор, и ты помог бы мне, когда бы объявил свое мнение, свои чувства.
– Вы меня вызываете к ответу, и я дам его, – сказал с твердостью Адольф. – Солдатский ответ короток. Если я, как рядовой воин шведской армии, встречу Паткуля посреди неприятелей, то не пощажу о него благородной стали. Уничтожить жесточайшего врага моего законного государя почту тогда особенною для себя честью. Но, – прибавил Траутфеттер с особенным чувством, – если б я нашел его беззащитным, укрывающимся в отечестве, где бы ни было, то я пал бы на грудь моего благодетеля и второго отца, оросил бы ее слезами благодарности, и горе тому, кто осмелился бы наложить на него руку свою!
– Зараза везде проникла! – воскликнул со вздохом Шлиппенбах. – Тяжкие, горькие времена!
– Благородный молодой человек! – сказал в то же время Зибенбюргер со слезами на глазах. – Кто в эти минуты не желал бы быть Паткулем, чтобы обнять вас? Жаль, что возвращаюсь из Московии, а не еду в нее; а то с каким удовольствием рассказал бы я ему, что он имеет еще в Лифляндии соотечественников, друзей и родного.
Все с каким-то недоумением обратили взоры на путешественника, принимавшего такое живое участие в родственных и гражданских связях Паткуля.
– Что ж? можно, не ехавши в Московию, видеться с генералом московитским, – сказал значительным голосом Шлиппенбах, коварно посматривая на Красного носа. – Говорят, что он здесь…
– Как здесь? – спросил Адольф, изменившись в лице.
Фюренгоф при этих словах был ни жив ни мертв; колена его ходили туда и сюда. Он колебался уже открыть генералу тайну своего спутника и представить его живьем; но Паткуля спасло новое восклицание Шлиппенбаха.
– Да, он скрывается в Лифляндии, – отвечал с таинственным видом генерал, – однако ж, несмотря, что ученые шпионы его следят меня даже на празднике моих знакомых, надеюсь скоро дойти до логовища этого красного зверя.
Баронесса перемигнулась с Зибенбюргером и сказала таинственным голосом:
– У кого есть верный маршрут, сделанный по некоторому астрологическому наведению, до некоторой резиденции в глуши лесной… не правда ли, господин доктор… тот может не надеяться, а исполнить?
– Увидим, увидим, кому скорее удастся, – воскликнул Шлиппенбах, – а для приступа к нашим поискам…
Красный нос подошел к открытому окну, и почти в тот же миг раздалось на дворе среди шума народного:
– Генерал, господин генерал-вахтмейстер! ради бога! дело важное имею до тебя.
На этот возглас Шлиппенбах бросился на террасу; гости вылились за ним. Баронесса, приметно смешавшись, искала около себя Никласзона; но верного ее секретаря давно не было не только в доме, даже в Гельмете; он умел заранее убраться от опасности. Дипломатка догадывалась, что не кто иной взывает к генералу, как преданный ему швед, Вольдемар из Выборга. Сведения о скором выходе русских из лагеря, благодарность Пипера, милостивое внимание самого государя – все похищено у ней в одну минуту. Пользуясь общею суматохою, произведенною любопытством, Адольф бросился к Зибенбюргеру, схватил его за руку, отозвал в другую комнату и торопливо сказал ему вполголоса:







