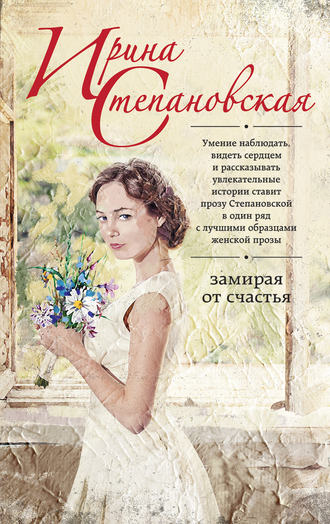
Ирина Степановская
Замирая от счастья
Прасковья Степановна большую часть дня теперь лежала одетая – под одеялом, под пледом, под мужниным старым пальто и под рваным тулупом, найденным в сарае. Драцены померзли, Нестеров обрезал их под корень и убрал с подоконника на середину комнаты. Фикус стоял поникший, а мясистые его листья затвердели, как будто изнутри наполнились льдом. Горшки из-под герани опустели и были убраны в темный чулан.
Прасковья Степановна вставала теперь только перед приходом мужа. Не для того, чтобы приготовить поесть, готовить было не из чего, а чтобы смахнуть со стола все равно откуда-то бравшуюся тусклую, скучную пыль. Когда Нестеров входил – промерзлый, из темноты, она всегда шла навстречу и говорила, стараясь улыбаться, что он с каждым днем приходит все позднее и что она опасается, не завелась ли у него в институте любимая студентка.
Собственно, мелькнувшая тогда после собрания у Нестерова мысль, что Прасковья Степановна будет недовольна его поздними приходами, базировалась не на этих полушутливых укорах, а на воспоминании о прошлой жизни, в которой обеденный час – семь часов вечера – был незыблемой данностью из жизни еще более прошлой. И Нестеров старался не нарушать законы, установленные женой. Теперь же с отсутствием обеда как такового осталась только традиция. А еще Прасковья Степановна не любила вечерами оставаться одна. И хотя она не говорила об этом Нестерову, он не мог не чувствовать, что она боялась. Она не переносила темноту, а электричество теперь по вечерам часто отключали.
Страх этот появился у Прасковьи Степановны не с началом войны, а намного раньше. Нестеров заметил его года с тридцатого, когда в каком-то очередном городке в одной с ними коммунальной квартире поселился вечно пьяный мужик, которого все соседи называли просто – Партизан. Звериным интуитивным чутьем этот пьянчуга уловил нечто, ему абсолютно инородное, и в самом Нестерове, и в Прасковье Степановне. В первый же день после вселения Партизан переступил на костылях порог общей кухни и мутным взглядом обвел всех женщин, теснящихся у закопченных плит.
– Ты, – сказал он громко, безошибочно обратившись к Прасковье Степановне и для острастки выставив вперед деревянный протез, пристегнутый к колену, – барыня недобитая. Пошла отсюдова прочь! Нечего здесь к рабочему классу примазываться!
Прасковья Степановна молча взяла кастрюлю с плиты и ушла в свою комнату. Вечером она рассказала о Партизане Нестерову. Через три дня они переехали с квартиры и вообще уехали из того города, селились с той поры только в отдельных домах, пусть даже развалюхах, но страх у Прасковьи Степановны остался.
– Может, нам через кого-нибудь разыскать моего отца и уехать к нему? – году в тридцать шестом спросила она Нестерова.
– Поздно, Паулиночка. Теперь уже не уехать.
И она, почти никогда не плакавшая, вдруг заплакала – не оттого, что вдруг с внезапной отчетливостью еще раз поняла, что больше никогда, никогда не увидит отца, а оттого, что Нестеров назвал ее прежним, почти забытым уже именем. «Паулина Генриховна» – так звали до революции Прасковью Степановну ученики в ее начальной школе.
А в тридцать седьмом, как-то вечером, когда Прасковья Степановна слушала радио и думала, что находится в доме одна, Нестеров случайно вернулся раньше обычного. Он разделся в прихожей, снял калоши и, выпрямляясь, задел и уронил висевший зонтик. Он поднял его и вошел в комнату. Прасковья Степановна стояла, вжавшись в угол. Такого выражения ужаса на ее лице он даже представить до этого не мог.
– Что с тобой? – спросил он.
– Я думала… Я боялась, что, если меня заберут, я больше тебя никогда не увижу, и ты ничего обо мне не узнаешь.
Он молча обнял ее. Она вдруг горячо зашептала:
– И в доме ведь есть твои рукописи… Тебя тоже могут схватить.
– В них нет ничего крамольного.
– Да, но ты не очень поддерживаешь Мичурина.
– Я никого не поддерживаю. Я занимаюсь лишь ядовитыми растениями.
– Петр! Вдумайся. Ядовитыми!
Он внезапно тоже понял и тоже ужаснулся.
В тот же вечер он сжег свою рукопись. Оставил только гербарий и определитель растений. Определитель был уже подписан в печать и должен был выйти после Нового года. И, когда он вышел, они переехали в очередной раз, бросив вполне налаженный дом и вполне уже ухоженный сад. Приехали сюда, в далекий город на Уральских горах, и Нестеров сразу же после покупки последнего их жилья купил и Рокса.
Муж явился позднее обычного. От куриного супа, как и от борща, отказался. Сказал, что устал, что выпьет кефиру и ляжет спать. На самом деле (Ната прекрасно это уже знала, потому что так бывало отнюдь не в первый раз) после кефира настал черед чая, пряников, и варенья, и… телевизора. Димка тупо смотрел какой-то очередной сериал. Ната не ругалась. После того как уезжаешь на работу в семь, крутишься там целый день и приезжаешь домой в девять вечера, в башку ничего не лезет, кроме такой вот дряни. Но ей хотелось поделиться.
– Дим, я замутила новый рассказ.
– Да? О чем? – Он мельком взглянул в ее сторону и снова уставился на экран.
– О войне. О том, как на Урале сохраняли картофельный фонд.
Сериал перебился рекламой.
– Дудинцев. «Белые одежды», – Димка переключился на другой канал.
– Что? – не поняла Ната.
– Я говорю, «Белые одежды». Мы в институте изучали. Роман был такой. Году в восьмидесятом. Вроде о генетиках или еще о ком-то. Но про картошку там вроде тоже что-то было. Я плохо помню, кажется, не дочитал. Или забыл.
– Да? – расстроилась Ната. – А я вообще ничего такого не знаю. Думала, я буду первооткрывателем этой темы.
– Этой темы? – Реклама закончилась, и муж опять стал смотреть в экран. – С чего тебя вообще потянуло на это старье?
– Старье? Ты не поверишь. Смотри, – Ната встала со своего места из-за стола, раскрыла дверцы кухонного шкафа и достала какую-то вазочку. Сунула под нос Димке. Повторила:
– Смотри!
– Что это? – Из телевизора доносилась стрельба, и он никак не мог оторваться.
Ната убрала вазочку от его лица, подняла ее повыше к свету.
– Не знаю точно. Не то конфетница, не то для варенья.
Стрельба прекратилась, и Димка, не отрываясь от телевизора, полез в Интернет в своем телефоне. Машинально поморщился.
– И что?
Ната любовалась вазочкой, вертела ее в руках.
– Ты думаешь, это современная вещь? Да?
– Какая разница. Обычная дешевка…
– Я тоже сначала так думала, а потом увидела что нет.
Димка промолчал. На экране начался захватывающий эпизод взятия заложников.
– Господи, ну можешь ты хоть на минутку обратить на меня внимание? – не выдержала Ната.
– Да, ладно тебе… – Дмитрий все-таки повернулся в ее сторону. – Ты еще скажи спасибо, что я в компьютерные игры, как наш сын, не играю. И в Интернете сутками не сижу. Кстати, Темка где?
Ната взглянула на часы.
– Вообще-то должен уже прийти… Может, на тренировке задержался или девушку какую-нибудь поехал провожать? – Она выглянула в окно. – Или возле дома круги наматывает – место для парковки ищет.
Муж посмотрел на Нату.
– Слушай… Забыл сказать. У меня колесо спустило. Завтра с утра придется в шиномонтаж ехать.
Ната поставила вазочку на стол.
– Ой, вечно… Не понос, так золотуха…
На экране очередная красавица-следователь очаровательно улыбнулась очередному оперативнику и отказалась лечь с ним в постель под предлогом срочного выезда на очередное убийство. Поплыли титры. Дмитрий щелкнул пультом, выключил телевизор. Налил себе еще чаю. Зевнул.
– Ну, так что это за вазочка?
Ната обрадовалась. Опять взяла в руки интересовавшую ее штучку, повертела под лампой.
– Вот, смотри! Ты думаешь, это на ней рисунок такой?
– Ну-ка, дай сюда!
По запорошенному снегом стеклянному полю узорчатой пеленой просвечивали завитушки – будто кто-то по льду катался на коньках.
– Хм! А если всмотреться – неплохая штуковина. Где ты ее взяла? В «Ашане»?
– Ну, скажешь тоже! – В голосе Наты слышались победные нотки. – На антресолях. В маминой коробке. Там еще от бабушки лежит всякая всячина. Но скажи… – Ната аккуратно перехватила вазочку у Димки из рук. – Симпатичная ведь штуковина! И никогда не подумаешь, что ей уже больше ста лет! Действительно, будто только из магазина. Мне кажется, я что-то похожее в «Английском фарфоре» видела. И ведь правда – рисунок изысканный. Будто лазером нанесен!
– А с чего ты полезла на антресоли? Я думал, у нас там все паутиной уже затянуто, как в «Острове сокровищ». – Димка засмеялся.
– Сам ты паутина! – Ната рассердилась. – Хватит ржать! Я на свою коробку для косметики кофе случайно пролила. Вот и стала искать, чем бы заменить. А будешь издеваться, я нарочно новую куплю – самую дорогую!
– Ладно, чего ты злишься… – Муж налил себе еще чаю. – И почему ты думаешь, что этой вазочке сто лет?
– Ага! – снова воодушевилась Ната. – Вот ты тоже не увидел! И я не сразу заметила. А ты представляешь, эта вазочка в газету была завернута. «Уральский рабочий» от 8 декабря 1977 года. Мне тогда было… Два года всего!
– А бабушка твоя умерла в каком году? – посмотрел на Нату Димка.
– Ой правда, как же я не подумала… В семьдесят седьмом… В октябре… Не помню точно уже какого числа.
– Вполне логично, что через сорок дней вещи эти и были запакованы. Наверное, их перевезли к твоей матери на квартиру. А потом уже и к тебе.
Ната подумала.
– Ну, да, я помню, когда мы с мамой разменялись, она просто передала мне эту коробку. Сказала, возьми что хочешь, а что не надо – выброси. А я, наверное, и смотреть не стала! Все было некогда. Но самое интересное, прочитай, что написано на этой вазочке на дне!
– А разве там что-то написано?
– В том-то и дело! Гравировка такая тонкая, что еле заметна на фоне рисунка. Вот ты читай!
– Я без очков не вижу.
– Давай сюда.
Ната прищурилась и стала медленно разбирать, всматриваясь в еле заметные буквы. «В день рождения дорогой Паулине Рихарт от подруги Аси. Никогда тебя не забуду! Десятое сентября 1911 года». Представляешь? Это еще до Первой мировой! Конец Серебряного века. Я теперь даже не смогу в эту штуку косметику класть.
– Ну вообще-то художественной ценности в ней немного.
– Тут дело уже не в ценности. Просто во времени. И самое главное – я никогда не знала никого, кого бы звали Паулина Рихарт. И о подруге Асе, кстати, тоже никогда не слышала.
– Так матери позвони.
– А я уже позвонила. Так вот, мама сказала, что якобы у моего прадеда, академика, когда он работал на Урале, был сотрудник, по фамилии Нестеров. Его жена была чистокровная немка. И они скрывались, чтобы ее не разоблачили во время репрессий. И вот эту жену-немку звали, кажется, Паулина Генриховна. И что мой прадед вместе с этим Нестеровым спасали в войну картофельный фонд.
Дмитрий пожал плечами.
– Ну, так весьма логично, что жена этого Нестерова вполне могла подарить какую-нибудь безделушку жене твоего прадеда – академика. Например, эту вазочку. Что же тут такого?
Ната помолчала немного и вдруг выпалила:
– Да я не про вазочку… У меня сложился про все это рассказ!
– Про что, про это?
– Ну про войну… Про то время… Про Нестерова и его жену… Про картофельный фонд.
– Ерунда, – зевнул Димка. – Ты что, его уже написала?
– Пока еще нет. Работаю.
– Ну дело, конечно, твое, но, по-моему, время лучше не тратить. Сама же жалуешься, что ни хрена не успеваешь. Тема непроходная. Не напечатают.
Ната помолчала. Дмитрий опять включил чайник. Взглянул на жену.
– Чай будешь?
– Не буду.
Он сел за стол напротив нее, впервые за вечер посмотрел ей прямо в глаза.
– Ну чего ты набычилась?
Ната молчала, рассеянно сметала крошки со стола.
– Сама же знаешь, что правду говорю, – опять сказал Димка. – Картофельный фонд какой-то… Нашла тоже тему. На фиг это кому-то сейчас нужно?
– Ну у нас же вроде этот год идет как юбилейный… Шестьдесят вроде лет со Дня Победы…
Ната чуть не заплакала. Она целый день работала. Неважно чувствовала себя. Многое не успела. И вечером, когда Димка ляжет спать, у нее еще котлеты. И завтра две лекции… И слышать, что старалась зря… Господи, что за жизнь!
– Во-первых, уже семьдесят лет прошло, а не шестьдесят. Во-вторых, надо было суетиться раньше. – Димкины слова падали в ее уши, как капли яда в уши гамлетовского отца. А он все не замолкал.
– Разрабатывать эту тему надо было начинать минимум за год. Написала бы пораньше и подавала бы на разные конкурсы. Может, тогда бы и прокатило. А теперь, когда вся эта помпа уже позади, – кто это будет печатать? Куда ты этот текст денешь?
– А никуда не дену! – Чашки и блюдца рассерженно звякали в ее руках. – Пускай в ящике моем вечно лежит!
– Охота тогда тебе силы тратить?!
– Ну и пускай! Не всем же каждый вечер в Интернете сидеть!
Димка со значением постучал по своему лбу, встал и полез в холодильник за пряником.
– Да ладно, Наташка, чего ты злишься? Хочешь – пиши. Хочешь – не пиши. Может, и правда что-то у тебя выйдет. – Он откусил сразу половину пряника и снова взял в руки вазочку.
– А! – Ната махнула головой. Злость как-то мигом слетела с нее. – Потому и злюсь, потому что сама знаю – даже если что и выйдет, никому это действительно не нужно. Все хотят от меня что-то стопроцентно продаваемое. Желательно про любовь.
– А у тебя что, в этой «картошке» еще и любви нет? Ну тогда вообще – выброси сразу. Дохлый номер.
– Любовь-то есть… Но… В общем ты прав. Если помягче сказать, вещь эта и в самом деле не коммерческая.
– Какие дела! – Димка подошел сзади и легонько чмокнул жену в макушку. – Вставь два убийства, любовь немки к нацисту, изнасилование и десяток взрывов. Переделай в сценарий. И позвони Виталику. Может, он такое и купит. Сейчас это востребовано.
Ната вздохнула. Беззлобно сказала:
– Пошел ты знаешь куда? Сам знаешь, что Виталий – ужасный циник. Он скажет: «В зародыше хорошо. Но если меня не послушаешь, родится уродец». А я этот свой рассказ уже люблю, как любила бы больного ребенка. Просто потому, что он – мой.
– Ну ты и сравнила тоже, – Димка три раза постучал по столу. – Больной ребенок! Рассказ – это не ребенок. Это работа. Желательно за деньги. – Он засунул вторую половину пряника в рот. – Но все-таки, наш-то сын где? Одиннадцать часов уже. Не предупредил… Не позвонил… Он тебе когда последний раз эсэмэску прислал?
– Днем, – сказала Ната и стала складывать посуду со стола в посудомоечную машину. – Но я сама ему звонила перед твоим приходом. Он был недоступен.
– Ладно, я тоже сейчас попробую набрать. – Дмитрий взял со стола свой телефон. Ната выпрямилась, обернулась к мужу, подождала, пока он соединится…
– Ну что?
– Недоступен. – Пожал плечами Дима и ушел в ванную.
Ната посидела еще за столом, сделала из чашки последний глоток. Чай уже остыл, и она выплеснула остатки в раковину. Встала, полезла в коробку за таблетками для Розалинды. Пошарила рукой на самом дне – вытянула последние три штуки. Сразу зачесался затылок. У нее всегда, когда в жизни появлялись какие-нибудь сложности, чесался затылок. Недаром же говорят: «Чеши репу». Ната и чесала. Чесала и работала. Но, чтобы решать сложности, одну репу чесать оказалось мало. Жуть, как подорожали всякие полезные вещи в последнее время. Нужно спросить у Димки, не предвидится ли, часом, у него какая-нибудь премия? Какой-нибудь приятный бонус?
Муж иногда приносил разные штучки со своих рекламных кампаний. То чайник ему подарят, то набор суперповарешек. Вот сейчас бы кстати оказались моющие таблетки для Розы.
Розалинда – так Ната звала посудомоечную машину. Как Димка объяснял, Ната, как и многие женщины, делала одну и ту же ошибку – всем вещам, людям и явлениям природы придавала собственные черты, а потом удивлялась, что ее часто обманывают и никто не думает в точности как она. И еще он говорил:
– Зря ты очеловечиваешь предметы. Когда машинка испортится, жалко будет ее выбрасывать. Так и будешь ее ремонтировать, вместо того чтобы сразу заменить на новую.
– Она мне больше чем подруга, – возражала Ната. – Сплетничать с ней не получается, зато помогает реально больше.
Димка только усмехался и крутил головой в его обычной манере – недоверчиво-снисходительно.
Стиральная машинка тоже имела свое имя – «Алиса». Ее первую предшественницу купили когда-то давным-давно, в самом начале их с Димкой совместной жизни на подаренные на свадьбу деньги.
– Алиса в стране чудес, – сказала тогда Ната, завороженно следя за автоматически вращающимся барабаном. – Боже, какое счастье, что она у нас есть! Когда я была маленькой, мама стирала в «Сибири», на балконе на веревках развешивали мокрое белье, а у меня было такое чувство, что я болтаюсь под ногами и всем мешаю. Иногда меня в такие дни отправляли к бабушке. А у той была домработница, которая посматривала на меня, как мне казалось, ужасно плотоядно и все время хотела меня тискать. Стоило ей только увидеть меня, она бросала тряпку или что там у нее было в руке, совала руку в карман передника и вытягивала оттуда соевый батончик. Были тогда конфеты такие, дешевенькие. Я, кстати, эти батончики даже любила, но у нее никогда не брала.
– Почему? – зевая, спрашивал Димка.
– Мне казалось, что у нее ногти были всегда грязные. И я ее ужасно боялась и все время заливалась ревом, если она пыталась ко мне приблизиться.
– Она была старая?
– Да нет. Женщина лет сорока. В принципе, такая же, как я сейчас. А фамилия у нее была смешная. Губкина. Я даже не пойму, почему я так на нее реагировала. Потом, когда я уже была взрослой, я ее случайно встретила в магазине. Ничего особенного. Будешь смеяться, я и на руки посмотрела. Руки как руки. Ногти пострижены коротко. Чистые. Удивительно, что она меня первая узнала. Сама ко мне подошла. Вы, говорит, не дочка будете Валентины Борисовны? Как она могла меня узнать? Мама про нее рассказывала, что она выросла в детском доме. Родители умерли во время войны.
– Ну, детдомовские все, наверное, немного своеобразные, – отвечал Димка.
– А знаешь, я вообще не представляю, как это жить, когда в квартире постоянно болтаются чужие люди – горничные, шоферы, дворецкие… Это, должно быть, очень сложно.
– За это не беспокойся. Нам дворецкие не грозят, – фыркал тогда ее муж. – Спасибо, что жить есть где и машинку стиральную купили. Нам бы еще через годик настоящую купить…
Ната улыбнулась. Все-таки они с Димкой молодцы. И за новую квартиру кредит выплатили, и машины у них теперь целых две. «Настоящие», – как говорил тогда Димка. И хоть у Темки машинка и небольшая, но им всем нравится. И ездит он аккуратно…
Шум плеска воды из ванной напомнил Нате купание тюленей в бассейне. Артем, когда был маленький, обожал ходить в зоопарк. Забавный он тогда был… Всегда будто немного застенчивый… Это сейчас, как вырос, стал потихоньку права качать… Ната даже мысленно рассмеялась, вспоминая, как Темка мог подолгу стоять у каждого вольера, на всякий случай держа их с Димкой за руки.
Она подошла к холодильнику, достала размороженный фарш, понюхала. Накрошила в миску кусочками мякиш, корки выкинула в мусорное ведро, налила молоко, достала муку, стала лепить котлеты. В голову сам собой опять лез рассказ. Нет, она должна его дописать, что бы там Димка ни говорил! Рассказ уже, как она называла это, созрел. И даже существовал уже сам по себе, пока, правда, только в ее голове, но это ерунда, записать не так сложно, если владеешь техникой. Потом еще можно исправить детали, но главное уже есть. Есть герои. Они узнаваемы. Она сделала их зримыми, почти осязаемыми. Прасковья Степановна, Нестеров, академик… Еще собака. Они ей понятны. Они будут понятны и другим – тем, кто захочет про них прочитать. Но… – задумалась Ната. То, что она написала как бы в качестве предисловия, сейчас уже затянулось. Пора переходить к действию. Для этого нужен еще один персонаж. Человек, на котором завяжется интрига. Он тоже уже подспудно присутствует. И читатель тоже знаком с ним мельком. Как она назвала его?
Ната смыла с пальцев прилипшую мясную массу, повернула к себе ноутбук, прокрутила первые страницы. Где же эта строка? Начальственная дама на собрании института объявляет назначенных на должности сотрудников. Ну да, это здесь. Ната прочитала вслух. «…За сохранение семенного фонда картофеля назначаются следующие товарищи: ответственный – доцент кафедры ботаники Нестеров П. Я., в помощь ему лаборант этой же кафедры Губкин И. И.»
Почему она написала именно – «Губкин И. И.»? Странно, как всплыла в ее памяти эта фамилия. Фамилия бабушкиной домработницы. Что называется – оговорочка по Фрейду… Но, по большому счету, это не важно. Если уж она интуитивно выбрала такое имя – пусть так и будет. Она опять чуть не засмеялась. Представила, как знакомит Димку и Тему с новым персонажем. Даже рукой сделала движение в сторону воображаемого человека.
– Прошу любить и жаловать – старший лаборант кафедры ботаники Губкин Илья Ильич.
Слепленные котлеты двумя ровными рядами выстроились на разделочной доске. Остается только пожарить. Ну это быстро. Пожарить она всегда успеет. Ната ощутила что-то похожее на зуд в кончиках пальцев. Он появлялся всегда, когда ей нужно срочно что-нибудь записать. Димка опять будет ругаться. «Что у тебя за логика? Завтра не выспишься, будешь кислая, раздраженная…» Она вслушалась – звуки пребывания мужа в квартире были привычны, как дождик в сентябре. Ната усмехнулась. Вот он выключил воду. Пока разотрется полотенцем, пока побреется, чтобы не бриться утром, пока подстрижет ногти или что там еще – у нее еще около двадцати минут. Ната решительно придвинула к себе ноутбук. Она успеет написать страничку про Губкина.
Илья Ильич был человек не старый. Но из-за того, что спина его была искривлена горбом, а темное лицо с крапчатыми глазами складывалось при разговоре резкими морщинами, он казался ровесником Петру Яковлевичу.
Жены у Ильи Ильича не было, хотя слухи о его многочисленных романах ходили по институту самые разные. И Нестеров не удивлялся этим слухам. Было что-то такое в Илье Ильиче – в его лице, в движениях рук, в гордом горбоносом профиле, а самое главное, в его манере одеваться и себя вести, – что женщины очень скоро переставали думать о болезненном недостатке старшего лаборанта. Нестеров еще до войны считал не своим делом задумываться, откуда берет Илья Ильич его прекрасные костюмы с шелковыми рубашками и галстуками-бабочками, кто шьет ему обувь на заказ. А то, что она сшита прекрасным сапожником, не могло быть и сомнений. И только шляпа – мягкая, из дорогого фетра – никак не садилась на будто втиснутую в спину голову нестеровского коллеги. Эта прекрасная шляпа выглядела, как провоцирующая деталь, подчеркивающая искривленный остов, возможно, когда-то изящной башни. И даже серый габардиновый плащ не спасал положения. Шляпа превращала Губкина в старый, сморщенный гриб.
– Какой же я урод в этой шляпе! – спокойно сказал он Нестерову, когда тот случайно застал Илью Ильича одевающимся перед зеркалом в лаборантской. Губкин снял с головы шляпу и протянул Нестерову.
– Хотите, я вам ее подарю?
– Что вы! Ни в коем случае. Да я и шляп не ношу! – ужасно смутился Петр Яковлевич. Он и в самом деле не носил шляп, а предпочитал кепки, которые почему-то называл фуражками. Но смутился даже не из-за самого предложения Ильи Ильича, а из-за того, что никогда до этого они не сближались со старшим лаборантом. На это были некоторые причины. Губкин был старожил, а Нестеров «пришлый», как говорили, в эпоху «до» Нестерова. Илья Ильич, хотя и был только лаборантом, но всеми делами на кафедре заправлял он. Прежний заведующий слушался его и даже боялся, а Нестеров после своего приезда по-своему мягко, но настойчиво стал проводить свою линию по руководству кафедрой. Илья же Ильич, как человек умный, довольно быстро отошел в тень, Нестерову не перечил, хотя особенно и не помогал. Занимался своими прямыми обязанностями – готовил «учебный процесс». А так как работник он был вполне грамотный, Петр Яковлевич к нему тоже не цеплялся. Когда рассказывали, что Губкин систематически покорял то одну, то другую институтскую красавицу и даже (шепотом это говорили) имел продолжительный роман с самой Зинаидой Николаевной, Нестеров только добродушно усмехался в свои щеточкой подстриженные усы и собеседнику замечал, что на качестве работы на кафедре похождения товарища Губкина Ильи Ильича отрицательно не сказываются.
И еще у старшего лаборанта была дочь – девятилетняя полненькая, беленькая Маша, совершенно внешне непохожая на отца. У нее были тонкие, вьющиеся на висках волосы, разделенные на пробор и аккуратно заплетенные в две косы и уложенные над ушами в «корзинку». Удивительно, как рано эта девочка уже умела придавать томность взору. Казалось, ко всему она относится спокойно и дружелюбно, но одновременно у говоривших с ней появлялось впечатление, что ничто не может ее сильно взволновать. И как раз это выражение нежной рассеянности в ее выпуклых, очень светлых голубых глазах и придавало Машиному лицу вид более взрослый, почти девичий.
До войны летними месяцами Губкин часто брал Машу с собой на кафедру, никогда не отправляя ни в санатории, ни в пионерские лагеря. И тогда она с важным и безмятежным видом поливала в лаборантской цветы и пила за губкинским столом чай со свежей булочкой из фарфоровой, в крупных розах чашки. Чашку Маша очень аккуратно ставила на блюдце своей пухленькой маленькой ручкой и также аккуратно поднимала, подносила к ярким губам, чуть отставив в сторону пальчик. И тогда напоминала Нестерову молоденькую купчиху, с удобством расположившуюся за самоваром.
– Кто же помогает вам ухаживать за вашей Машей? – спросил как-то Нестеров, наблюдая, как ловко Губкин укладывает в сверток какие-то детские вещи.
– Мы с Марией Ильиничной сами отлично справляемся. Никто нам не нужен. – Илья Ильич умело поправил коричневые шелковые банты в Машиных волосах. Та благодарно улыбнулась отцу, трогая ручкой светлые косы.
– Мы живем вдвоем – дочь и я.
– И еще наш кот. Рыжик! – доверительно и безупречно попадая в тон отцу сообщила Нестерову Маша.
– Вам, наверное, весело с ним. – Сам стараясь казаться веселым, предположил Нестеров.
– Да, неплохо, – подтвердил Губкин.
– А у нас в картофелехранилище тоже живет кот. Он совершенно черный. – Бездетный Нестеров испытывал странное чувство, когда разговаривал с детьми.
– Ему же там холодно, – предположила Маша, но в голубых ее глазах не отразилось больше ничего.
– Он там на работе. Мышей ловит, – уточнил Илья Ильич и взял у дочери пустую чашку. – Если ты допила – пойдем.
– До свидания! – сделала ручкой Маша Нестерову.
– Мое почтение, – тот вежливо поклонился в ответ.
– Надеюсь, набоковского носочка у тебя не будет?
Ната не заметила, как Димка вышел из ванной и встал у нее за спиной с полотенцем на шее.
– Не будет. Это у меня не про Лолиту.
– Ну, слава богу. Теперь засну спокойно! – съехидничал муж. – С другой стороны – может, и зря. Педофилия – это модно. – Он бросил полотенце на спинку стула. – А Темка так и не позвонил?
– Нет, – Ната уже с тревогой взглянула на часы. – Почти двенадцать. – Она взяла в руки свой телефон. И тут раздался звонок – знакомая мелодия на мужнином айфоне.
– Он. – Димка нажал кнопку ответа. – Тем? Ты где пропадаешь?
Потом Димка вдруг вышел в коридор, Ната подождала немного и тоже вышла за ним, но муж отвернулся так, чтобы она не могла разобрать слов. Сын долго говорил, а муж слушал.
– Что случилось? – Ната уже подскочила к мужу, схватилась за его руку, пытаясь повернуть ее к себе вместе с телефоном, но муж не давал. Ната только ощутила, как затвердели вдруг его мышцы на плече.
Наконец Димка сказал:
– Ты сам-то в порядке?
В черную пустоту улетел куда-то рассказ. Илья Ильич, Нестеров, Маша, оба кота и Прасковья Степановна вдруг завертелись в круговороте возникшей тревоги и вихрем вылетели из Натиной головы.
– Дим! Что случилось?
Муж опустил телефон, повернулся к Нате и сказал:
– Темка попал в ДТП. Говорит, что машина разбита, но он вроде не виноват. Ждет гаишников.
– Он жив?
– А кто это, по-твоему, говорит? – Димка смотрел на нее свирепо, но быстро смягчился: – Жив. И даже вроде адекватен.
Ната выхватила телефон:
– Тема! Мы сейчас с папой приедем! Ты только никуда не уходи!
– Куда я уйду?! – Голос у сына был раздраженный, но и виноватый. – Я тут уже второй час сижу, гаишники все не едут. – Он вдруг заговорил тоном повыше, как маленький: – Мам! Если вы приедете, захватите с собой деньги. Эвакуатор придется вызывать…
– Господи, конечно, возьмем. Ты лучше скажи – ты сам не пострадал?
Темка будто замялся.
– Вроде нет. Я вообще ничего не помню. Слышал удар только – и все… Мам, я даже не видел, откуда он выскочил!
Дима отобрал у нее телефон.
– Тема, вторая машина какая?
Ната уже рылась в своей сумке, доставая кошелек.
– Дим, собирайся!
Муж включил теперь громкую связь, и она хорошо слышала, как сын сказал:
– Пап, ты маму с собой не бери. Она расстроится…
Муж ответил:
– Ладно, решим, – и отключился. И тут сразу вспомнил: – У меня же колесо спустило.
Ната спросила:
– Это далеко?
– Прилично.
– Возьми такси. Еще не хватало, чтобы вы там застряли ночью.
Димка прошелся в раздумье в кухню и обратно.
– Нет. Заеду в шиномонтаж. Если гаишники приедут, пускай Артем с ними сам и начинает. Получит опыт. Это у него в первый раз. Как с девушкой.
Ната поморщилась.
– Фу!! Давай иди уже!
Муж взял у нее деньги, накинул куртку, и Ната увидела, как за ним захлопнулась дверь.
Жалко машину. Ната снова села за стол, потерла лицо. Ладно, хоть Тема не пострадал. Выплатят ли страховку? Нужно было ей для надежности ехать с ним! Она вздохнула. Оба бы озлились, что она вмешивается в мужские дела. С другой стороны, пускай хоть по этому поводу пообщаются, а то «Как дела?» – «Нормально». И разошлись по комнатам. Один в Фейсбуке, другой в Инстаграме. Что ж… ей остается только ждать. На чем она остановилась? Ага, на Губкине.
В картофелехранилище температура поддерживалась даже более стабильно, чем во всем институте. Когда угля не хватало, некоторые помещения учебного корпуса отключали от котельной. В подвале же и в мирное время всегда было прохладно – не меньше плюс единицы, не больше плюс трех. Теперь же, во избежание сбоев и поломок, температуру держали плюс три – плюс четыре. А вот верхнего света теперь в подвале не было вообще. Пользовались керосиновыми лампами и свечами. Нестеров приходил, когда уже было темно, ставил зажженную свечу в банку и при ее колеблющемся свете надевал чистую телогрейку, поверх синие нарукавники, сатиновый фартук и шерстяные перчатки со специальными хлопковыми нашивками на пальцах, чтобы можно было отпарывать и стирать. Такую конструкцию придумала Прасковья Степановна, сама связала и сшила. Такие же, только другого цвета, подарила она и Илье Ильичу. Губкин приходил чуть позже, зажигал керосиновый фонарь, и они приступали к работе.







