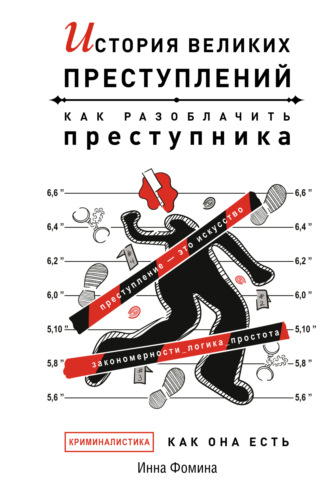
Инна Фомина
История великих преступлений. Как разоблачить преступника
Глава 3
Рождение криминалистики
Можно сказать, что появление криминалистики было обусловлено множеством знаний, накопленных на практике.
До сих пор именно благодаря практическим навыкам появляются новые теоретические разработки и проводятся исследования. Например, на практике появляется какой-то новый способ совершения мошенничества, значит, его нужно изучить, проанализировать и дать рекомендации, касающиеся расследования мошенничества с использованием именно этого способа. Именно практическое изучение преступников, совершающих определенный вид преступления, позволяет выделить наиболее характерные статистически значимые характеристики и дать рекомендации не только по установлению личности подозреваемого (на основе анализа предыдущих аналогичных преступлений), но и выбору наиболее действенных профилактических мероприятий. Согласитесь, то, что сработает по отношению к лицу, которое первый раз совершило преступление и совершило его неумышленно, вряд ли подействует на рецидивиста или маньяка.
Ганс Гросс стал тем, кто обобщил весь накопленный практический опыт и существующие криминалистические знания (рекомендации) и дал название зародившейся науке.
Он не разработал и не ввел что-то совершенно новое.
Он не изобретал колесо, он просто назвал колесо колесом и сделал это вовремя. Ведь практика расследования преступлений стара как мир, как и сама преступность и преступная деятельность.
Вам знакомо слово «следопыт»? Это прототип сыщика, детектива, он двигался по следам, читал их, находил нужную вещь/человека. А ведь следопыты были даже в первобытном обществе, задолго до образования первых государств.
И если вы меня спросите, что такое криминалистика, то ответ будет простым – это наука о расследовании преступлений.
Любопытно, что во многих зарубежных странах криминалистика так и осталась «придатком» уголовного права, а в некоторых – частью полицейской техники. Это значит, что там не изучается и не разрабатывается методология криминалистики как науки. Изучение ограничивается разработкой и внедрением новейших технических средств для работы со следами и только. В нашей стране криминалистика – это наука, хотя и прикладная.
Криминалистика и сосредоточенные в ней знания просты и логичны. Они возникли именно для практического применения.
Криминалистика часто опирается на другие науки и многое заимствует даже без модернизации и подстройки под себя?
На лекции по методам криминалистики, когда речь заходит об их классификациях, мой рассказ начинается с самой распространенной и известной из них. Методы криминалистики подразделяются на три большие группы: диалектико-материалистический метод (всеобщий метод познания мира), конкретизированный под предмет криминалистики; общенаучные методы криминалистики (чувственно-рациональные, математические, формально-логические); специальные методы криминалистики, которые подразделяются на собственно криминалистические (разработаны криминалистической наукой) и специальные методы других наук (заимствованы и применяются как есть; заимствованы и преобразованы под нужды криминалистики).
А еще криминалистика, как я отметила выше, очень логичная наука.
Я всегда говорю: если вы обнаружили труп с ножевым ранением, то орудие явно не пистолет. Логично же? Соответственно, если подробно изучить следовую картину на месте преступления, то можно выдвинуть версии и о способе совершения преступления, и о последовательности действий, и об используемом орудии, и о количестве преступников, их профессионализме.
В криминалистике есть такое понятие как «крест следов» – оно отражает всю сущность криминалистической логики. Представьте квадрат, в каждом из углов этого квадрата по одному элементу: преступник, жертва (предмет преступного посягательства), место и орудие.

Каждый из этих элементов всегда есть в преступной деятельности и каждый из них оставляет след от взаимодействия друг с другом. Этот след объективно образуется благодаря взаимному контакту и используется для восстановления картины произошедшего – воссоздания по следам. Расследование – это ретроспектива, необходимая, чтобы восстановить события прошлого путем познания следовой картины.
Человек – существо предсказуемое, и в преступной деятельности тоже. И если уж он пошел на преступление, то выбираемый им способ будет наиболее комфортным для него, то, что он знает, к чему привык. Преступление само по себе – это риск, так зачем рисковать сильнее, используя новый способ. Вдруг он не принесет желаемого результата? А ведь преступник желает этого всей душой… Именно поэтому, чем дольше орудует маньяк или серийный убийца (эти два термина – не одно и то же – и мы с вами еще поговорим об их различиях), тем его действия более отточены. Сыщики могут наблюдать, как он эволюционирует, как доводит до идеала технику и мастерство.
Да, как бы ужасно это ни звучало, убийство – это искусство.
Конечно, я не имею ввиду бытовые убийства, когда на кухне по пьяной лавочке один убил другого, так как тот не поддержал его задушевно выкрикнутое: «за … (слово подставьте сами)!». Много ума для этого не надо.
Речь идет о тех случаях, когда убийство становится смыслом жизни и способом достижения желаемого (мы с вами еще поговорим об этом).
Именно тогда преступник идет на многое, чтобы достичь желаемого совершенства, оттачивает свое «мастерство». Это, кстати, касается и других видов преступных деяний, будь то, например, кража, мошенничество или шпионаж. Так вот, такая логичная, объективная (да, именно объективная) связь – одна из основ криминалистических знаний.
Относительная простота и доступность, определенная универсальность знаний, на которых основаны выводы, делает криминалистику одной из немногих максимально приближенных к практике и доступной для понимания людьми без специального образования.
Именно поэтому для обывателя ответ на вопрос «что такое криминалистика?» звучит так: это наука о расследовании преступлений. И этот ответ будет самым нужным и правильным.
Но мы то с вами хотим все же докопаться до сути, поэтому давайте не будем ограничиваться простым, а копнем немного глубже.
Итак, вернемся к Гансу Гроссу.
Он родился 26 декабря 1847 года в семье военного и, соответственно, воспитывался в строгости. Гимназия, в которой учился Ганс, славилась муштрой, аскетизмом и строгим религиозным подходом к воспитанию, но именно благодаря этому у Гросса появились определенные качества, которые помогли ему в дальнейшей профессиональной деятельности. После окончания университета Гросс пошел работать в полицию следователем.
Именно в этот период история криминалистики могла похвастать научными разработками и новациями. Был совершен большой прорыв во всех сферах: именно тогда появилась дагерротипия, бертильонаж, сигналистическая и метрическая фотосъемки, словесный портрет, дактилоскопия и многое другое.
Да, это был век открытий… и для криминалистики тоже.
1839 год. Французский художник и изобретатель Луи Жак Манде Дагер получил и зафиксировал на покрытой парами йода и брома полированной металлической пластине (потом в производстве чаще использовалась медь, реже латунь и серебро) изображение – «дагерротип», которое было продемонстрировано на лекции во Французской академии наук и произвело настоящий фурор. Правительство сразу же приобрело права на эту технологию, ведь это был первый рабочий и коммерчески пригодный способ получения фотоснимков. В 1843 году в Бельгии сделали первую фотографию преступника.
Хотя снимки и принесли огромную пользу полиции в плане идентификации преступников, сами по себе они не могли однозначно установить чью-либо личность, поэтому в конце XIX века появились две важные системы идентификации, которые, как надеялись правоохранительные органы, помогут установить личность – это снятие отпечатков пальцев и метод Бертильона.
1883 год. Альфонс Бертильон разработал систему для идентификации человека по его антропометрическим данным, которая потом получила название бертильонаж. Альфонс Бертильон начал свою карьеру в парижской полиции в качестве клерка. Уже тогда его потрясло состояние делопроизводства и отсутствие надежных систем идентификации преступников, поэтому он разработал систему, которая, как он надеялся, решит все проблемы. Фактически это был первый метод биометрического распознавания. Бертильон внимательно проанализировал внешний облик человека и изобрел способ для точного измерения тела (одиннадцать показателей) с помощью специально разработанного для этой процедуры оборудования и занесением параметров в карточки. Процедура была основана на следующих предположениях: размеры тела человека остаются практически неизменными после достижения 20-летнего возраста; по мере увеличения количества правильно снятых с тела мерок риск путаницы снижался; измеряя и регистрируя части тела, можно без сомнения идентифицировать человека. Система, разработанная Бертильоном, основывалась на подтвержденных фактах, свидетельствовавших о том, что люди различаются по своим физическим размерам. Эти «разговорные портреты» позволили полиции задерживать подозреваемых на основе конкретных физических характеристик.
1892 год. Дактилоскопия. Существуют записи о том, что отпечатки пальцев снимали еще много веков назад и использовали в различных целях. Так, в древнем Вавилоне оставляли отпечатки пальцев на глиняных табличках в подтверждении заключенных сделок. В Китае использовали отпечатки пальцев, сделанные чернилами на бумаге, для торговли и идентификации своих детей. Однако вплоть до XIX века отпечатки пальцев никогда не использовались в качестве метода идентификации преступников.
Впервые это произошло в 1858 году, и данное событие связано с именем сэра Уильяма Гершеля. В то время он работал в Индии и заметил, что рабочие выдавали себя за разных людей, чтобы повторно получить жалование. Тогда он предложил работникам оставлять отпечатки пальцев в момент получения денежных средств и заметил, что все они разные. Несколько лет спустя шотландский врач Генри Фолдс, работая в Японии, обнаружил отпечатки пальцев, оставленные художниками на древних кусках глины, и они тоже были разными. Это открытие вдохновило его начать исследование отпечатков пальцев.
1880 год. Генри Фолдс в письме просил своего двоюродного брата, знаменитого натуралиста Чарльза Дарвина, помочь разработать систему классификации отпечатков пальцев. Дарвин отказался, но переслал письмо своему двоюродному брату, сэру Фрэнсису Гальтону, который в тот период был увлечен евгеникой и собирал данные о людях по всему миру, чтобы определить, какие черты наследуются из поколения в поколение. Он начал собирать отпечатки пальцев, и в итоге у него набралось около 8000 различных образцов для анализа.
1892 год. Фрэнсис Гальтон опубликовал книгу под названием «Отпечатки пальцев», в которой изложил систему их классификации, которая существует до сих пор. Система была построена на шаблонах из арок, петель и завитков в папиллярных узорах. В 1901 году в Скотланд-Ярде создали первое бюро по отпечаткам пальцев. В следующем году отпечатки пальцев впервые представили в качестве доказательства вины в английском суде. В России дактилоскопию стали применять с 1906 года – тогда была введена система регистрации преступников, и первые годы шло лишь накопление базы отпечатков.
Весьма интересно, что до сих пор нет единого мнения относительно того, кто в криминалистике ввел процедуру индентификации людей по отпечаткам пальцев. Традиционно называют три фамилии, и мы их уже знаем, – это Гершель, Фолдс и Гальтон. Однако в этом направлении параллельно работали и другие исследователи, примечательно, что все они практически одновременно пришли к единому мнению.
Так, примерно в то же время в Аргентине Хуан Вучетич, офицер главного управления полиции Буэнос-Айреса, разрабатывал собственный вариант системы снятия отпечатков пальцев. В 1892 году Вучетича попросили помочь в расследовании убийства двух мальчиков в Некочеа, деревне недалеко от Буэнос-Айреса. Первоначально подозрение пало на человека по имени Веласкес (он был любовником матери мальчиков). Но когда Вучетич сравнил отпечатки пальцев, найденные на месте убийства, с отпечатками Веласкеса и Франциски Рохас, матери мальчиков, то они в точности совпали с ее отпечатками. Она призналась в преступлении. Это был первый случай, когда отпечатки пальцев использовали в уголовном расследовании. Вучетич назвал свою систему сравнительной дактилоскопией.
Примечательно, что подобные прорывы в науке имели место и до XIX века.
Так, например, еще в 1247 году Сун Цы в своем «Собрании отчетов о снятии несправедливых обвинений» (по сути, это первый труд по судебной медицине, хотя многие считают таковым работы французского хирурга Амбруаза Паре, жившего в XVI веке) систематизировал все свои наблюдения и дал рекомендации на основе личного многолетнего опыта по расследованию уголовных дел. Он описал методику осмотра трупа, всех обнаруженных повреждений с указанием их формы и размера, и характер трупных изменений. Суе Цы рекомендовал начинать осмотр с головы – это правило, которого придерживаются и сейчас. Осмотр проводят сверху вниз, от головы к ногам, переходя от общего к частному (описывают позу трупа, голову, потом лицо, тело, общее положение рук и ног, затем имеющиеся повреждения). Существуют правила осмотра места происшествия и тактика опроса свидетелей на месте, рекомендации по производству экспертизы и установлению причины смерти.
И именно тогда, в XIX веке, в самом начале своей следственной работы, юный Хуан стал замечать, что полиция работает не так продуктивно, как могла бы. Действия полицейских хаотичны, разобщены, непоследовательны и очень часто не отличаются особой логичностью – в них нет научной основы.
Начало XIX века. Шотландия.
Эдинбург стал одним из ведущих европейских центров анатомических исследований, наряду с Лейденом в Нидерландах и Падуей в Италии. Преподавание анатомии – важнейшее условие изучения хирургии – требовало достаточного количества трупов, «спрос» на которые возрастал по мере того, как развивалась наука. Шотландский закон определил, что подходящими трупами для вскрытия могут быть тела тех, кто умер в тюрьме, покончил жизнь самоубийством, а также тела подкидышей и сирот. С ростом престижа и популярности медицинского образования спрос на трупы для вскрытия заметно превышал «законные» предложения. Студенты, преподаватели и расхитители могил (также их называли «воскресители») начали незаконную торговлю эксгумированными трупами. Цена за труп менялась в зависимости от сезона: 8 фунтов стерлингов летом, когда высокие температуры приводили к более быстрому разложению, и 10 фунтов стерлингов в зимние месяцы, когда спрос со стороны анатомов был выше, потому что при низких температурах трупы могли храниться дольше, а значит, проводилось больше вскрытий.
В 1820 году ситуация стала критической, и жители Эдинбурга вышли на улицы в знак протеста против участившихся случаев ограбления могил. Чтобы избежать вскрытия, семьи погибших использовали несколько методов для отпугивания воров: они нанимали охранников для могил или изготавливали большую каменную плиту, которую можно было положить на могилу (кстати, именно оттуда пошла традиция ставить на могилы гранитные плиты), другие семьи заключали гроб в железную клетку. Бдительность со стороны общественности и методы, используемые для сдерживания расхитителей могил, привели к тому, что возникла нехватка трупов для вскрытия.
И вот тогда на сцену вышли Уильям Берк и Уильям Хэйер. Они стали убивать случайных прохожих и продавать их трупы для вскрытия на лекциях по анатомии. За 10 месяцев 1828 года они совершили шестнадцать убийств. И несмотря на собранные доказательства (одним из которых был обнаруженный под кроватью труп последней жертвы) и показания свидетелей, полиция не смогла доказать их вину и была вынуждена пойти на сделку с Хэйером, чтобы заполучить его показания в обмен на иммунитет. В итоге за все расплатился Берк. Утром 28 января 1829 года перед толпой из 25 000 человек его повесили. Места на эту казнь продавали жители ближайших домов, из окон которых открывался вид на эшафот, по цене от 5 до 20 фунтов стерлингов.
1 февраля труп Берка был публично вскрыт профессором Монро в анатомическом театре Старого колледжа университета.
Одним словом, на дворе был XIX век, а многие из полицейских все еще работали, используя средневековые методы, интуитивно, то есть так, как им казалось правильнее. Причем это «правильно» не содержало под собой никакой научной основы: большинство сотрудников полиции в те времена являлись выходцами из низших военных чинов, без особого образования и навыков.
Именно тогда Ганс Гросс все свое время стал посвящать чтению литературы, описывающей случаи успешных расследований, поиска и установления преступников, содержавшей сведения о применяемых методах и средствах. По крупицам он вычленял полезные сведения. Причем он всегда обращал внимание на то, в чем заключалась суть успеха в каждом из дел. Он пришел к выводу, что это не было банальным везением или удачным стечением обстоятельств, а научно обоснованным (в соответствии со временем и уровнем развития науки) примером достижения желаемого результата. И тут Гросс стал замечать, что таких примеров довольно много – во все времена были светлые умы, которые не просто угадывали результат или им везло, в основе их выводов лежала наука.
Например, Архимед Сиракузский. По мнению историков, он был первым в античном мире человеком, который использовал науку для раскрытия преступления.
Помните знаменитое восклицание Архимеда «Эврика!»?
Это был как раз тот случай.
Царь Гиерон II пообещал богам поместить в один из построенных для них храмов золотую корону (венец) и для этих целей выделил мастеру 8 килограммов золота. Однако, когда корона была готова, злые языки донесли, что часть золота для короны мастер заменил серебром и забрал себе излишки. Сей факт очень разозлил Гиерона, но чтобы не пороть горячку, правитель, который покровительствовал Архимеду, решил поручить ему разобраться в этом щекотливом деле. Что Архимед и сделал. Это был положительный пример того, как знания законов физики и их применение помогли пытливому уму докопаться до сути. В итоге Архимед доказал, что мастер украл 3 кг золота.
Именно Гансу Гроссу принадлежат слова: «самое простое – всегда самое верное»[1], принцип, которым пронизаны все криминалистические знания и криминалистика в целом.
Кстати, для российской криминалистики XIX век тоже не прошел бесследно. Просто в нашей стране ее развитие шло по-другому, отличному от европейского, пути.
В России больше внимания уделялось теоретической составляющей (благодаря наличию научно-технической базы), и наука рассматривалась через призму оказания помощи при расследовании. Одной из составляющих криминалистических знаний того времени были исследования в области судебной медицины (проведение вскрытия для установления причины смерти) и химии (исследования отравлений, подделки монет и письменных документов).
Только не подумайте, что все было так просто: насобирали отовсюду естественно-научных знаний и… готова наука.
Не все так однозначно.
Дело в том, что сами по себе знания в области медицины и химии, математики и физики никогда и никаким образом не связывали с преступной деятельностью или, собственно, криминалистической деятельностью, однако их применение полезно при расследовании.
Например, для понимания механизма следообразования нам нужно знать о природе объектов, которые могут вступить во взаимодействие и образовать именно такой след (резаная рана означает, что ее источник какой-то режущий предмет).
А значит, необходимо было собрать все самые актуальные знания, которые в теории можно применить на практике при раскрытии и расследовании преступлений, то есть собрать и объединить, руководствуясь единой целью – «помочь в борьбе с преступностью». Кстати, именно поэтому очень многие ученые по всему миру считают криминалистику не чисто юридической наукой. Говорят, что у нее двойственная природа: естественно-техническая и юридическая – и с этим трудно не согласиться.
И именно поэтому во многих западных странах криминалистика носит больше естественно-технический характер.
В США, например, криминалистика рассматривается в связке с криминологией, где последняя – превентивная наука, связанная с изучением и предотвращением преступлений, а первая изучает все, что связанно с вещественными доказательствами с места происшествия (их выявление, фиксация, хранение, перемещение, анализ и др.).
Но вернемся к Гроссу и его научному прорыву.
Что советовал Ганс Гросс?
«Если, например, свидетель утверждает, что расстояние составляло около 500 шагов, то ему предлагают указать какое-нибудь расстояние, равняющееся, по его мнению, пятистам шагам, а затем это расстояние измеряют. Если свидетель говорит, что видел у Н в руке 10 монет, надо взять в руку несколько монет и предложить свидетелю определить на глаз их число, а затем пересчитать. Подобным же образом можно действовать, если свидетель показывает, что он слышал крик с правой стороны, что промежуток времени равнялся десяти минутам, что он узнает всякого человека, с которым хоть раз встречался, и так далее…»[2].
Согласитесь, все по-научному просто и обоснованно, а это главное.
Именно такая простота и есть фундамент расследования, а значит, основа криминалистики.
Мы любим криминалистику именно потому, что ее понимаем.
Конечно, всегда существуют детали. И мой упрощенный подход к пониманию криминалистики может вызвать у кого-то бурю негодования: ну как же так! Криминалистика – это же все-таки наука. Наука со своим предметом, задачами и методологией!
Так и есть. Более того, почему же тогда, если все так просто и очевидно, термин «криминалистика» и сама наука появились только в конце XIX века? Если природа криминалистики – это расследование преступлений, а само преступление старо как мир, почему же так поздно?
Возможно, именно из-за простоты знаний и специфичности используемых методов. Но это далеко не все.
Давайте вспомним, что мы знаем о том времени. Чем запомнился XIX век?
В первую очередь, стремительным развитием и ростом во всех сферах: завершение промышленных революций (или Великая индустриальная революция), переход от ручного труда к машинному и, разумеется, колоссальный скачок в развитии науки и техники.
А вы знаете, что кремневый револьвер, массовое производство капсюльных револьверов (кольт), широкое распространение многоствольных дульнозарядных пистолетов («перечницы»), совершенствование винтовки, штуцеры (нарезное дульнозарядное ружье) с двумя нарезами, пули Минье, Притчетт и компрессионные (сжимающиеся) пули, появление скорострельного нарезного оружия и винтовок Дрейзе, Энфилд, магазинной многозарядной винтовки Спенсера, морской мины с электрическим взрывателем, получение патента на динамит, пулемет Гатлинга и изобретение первого пулемета, который работал от энергии выстрела, а не от внешнего привода, а еще подводные лодки, двигатель внутреннего сгорания, самолет, танкер, торпеда, телефон, радио, дизельный двигатель, периодический закон Менделеева и многое, многое другое – случилось в XIX веке.
И преступность в своем развитии тоже не стояла на месте, а преступники пользовались всеми благами научно-технического прогресса того времени. Кроме того, логично предположить, раз были гениальные изобретатели, то в преступном мире тоже были свои гении.
Конечно, преступление старо как мир, и гениальные преступления были за долго до. Но тут все сошлось: прогресс и гениальный преступный ум.
Именно в XIX веке было совершено первое ограбление банка. Нет, банки существовали и раньше (банковское дело появилось еще до нашей эры), и их тоже грабили.
Кстати, первый задокументированный случай кражи из банка датируется 1798 годом, когда грабители ночью обчистили хранилище банка Пенсильвании.
Но вот первое открытое ограбление банка (вооруженные грабители среди бела дня ворвались в банк) произошло именно тогда, в XIX веке. Споры ведутся лишь о конкретной дате. Так, одни исследователи считают, что это случилось 19 марта 1831 года, в США, и было делом рук эмигранта из Англии Эдварда Смита и двух его подельников Джеймса Ханеймэна и Уильяма Джеймса Мюррея.
Но из-за неточности и отсутствия ряда деталей в описании обстоятельств произошедшего другие исследователи с этим не согласны, мотивируя тем, что нельзя исключать – грабители воспользовались дубликатом ключей и опустошили хранилище все же не в рабочее время и в другой день.
Первым же бесспорным открытым вооруженным ограблением банка следует считать случай 15 декабря 1863 года, когда ограбили банк в городе Молден, штат Массачусетс, при этом был застрелен бухгалтер.
Вообще, в тот период времени на Западе и в России совершалось много преступлений, как бытовых, так и политических, с использованием огнестрельного оружия.
Яркий пример – дело Веры Засулич, за которое своей должностью и карьерой поплатился Анатолий Кони, и которое он довольно подробно описал в своих воспоминаниях[3].
1875 год. В государственных кругах стали обсуждать вопрос о возврате телесных наказаний и применение их к политическим преступниками. Сначала речь шла о битье розгами осужденных за дисциплинарные проступки, а в 1877 году уже «рекомендовалось подвергать вместо уголовного взыскания политических преступников телесному наказанию без различия пола». Эта мера должна была отрезвить молодежь и показать, что на нее смотрят как на сборище школьников, но не серьезных деятелей, а стыд, сопряженный с сечением, должен был удержать многих от участия в пропаганде[4]. Но эти меры так и остались на уровне обсуждения. Никакого документа так и не приняли. Более того, сенат по уголовному кассационному департаменту разъяснил, что телесному наказанию подлежат лишь приговоренные к каторге по прибытии на место отбытия наказания или в пути, а значит, сечь розгами вне этих условий нельзя. Несмотря на это, 13 июля 1877 года по приказу петербургского обер-полицмейстера и градоначальника Трепова был высечен Боголюбов (псевдоним рабочего Архипа Степановича Емельянова, арестованного по делу о демонстрации на Казанской площади в Петербурге). Причиной послужило то, что Емельянов в доме предварительного заключения, когда повторно проходил мимо Трепова, поравнявшись с ним, не снял шапку. Этот инцидент вызвал бурю недовольств, как у арестантов, так и революционеров на воле. И не только потому, что это был случай вопиющего беззакония, а еще и потому, что почти все чиновники поддержали Трепова. Так, Константин Иванович Пален (граф, министр юстиции) в ответ на разговоры о том, что поступок градоначальника повлек бунты, говорил: «Ах! Ну что же из этого? Надо послать пожарную трубу и обливать этих девок холодной водой, а если беспорядки будут продолжаться, то по всей этой дряни надо стрелять!». Вера Засулич была одной из тех, кто, узнав из газет и рассказов знакомых, решилась отомстить за Боголюбова. 24 января 1978 год она выстрелила в Трепова из револьвера, за что и была арестована. Уже 31 марта состоялся суд, а из материалов дела странным образом исчезло все, что могло говорить об этом преступлении как о политическом. Дело Засулич рассматривалось как дело личной мести, и только благодаря блистательной речи ее защитника, бывшего прокурора судебной палаты Петра Акимовича Александрова, Вера была оправдана.


