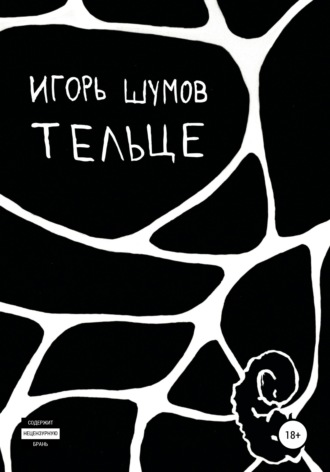
Игорь Шумов
Тельце
7.
Слова Саши не выходили у меня из головы. Я чувствовал себя униженным и раздавленным. Не хотелось верить в то, что человек за одно знакомство не только вытащил то, что усердно скрывалось, но еще из глубин достал неизвестные мне залежи. И предложение странное. «Операция», «процедура», «действие»… Какая к черту операция? Ожидая такси, я не мог понять, то ли меня технично развели и отправили на встречу к сумасшедшему, либо он достаточно тронутый, чтобы называться профессионалом? В номере мне было не по себе, и до самой поздней ночи я не мог успокоиться. Ощущение такое, будто тупым ножом голову вскрыли и все узнали обо мне, прочитали то, о чем я даже думать не мог, написали на коже ржавой спицей будущее и отпустили мучаться. Его слова были острыми, задели за живое, а значит, честными.
Смириться и поверить… Признать в себе проблему… Ну уж нет, я был выше этого, и слова какого-то фрика не переубедят меня. Нельзя позволить ложным сомнениям и лишними раздумьям испортить выходные. Сытно позавтракал, умылся, обменялся злобными взглядами сначала с администратором, а потом с соседями-молодоженами. Собираясь на прогулку, я думал о том, как бы им подпортить день, как правильно нагрубить и задеть. Сделать все, чтобы они пожалели о знакомстве со мной, искупить обиду. Проскочила мысль – может быть, Саша действительно прав? Резко откинул, закурил ее, себе бы хуже было.
На протяжении всего дня происходили очень странные вещи. Первое, что мне удалось заметить сквозь толстый след льда в рыбных прорубях, было то, как река текла в другую сторону. Я подошел к рыбаку и спросил, как это возможно. Тот лениво пробормотал, что мне это все кажется. Его голос показался знакомым, похожим на… Сашин. «Что за безобразие?!» – вскрикнул я. Как много бесценного времени в моей жизни уходит на такого мелкого и низкого, буквально и в переносном смысле, человека? Затем я бродил вдоль кварталов, обшарпанных кварталов, и птицы не сходили с моего пути. Одному голубю я даже придавил крыло, но ничего, как ни в чем не бывало потопал дальше. Деревья шумели в два раза громче, люди говорили в два раза злее, смех казался неуместным. Я пытался поговорить с женой, но она не стала со мной церемониться, была занята. Что мне навязываться, я отдыхал от работы, она отдыхала от меня.
Но чем ниже было солнце, тем больше странностей происходило вокруг. Вывески на домах отключались при моем появлении, люди отворачивались от моих взглядов. Посмотрели, отвернулись, ускорили шаг, посмотрели за плечо и исчезали. Что страшного во мне? Не знаю, и знать не хотел. Дети разбегались, если я появлялся рядом, старухи будто бы дьявола во мне выглядывали. Ко мне подошел мужчина, один-единственный бесстрашный, и попросил сигарету. Я протянул ему пачку и обомлел. Я увидел Сашу. Проморгал, протер глаза, снова обыкновенный незнакомец. Саша на голову ниже, это точно помню. Побрел дальше, по музеям, по красивым местам, а все не в радость. Места недружелюбно встречали, повсюду мне были не рады. Наверное, во мне виделось московское, в походке, речи и взгляде.
Это заставляло меня волноваться. Неужели я, человек стабильного взгляда и чистой совести, не признаю себя? Мне никогда не казалось, что со мной что-то нет так. Разве только легкая замкнутость и скромность проявлялись, но что в этом такого? У кого ее нет или не было? Однако, когда люди вокруг оборачивались, я пытался держаться спокойно, выпрямлял спину, но при первой же возможности прятался за угол и рассматривал себя: не наступил ли я на говно, нет ли грязи на моей одежде, не торчит ли из носа сопля. Выгляжу ли я уместно, в конце концов. Но иной раз убедившись, что выгляжу опрятно и свежо, мимоходом прохожий опять с упреком осматривал меня и повторялось все сначала: осмотрелся, очистился, вздыхал, и далее. Суть-то в чем – откуда такое внимание к моей фигуре? Деревья заносило снегом, а вместе с ними и меня. Приятно было рядом с ними.
Нельзя назвать мастерством то, как раскрыл меня Саша. Подобное я и с Лизой сотворял, не сложное ведь дело. Сколько в себе она не закапывалась, на каждую яму найдется крепкая лопата и длинный нос. Любой человек, который играет в слушателя, рано или поздно сорвется, и потом его хрен заткнешь. Вот и мы как-то сидели, пили пиво, и я взял на себя лишнего и раскрыл ей свою теорию. Формировалась она долго, но уверенно, без лишних «а что, если…» и «наверное». Я сел рядом с Лизой и через барный гул сказал, как это вижу:
– Тебе отношения твои не в радость. От слова совсем. Тебе нравится человек, и возможно, если такая штука как любовь существует, то ты испытываешь это к нему. Но то будущее, что ты от него хочешь, поверь мне, ты не получишь. Поразительно еще то, что ты не ждешь того, что ты хочешь. А ждешь ты тотальную деспотию. Тебя ждет участь жены офицера, с места на место, как багаж, только говорящий и вкусно пахнущий. Сказал муж твой: «пора», а ты ответила: «ладно». Ты боишься того, что это конец, тебя пугает такое предсказанное будущее; что все закончится вот так, развитие в никуда. Единственный навык, твой пи эйч ди ждет тебя в домашних делах, и тебе, Лиза, как современной женщине, это не нравится. Однако прикол в чем, и это самое смешное, что тебя это устраивает. А знаешь, почему? Потому что у тебя есть оправдание этому. Объяснение твое аморфности, повод поддаваться. Это любовь. Ну как ты можешь обмануть человека, да? Как ты можешь за него и с ним страдать? Человек, как по мне, замуровывает тебя в себе, а тебе ок. Потому что, блять, любовь. Если любовь – это перестать жить ради себя и начать жить ради другого, то любовь – это суицид. Все так просто? Это было бы слишком легко, считай, тебя избили, и ты простила. Но нет, нет, нет. Ты это понимаешь дальше меня и, как мужчина, как любое рациональное создание, планируешь запасной план. На случай, если все-таки твоя мечта останется мечтой. План прост: подготовить пути к выступлению. Ты никого не отшиваешь, о парне говоришь, только если руки начинают распускать или знаки внимания делать. Но. Ты. Никогда. Никогда! Не говоришь нет. И со многим этими людьми тебе хотелось бы быть, ведь ты человек. Тебе тоже нужно, чтобы тебя хотели, к тебе прикасались, тебя слушали, помогали. И лицом к лицу, сразу, по делу, без вот этой телефонной мастурбации или общения раз в неделю, если повезет. Рано или поздно тебе хватит сил уйти, предать и признаться себе в этом.
– Знаешь, – Лиза посмотрела на меня мутными глазами; вокруг стало тише, люди словно вслушивались в мои слова, – я никогда о таком не думала и такого не сделаю.
И я отрицал слова Саши, и до сих пор признаться не могу себе в том, что доля правды в них была. Тут такое чувство, смешное в какой-то мере, что мне обидно и радостно; у кого-то получилось вскрыть и увидеть меня – это раз; он же расставил все по полочкам, пальцем указал в моих бесов, в мои страдания – это два; предложил сразу же и решение (глупое и несерьезное, но сам факт предложения помощи – я польщен) – это три. Неловко, неловко… Я, видимо, тот еще наглец, теперь со стороны вижу, как проявляется пассивная агрессия через насильную любовь. Хватаешь человека как кота за шкирку и тыкаешь в свои слабости. Думаешь, это от бескрайней человеческой красоты – любви, от переживаний, кричишь об этом громче некуда; злишься, если человек не терпит и сопротивляется, играешь с ним, все гадости и пакости его высасываешь. На самом-то деле никакой любви тут и нет, а только желание сделать то, на что раньше сил не было. А тут тебе на повод, любовь.
Снег сбрасывали в кучи, их покоряли дети. Я тонул в снегу, снег топил меня. Уборщик, один такой помельче, загляделся на меня по другую сторону дороги. Сквозь ураган невозможно было разобрать его лица. Черты прослеживались четко, скулы резали туман, снежинки боялись упасть ему на щеки. Я вновь увидел Сашу. Он смотрел на меня. Не знаю как, с презрением или злорадством. Щепил взглядом, заставлял его всем сердцем ненавидеть. Сквозь горы снега я протоптал себе путь к дороге и хотел было побежать к нему, но загорелся зеленый свет, и кучи машин перекрыли мне дорогу. Повезло. Будь я чуть быстрее, я был бы менее живой; не под небом, а под машиной. Екатеринбург – это магия. Это город, который живет в согласии со своими жителями, хорошо это или плохо. Если ты употребляешь, то город тебе поможет достать; творишь – будет позировать; пытаешься довести человека до нервного срыва через самобичевание и жестокую правду – да, он всегда на твоей стороне, составит бедолаге компанию по пути домой или в яму. Темные мысли, неприятные, душили меня, приятно.
Необходимо было отрубиться и забить, спасти свой отпуск и психику. По пути к отелю я зашел в «Пятерочку», прополз вдоль блевотно-зеленых стен в отдел блестящего стекла. Банка энергетика и небольшая бутылка водки. Не люблю такое, но отчаянные времена требует отчаянных действий. Костя не брал трубку, не отвечал на мои сообщения. Пришлось пить одному. Будний день, повсюду очередь, на выбор и на выход. Темные лица, закрытые пеленой, неизвестные, не манящие. Кроме одного, на кассе. Молодой человек, знакомое лицо. Я подошел к нему, пробил свои покупки. Он посмотрел на меня и попросил паспорт. Показал.
– Вы сильно изменились, – грубо сказал кассир.
– Быть такого не может, я же… – я посмотрел в паспорт и проглотил язык. Вместо моей головы, моего лица, ушей носа и глаз оказалось чужое. Лицо, профиль, губы, шрамы Саши. Бросив бутылки в карманы, я выбежал на улицу и закричал. Каждый волосок познал страх, мышцы лишились желания бороться. Разбираться, совпадение ли это или шизофрения, времени не было.
В номере все было чисто, даже слишком. Я сбросил с себя одежду, помылся и прыгнул в кресло. Стакан, на две трети энергетик, треть водки, глоток. Остается только ждать и пить. За окном пылали огни, маленькие смазанные точки напоминают о посаженном за компьютером зрении. Кто-то кричал, но я не слышал. За стеной молодожены не прекращали свой супружеский марафон, наверстывали упущенное, догоняли цель, перевыполняли план. Я пил, чтобы забыться, пил без радости и особого желания, с понятной мыслью – так надо. Проезжали машины, женщины накрывали головы руками. В Москве давно была ночь, а здесь небо светлее. Кресло больно упиралось в спину. Я рассматривал потолок, белый, опускающийся на меня. За окном опять мерцало. Один светлый огонек от всех отличался, молодец. Маленький, сигаретный. Пригляделся, а там мужчина стоит, смотрит мне в окно. Не в окно, в глаза. Зеркало разбил бы взгляд. Я пригляделся и вышел из себя, бросил бутылку об пол, осколки разлетелись по номеру. Я подбежал к куртке, аккуратно перепрыгивая через стекло и схватил телефон. Гудки.
– Зачем ты следишь за мной? – крикнул я в телефон.
Как я и думал, человек за окном опустил сигарету. В руках у него горел экран телефона.
– Зачем ты это делаешь?
– С чего ты взял что я слежу за тобой? – сказал Саша
– Хорошо, хорошо! Я согласен. Ты прав. Мне нужна помощь. Когда приступаем?
– Завтра.
– Стоп, а анализы? Я тут сижу, пью, это ок?
– Да, вполне.
После этих слов он бросил трубку, потушил сигарету и исчез в темноте. Я долго не мог уснуть и поверить в это. Сколько еще он преследовал бы меня? Утром он был бы мусорщиком, летом мойщиком окон, на Новый год ментом, а завтра меня могло бы и не быть.
8.
Саша прислал мне адрес – это оказался все тот же подвал. О какой операции может идти речь при такой антисанитарии? Я написал Костяу об этом, но тот все также игнорировал меня. Пути назад не было, пора было ложиться.
Внутри ничего не изменилось, только окурков стало больше. Стол, заставленный ранее аппаратом, опустел. Саша накрыл его одноразовой пеленкой. Значит, мне было суждено на нем лежать раздетым, значит, и открытым. Саша подвесил скотчем над столом лампочку. Сквозь редкие лучи солнца летала пыль. Я видел, как садятся кусочки, домашние комочки, жители квартир.
– Что стоишь? – спросил Саша, надевая на руки строительные перчатки. – Ложись давай.
– Саша, ты смеешься? Посмотри вокруг. Пол в грязи, ты в ботинках. Я, конечно, не врач, но не нужно им быть, чтобы понять, что так дела не делаются. Ты вообще психолог, а не хирург. Мы о таком не договаривались.
– Ты не доверяешь мне?
– Конечно.
– Тогда зачем ты согласился?
Ответов было множество, но ни один из них в конечном счете не сделал бы комнату чище и хоть чуточку подходящей для ожидающей меня процедуры, поэтому я не стал отвечать, а просто лег на стол. Свет кололся в глаза. Меня никогда раньше не резали.
– Мне, наверное, надо раздеться, – пробормотал я.
– Оставь, без разницы, – ответил Саша; он копался в столе, гремел железками, вытаскивал из ящика ножи.
– А этим ты меня…
– Нет, я просто перебираю вещи, – перебил меня Саша. – Ты если боишься, то не зря. Но тебе же хуже, тяжелее будет.
– Спасибо, что успокоил.
– Я тебя еще не успокоил, но сделаю, да. Ладно давай начнем. Клади голову на стол. Ты уколов боишься?
– Очень.
– Хорошо. На, возьми вот это под язык. Скажи «а-а-а-а». Не будешь? Ну, придется, куда деваться. Сейчас будет странно.
– Что ты имеешь в виду? – поинтересовался я; о чем я позже пожалел.
– Сначала тебя парализует. Чтобы ты лишнего не сделал, а потом отрубит. Все просто.
– Что-то вроде анестезии?
– Нет, анестезия нужна, чтобы тело и мозг выдержали, больно не было, а тебе больно будет, гарантирую. Приподними голову, вот так, – Саша достал из кармана нож и отрезал кусок черной ткани. – Скажешь, если туго будет. Видишь что?
– Нет.
– Увидишь. Приподними руку.
– Не могу. Я не могу. Все чувствую, знаю, вот там рука, вот там нога, но не могу.
– Это потому, что ты помнишь, что там нога, а там рука. И что есть вообще такие штуки, как ноги и руки. Некоторые вещи непоправимы. К счастью, это не одна из них.
– Что будет дальше?
– Да много чего. Погнали?
Саша был абсолютно прав. Я не мог сказать, что со мной происходит, ибо не мог говорить. Я не мог пошевелить ничем. Совсем. Сомневаюсь, что хоть что-то у меня было. Тело выпало, провалилось куда-то далеко-далеко, будто его вовсе никогда и не было. От огромного количества ощущений я начинал беспокоиться, но возникал вопрос «а зачем?». Волноваться было нечем. Что-то должно было произойти надо мной, ведь именно за этим я пришел сюда, в это прокуренное помещение, где вода не высыхает; где ветер продувает с двойной силой; где находиться неприятно. Все решилось в минуту. Я перестал находиться. Однако ощущения не пропали. Их основа, отчего начинается рост, может быть, и исчезло, но плоды никуда не делись. Они врастали в мою память, они терзали мои ощущения. Легкое пощипывание сменилось болью, боль – агонией, я начал кричать. Что могло происходить – многое, но наверняка сказать нельзя. Может, ничего и вовсе не происходило. Увы, легче от этого не становилось. Я мурыжил в себе муки, они настигали; прятался, бежал, спотыкался и был схвачен. Мозг, ведь это мозг? Мозг слова придумал, и он же их произносил. Слово не воробей, а шершень; зародилась во мне стая и решила взяться за меня, как в первый раз, чтобы далее не облажаться. Ох, какие муки! Адские муки! Боль, агония, пиздец. Наверное, я умирал. Так если бы умирал, я бы мчался к концу, я бы чувствовал его. Не было конца. Если бы я страдал, я хотел бы, чтобы это закончилось. Страдания не заканчивались. Топтались по мне, на меня плевали. Я сам первый в очереди стоял, точил камень, чтобы в грудь его воткнуть. Муки, боль, пытка. Оно закончилось вместе со мной.
Я сожалел о том, что думал раньше. Я обвинял себя в том, что сказал, и сказанное, вооружившись, вернулось с удвоенной силой, взяв в напарнике чужую обиду. Слишком много говорил, аж через чур и через край. Капли падают мне на лоб, вводят в меня в пытку, которую я как никто заслужил. Сколько зла было совершенно напрасно, и сколько удовольствия было получено от этого. Я пожалел обо всем и сразу. Жалость переросла в боль, а боли некуда расти, только вращиваться внутрь. Горело, все мое сущее горело, рвалось наружу, и, были б руки, я бы сам вытащил по частям, прожевал и выплюнул. Чувство шло к уничтожению, уничтожению себя.
Слава тебе, Господи, вскоре я не выдержал и потерял сознание, перенесся в мир иной, абстрактный, производный от моей прошедшей жизни. Жену повстречал, сказал ей спасибо. Она обняла меня и без лишних слов пустила дальше. Друзьям руки пожал, и каждая тягучая, как будто из дегтя. Лизу увидел, попросил ему отбросить лишние, на что получил упрек в совращении и рекомендацию следить за своей второй половинкой. Кости обругал, что заставил с Сашей связаться. Посмеялись, я летел дальше. Затем, падая вниз, чувствуя ветер по коже, став падением и полетом, я исчез, чтобы в конце увидеть Сашу.
– Получилось, – сказал он, открыв улыбкой свои кривые зубы.
9.
Саша вывел меня на улицу, на холод, в одной окровавленной футболке, перемотав с ног до головы бинтами. Я смотрел, как падают снежинки, пытался поймать их языком, а они летели мимо, ненавидели. Саша неуклюже выбежал из подвала, держа под мышкой пальто.
– На, набрось, а то скончаешься. Теперь смотри – я заказал тебе такси до отеля. Как придешь, не думая, ничего другого не делая, просто ложишься спать. Скоро станешь новым человеком. Скоро ты станешь собой.
– Саша, – стонал я, – мне плохо.
– Конечно, а как без этого?
– Мне кажется я умираю.
– Да, именно так. Но все будет нормально. Ты, если что, звони мне, помогу.
– Как?
– Это не так важно.
В такси я не мог уснуть. Машина подпрыгивала, качалась по сторонам. Каждая кочка приносила неописуемые муки, я видел, как из меня текла кровь. Бинты потеряли свою белизну. Я вскрикивал на поворотах, таксист не хотел обращать внимания. Может, ему не было чему удивляться, и такие окровавленные члены общества вроде меня стали для него рутиной, источником чаевых за молчание. Все пролетело так быстро. Я спустился в подвал ранним утром, когда утро побеждало ночь, а уехал во время реванша, но по ощущениям прошло не более пяти минут. Я не хочу сказать, что недостаточно настрадался. Скорее, ждал за свои поступки большего. Действительно, меня недооценили. На зеркале я нашел грязь, застывшую слюну, или что это было, и не отрывал от нее глаз, пока мог. Болело, стонал, смотрел дальше. Будто я и мой друг-водитель мчимся вдаль, в лучшее время, в лучшее из возможных или невозможных. Наш ориентир – грязь на небе. Мы не отпускаем из виду, мы следим за ней, мы мчимся.
Около отеля таксист помог мне выйти из такси и уехал, выхватив у меня из кармана пять сотен за проезд. Я прошел мимо администраторши. Она общалась с новыми постояльцами и, конечно же, заметила меня, но виду подавать не стала. Если она и видела кровь, то ей нравилось видеть ее на мне. «Пусть себе сдохнет, – думала она, – лишних и так хватает». Я облокотился на дверь плечом и долго искал ключи в карманах джинс. За моей спиной стояли молодожены и шептались на тему того, пьян ли я. Стоило только развернуться, оголить свой торс, они бы в обморок упали. Не хотелось, сам боялся. Не снимай туфель я плюхнулся кровать и закричал. Крик иссяк вместе с моим голосом, остались вздохи и стоны. Хотелось, чтобы боль прошла и день вместе с ним.
Я проснулся рано утром от кашля настолько сильного, что куски кожи выходили наружу. Не хватало воздуха. я закручивался в судорогах. В позе младенца, укрывшись всем, чем можно, я пытался согреться, озноб терзал. Хворь загоняла в сон, но долго там засиживаться не мог и спустя час-полтора возвращался в явь. Что он со мною сделал? Я видел кровь, я чувствовал боль… Значит, он резал меня? Но зачем? Неужели в теле есть источник зла, осязаемый, мясистый, прожилистый, и многие поколения философов, котов-ученых и к Богу приближенных до него еще не добрались. Как тогда он нашел путь к нему? По нему видно – он не врач. Максимум один курс медбрата из любви к истязанию других. С трудом, но стоять на ногах могу. Ниже пояса травм не видно, на спине тоже. Где же тогда сидит злоба? Томится и варится. Представляю прозрачный внутри пузырь, наполненный черной желчью, как чумной гнойник. Надрез на коже, глубже, надрез на нем, и полилось, трубка для отсоса жидкости внутрь, не хватает тяги, и Саша вонзается зубами, в себя дичь пихает с наслаждением. Ужасная картинка.
Ближе к вечеру мне полегчало. Я позвонил жене и сказал, что немного приболел, но ничего серьезного. Хорошо, она не видела меня. Шея опухла, кашель стал сильнее, и боль отдавалась в груди. Во рту собиралась слюна, и я давился ей, сплевывал. За один вечер накопилась двухлитровая бутылка. Из меня выходила болезнь, мое тело давало отпор. Я вышел на улицу и дошел до ближайшей аптеки. Взял спрей для горла, сироп от кашля и какие-то таблетки подешевле. По пути обратно я понял, что со своим внешнем видом мне ни в коем случае нельзя показываться на глаза ни соседям, ни администраторше. К счастью, продуктовые не успели закрыться. Я купил два килограмма яблок, хлеб, бананы и воды. Много воды. Фонари избивали, почему же мне все вокруг так не радо?
Ночью, как и при любой болезни, стало хуже. Я считал и верил, что умираю. В окно стало мучительно смотреть, шея с левой стороны становилась все больше. Глотать я мог – болело – слюна словно стекала по десятку глубоких ран. В животе бурлило, позже появился понос. Так мне было суждено встретить конец. Вонючим, мокрым, обосранным, без голоса и желания жить. Я отпускал себя в сон как смерти в руки, но она отталкивала меня, бросала раздираться дальше. Раз от разу я тянулся к телефону, понимая, что, возможно, сейчас будут мои последние слова. Первые жене, завещание. Вторые Косте. Ублюдок, мразь, отдавший меня на опыты Саше. Третьи Саше. Я надеялся, что если злоба и была, а иначе был ли смысл соглашаться, то сейчас она поглощает Сашу и заставляет его просить прощения за совершенное надо мной. На глазах проступили слезы, я начал плакать. Не помогало, но хорошо хоть не кровью, и на том спасибо. Я ругался вслух, раскидывался проклятиями. Сначала громко, потом тише, будто мне жить надоело, зачем портить реальности картину. Сотрет меня, и мир станет лучше. На зло тело сопротивлялось.
Прошла череда нырков в мир фантазий и внутреннего беспокойства. Раз меня оттуда вытолкали стоны за стеной. Молодожены вернулись к наслаждению собой. Руки не поднимались постучаться, голос исчез, мне было нечем возразить. Что самое важное и удивительное, так это отношение. Раньше они меня бесили, раньше я их ненавидел. Заболев… Мне стало все равно. Я улавливал ритм в стуках, я слушал, насколько было ей хорошо, как усердно старался он. Происходящее стало неинтересным, тяжелым. Так много всего вокруг я оставляю перед смертью, – думал я, – зачем на это злиться и ненавидеть? Смысл порождать такое чувство, если есть иное. А зачем говорить об этом, если ничего и не изменится. Раз я постучал – это было дело, но так ли я был им движим? Иными словами – зачем мне беспокоится по такому пустяку? Я списал свой бред на предсмертное спокойствие.
Сигареты кружили голову, будто каждый день впервой затягивался. Так прошел один день, потом другой. Администраторша предложила вызвать мне врача, но я жестом отказался. В моих глазах прощение победило ненависть, раздражение иссякло. На автоматизме, боясь, что иссякну, я съел два яблока и выпил воды. Слюна покрыла кровать, заполнилась и вторая бутылка. Горничная принесла обед, но он так и остался пропадать. Прям как я. Много лишнего вокруг – вот что проявилось передо мной – и эта мысль перевернула все вверх ногами. Неужели так и приходят гении к своим идеями, находясь перед лицом смерти. Мне гением не быть, я ближе к трупу. Даже если выживу, гением назвать себя не посмею. Я совершил ошибку, грубейшую, согласившись на слова Саши.
Я звонил ему и не один раз. В большинстве случаев он не брал трубку, игнорировал мои звонки, а если и отвечал, то слова его были холодными:
– Так и должно быть, не парься, – говорил он и бросал трубку. – Теряешь голос? Отлично, раз теряешь, то пиши. Нечего остатками раскидываться, – злобно засмеялся Саша.
Это не злило меня, а должно было. За меня злиться кто-нибудь другой, а зачем… Ответа я не видел. Повод отомстить я предлагал найти кому-нибудь другому.
Когда мне снова полегчало, я решился снять повязки. Я наполнил ванну горячей водой, плитку и зеркало покрыл нежный пар. Полежав в ней минут двадцать, я принялся проделывать нехитрую операцию: зажав в зубах полотенце, аккуратно, медленно, до стыдобы, я срывал с тела бинты. Кровь застыла, словно цемент, волосы вырывались вместе с тканью. Сорвав первые куски, я удивился, у меня не было слов. Под бинтами не было ни единого пореза. Я бегал глазами, вылезал из ванны, нагибался, приглядывался – ничего! Порезы никогда так быстро не проходили, тем более настолько болезненные. Но, может, их и вовсе не было, – задумался я, – и мои ощущения там, у Саши на столе, были правдой? Я лишился тела, значит, и резать оставалось нечего. Бинт за бинтом, ни следа. Меня это раздражало. Как это? За что я истекал? За что я мучался, если ничего, по сути, нет? Сорвав все бинты, я увидел свое тело. Свое любимое. За неделю оно не изменилось никак: маленькое пузо, чуть-чуть обвисшая грудь, волосы, вены, белые растяжки-рубцы. Единственное, что меня смутило, так это набухшая шея. Плюс на груди покрылась коркой царапина, но могла ли она быть источником такой крови и боли? Сомневаюсь… Разочаровавшись в потраченном времени, я лег спать. Завтра меня ждал самолет. Или я его, хрен знает




