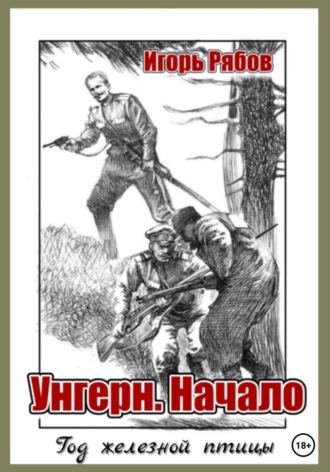
Игорь Олегович Рябов
Год железной птицы. Часть 1. Унгерн. Начало
Месяца через два перемены в хорунжем Унгерне заметили все. Он железно держался в седле, брал препятствия, неплохо управлялся с шашкой, уступая, однако в сноровке природным казакам. Унгерна зауважали в полку. Переменился он и внешне. Весь немногий офицерский лоск, что вывез барон из училища, сошел напрочь. Роман Федорович скоро забронзовел в соображении загара, новехонькая форма поистрепалась, руки покрылись мозолями и ссадинами, в глазах же объявилась некоторая сумасшедшинка. Появилось и то неприметное первому взгляду, что частенько именуется внутренним стержнем. Ну что же, назовем это так и мы.
Офицеры приняли Унгерна с известной долей настороженности, ожидая от титулованного, не по меркам казачьего полка, сослуживца аристократического высокомерия. Ничуть этого, однако, не бывало. Роман Федорович оказался простым в общении, а скромным вплоть до застенчивости. В помощи не отказывал даже малознакомым сослуживцам, был обязательным посетителем всех офицерских собраний, не всегда полезных для здоровья и кошелька. В картёж ему поразительно не везло, но еще больше поражало его спокойное отношение к этому. Он мог, не моргнув глазом, спустить месячное жалование и никто не слышал от него ни малейшей жалобы.
Но главным его достоинством, по мнению некоторых сослуживцев, была безотказность на просьбы о займе. Особенно ценное качество для офицеров, обремененных семейством. Бывало, что Роман Федорович отдавал последние деньги приятелям, а если в срок не возвращали, и не напоминал. Его равнодушное отношение к деньгам скоро перестало удивлять. Значит так и положено. Многие считали его богачом, возможно скрытым Крезом.
Романтические версии всегда лучше, но кроме месячного жалования в пятьдесят пять рублей он имел лишь пятьдесят-шестьдесят, редко сто рублей от родственников из Ревеля. Имея деньги, он отлично ужинал с шампанским у Горохова, угощал всех случившихся рядом. Когда же деньги заканчивались, мог поесть из одного котла с казаками сотни. Только ложка мелькала под уважительный матерок бородачей. А казаки и вовсе выигрывали при этом, ибо кашевары знали, что в любой день барон может обедать из общего котла. Посему мясо и масло шло по полным нормам и даже с приварком.
Служба меж тем шла исправно, с удовольствием он занимался с казаками стрельбой и рубкой, обучал их тактике конного и пешего боя, военным хитростям, которые знал частью из рассказов сослуживцев по японской войне, а частью из прочитанных книг. Забайкальцы лишь густо покрякивали. Когда же дело доходило до уставов и парадного строя, Унгерн начинал тосковать и старался исчезнуть или развлечь себя какой-либо каверзой.
Однажды на выгоне, сотня Унгерна отрабатывала конную атаку лавой. Учеба шла под надзором есаула Холодовского. Казаки справлялись более-менее сносно, и есаул одобрительно дергал смоляной ус. Выкрикнув фальцетом: «Сооотня!», есаул ехал вдоль ожидающей команды конной массы и вдруг резко натянул поводья – у хорунжего Унгерна из-под гимнастерки выползала черная гадюка, яростно шипя и выбрасывая крошечный раздвоенный язычок. Холодовский обратился в соляной столб, уши его чалого мерина встали в струнку. В следующее мгновенье он бросился прочь, нахлестывая испуганного меринка слева направо ногайкой. Пыль стояла столбом; оказалось, что есаул, отличившийся на японской войне и всегда носивший аннинский крест на груди, панически боится змей. Строй казаков ошеломленно молчал, а в следующую минуту закачался и застонал от страшного хохота. На произведенном дознании выяснилось, что при очередном перестроении Унгерн заприметил черную змейку, струившуюся по каменной земле, чудом еще не раздавленную. Распознав в змее амурского ужа, очень похожего на черную гадюку, но при этом совершенно безвредного, он нагнулся с коня и горстью сгреб его, определив за собственную пазуху. А тот возьми, да и высунь свою плоскую головенку за ворот. В сущности, барон ничего плохого не хотел, всего-то пожалел мелкую змеюшку, беспомощно извивающуюся под копытами сотен коней, но свои три дня гауптвахты все же получил.
Куда более серьезный проступок Унгерн совершил, побившись об заклад, что побывает за монгольским кордоном в раскольничьей деревне и привезет жбан медовухи, какая по некоторым слухам бывает только там. Он поставил свои сто рублей против трехсот собранных офицерами, уверенных, что такое не под силу даже такой отчаянной башке. Во вторую половину того же дня Унгерн исчез из поселка. В полку не сразу хватились, поскольку у него было время свободное от службы. Его, правда, приметили охотники, поставлявшие дичь на офицерскую кухню. От них есаул Холодовский узнал об одиноком офицере, верхом пробиравшимся по лесу, вдоль линии железной дороги к границе в сопровождении лишь одной собаки. Холодовский немедленно доложил по начальству, которое спешно учинило разбор, благодаря чему выяснилось, что в расположении полка и поселке отсутствует хорунжий Унгерн. Уже ночью, по тревоге, была поднята полусотня, которая ушла в сторону границы с задачей отыскать и не допустить, не дай Боже, нарушения границы. Корпус пограничной стражи, во избежание скандала, в известность не был поставлен. Правда, усилия посланных казаков, во главе с напросившимся Холодовским, результатов не принесли. Возвращаясь глубоко за полночь Унгерн, несмотря на легкое расстройство, по причине отсутствия медовухи, – раскольники хмельного не признавали и отделались медовой сытой, услыхал далекое пересвистывание казаков и тщательно заглушаемое ржание лошадей. Озадачившись этим и мгновенно согнав тряскую дремоту, он взял резко влево и, сделав круг, утром, как ни в чем ни бывало, явился на построении полка. Командир полка полковник Логинов, не спавший всю ночь от страха за случившееся, ревел как морж на льдине в теплую погоду, грозя Унгерну военно-полевым судом и каторгой. Дело, между тем, ограничилось неделей гауптвахты – происшествие решили замять. Полусотня, снаряженная в погоню, на шатающихся от усталости конях объявилась в полку лишь к полудню. История быстро стала анекдотом, а начальник штаба, даже не улыбаясь, предложил назначить Унгерна командиром полковой разведки. Будучи вызванным на проработку и цуканье к командиру полка, Унгерн смотрел в глаза бестрепетно, да еще и нахально вещал о произведенном испытании приграничной полосы на качество охраны. У полковника Логинова пропал дар речи.
Впрочем, гауптвахту барон отбывал символически. Деньги, принесенные проигравшими спор офицерами, позволили подкупать часовых, и к вечеру, забрав лошадь, он уезжал в сопки. Местоположение офицерской гауптвахты, переделанной из дома лесника и находившейся на отшибе, способствовало этому. В леснике надобность отпала, когда был изведен государственный лес, а гауптвахта наоборот была нужна позарез. Ибо полковая гауптвахта, строенная из кирпича и с чугунными дверями, так и не была завершена, по причине чрезмерного воровства подрядчика. Та же самое, как и полковой храм. Утром, как ничуть ни бывало, барон спал и дрых на дощатом топчане, прикрытом приятно пахучим сеном. Лишним будет сказать, что аппетит у Унгерна от пребывания на гауптвахте даже не испортился.
На шестой день, когда Унгерн пообедав, с нетерпением, ждал вечера, снаружи избушки, имевшей сходство с тюрьмой лишь проржавевшими решетками, послышались голоса и всяческий шум. Среди голосов выделялся один – величавый и барственный, с небольшим кавказским акцентом, смутно знакомый. Мрачно лязгнул запор, отчаянно скрипнув, отворилась дубовая дверь, залив единственную комнату розово-золотым светом солнца, клонящегося к закату.
В дверном проеме показалась худощавая фигура, пока безликая из-за света заходящего солнца, бьющего в спину. Унгерн прикрыв глаза рукой, приставленной козырьком, напряженно всматривался в нее.
– Ба, ба, ба и ты здесь душа моя! – фигура искусственно разыграла радостное удивление, хотя в полку всем было известно о местонахождении Унгерна.
«Эге! Никак Пашка Авалов?», – весело подумал Унгерн, который при всем своем умении развлечь себя, однако начинал уже скучать.
Хорунжий Павел Рафаилович Авалов или, как он сам себя называл – князь Авалов-Бермонт, был косвенным потомком кабардинских князей, а потому считал обязательным проявлять все качества избалованной кавказской аристократии; как-то чрезмерную горячность, денежное расточительство, склонность к излишним роскошествам и веселью. Ему ничего не стоило в честь хорошего настроения напоить шампанским казаков сотни, которые после этого густо рыгали, деликатно прикрывая бородатые рты ладонями, переговариваясь при этом: «Не, не шибает кисленькая водичка, навроде кваску, только в носу щекотно». Оставить двадцатипятирублевый билет расторопному официанту, или бросить «беленькую» понравившейся веселой барышне было для него в порядке вещей. Это страшно злило семейственных офицеров, с трудом сводивших концы с концами, но сделало Авалова популярным среди офицерской молодежи. О его происхождении ходили самые невероятные слухи, которые он не пресекал, а иногда искусно и как бы невзначай подогревал. Самым упорным слухом было то, что Авалов потомок кахетинских царей, а самые бескостные языки даже возводили его в родство с царицей Тамарой.
Авалов-Бермонт был, пожалуй, самым ярким и загадочным офицером 1-го Аргунского полка, вместе с Унгерном являясь постоянным раздражителем для начальства, справедливо считающего его адской машиной с часовым механизмом. Когда-нибудь эта машина сработает и тогда «бум», и полетят погоны вместе с головами.
Впрочем, в условиях военных действий, Авалов бросал дурить и рос на глазах. Да и ценился начальством уже по-другому, как храбрец и лихая голова, правда, иногда чересчур инициативный. Но в условиях войны это прощалось.
С Японской войны Авалов вернулся с Георгиевскими крестами двух степеней, которые всегда носил на груди, вызывая кислые гримасы у комендантских патрулей, периодически испытывающих неистребимое желание задержать его за некоторые бесчинства, которыми он скрашивал будни мирной своей службы.
Когда глаза Авалова немного привыкли к полумраку гауптвахты, он шагнул внутрь, с любопытством осматриваясь – здесь он побывал впервые. Денщик тащил за ним две громадные корзины, прикрытые крышками.
– Да-с, здесь прямо скажем, не гостиница «Дворянская» и даже не…
Слова замерли на пунцовых глазах Авалова, – его блудливый глаз застыл на такой смачной и толстой паутине, будто плели ее все полковые пауки разом.
Тут надо сказать, что он, осматривая скудное убранство полковой гауптвахты, и отпустив на его счет это замечание, душой нисколько не кривил. Не только гостиница «Дворянская», но и полтинничные номера при станции Даурия здесь и рядом не стояли. Дощатые половицы, каждая шириной в пол-аршина со следами поистершейся краски кирпичного цвета, отчаянно стонали и визжали под сапогами, худо проконопаченные стены, сложенные из исполинских стволов лиственницы, наводили на мысли о том, что раньше здесь жили гиганты. Половину, если не больше, от единственной комнаты занимала русская печь, когда-то беленая, а сейчас буровато-серенькая. По ночам в печной трубе на разные голоса завывал ветер. Дневной свет в комнату проникал через два небольших окна, затянутых мутноватым стеклом с множеством пузырьков внутри и с рассохшимися потемневшими рамами. Снаружи окна были прикрыты добротными решетками из толстых, но побитых ржавчиной прутьев.
Высокий потолок, из-за сумрака, Авалов увидеть не смог, но в противном случае и он его мало обрадовал бы. Лохмы почерневшей пыльной паутины, затянувшие его почти сплошь, являли собой зрелище крайне неловкое, если не сказать больше.
Унгерн, скрестив руки на груди, без улыбки наблюдал за князем.
– Не понравились апартаменты? Спроси номер получше, может, дадут? – почти серьезно предложил он.
– Ничего, сойдет и этот, напрасно насмешничаешь. Я брат живал и во дворцах, а было ночевал в таких дырах, что не приведи Бог. Веришь ли, брат Унгерн, на японской войне однажды пришлось спать в свинарнике.
Роман Федорович мигнул. Авалов загорелся получить удовольствие от приятного ему рассказа. Подошел к дощатому столу у окошка, с подозрением осмотрел колченогий табурет. Сел, и закинув ногу на ногу, откровенно полюбовался сверкающим носком сапога. Добыл из кармана шаровар золотой портсигар, щелкнул крышкой. Мелодия пропищала мотив «На сопках Маньчжурии», на крышке змеилась вязь подхалимской надписи: «Его Светлости, князю П. Р. Бермонт-Авалову, от дирекции Перваго Читинского коммерческого банка, в честь доблестного окончания Японской кампании». Авалов, получив назначение в Забайкальское войско, дабы не иметь недостатка в деньгах, первым делом открыл на свое имя счет в банке и положил на него такую круглую сумму, что даже бывалые служащие пооткрывали рты. Князь, покрутив в пальцах заграничную папиросу и поймав золотым ободком солнечного зайчика, сунул ее под левый ус.
– После дела при Ляоане отступали мы два дня и две ночи подряд, без сна и отдыха, очень уж командующий боялся, что японцы нас обойдут с флангов. И тут, слава всем святым, передали команду: «Встать на бивак!». Принялись размещаться на ночлег, кто как сможет. А ночь, помню, как сейчас, была ужасно какая холодная, а мы в летнем обмундировании. Фанзы китайские, какие были там, уже заняли старшие офицеры. Костра не разведешь – дров не сыскать. Казачки приспособились: повалили коней, прижались к ним и накрылись потниками. Храпят так, что я испугался, как бы японцы не услыхали. Хотел своего повалить – никак, не дается подлец и все тут. Спать хочется, сил нет, а ложиться на землю страшно – замерзнуть можно. И вот мы, с хорунжими Дубовым и Салиным, шасть туда-сюда, слышим, хрюкают где-то. Ну, мы туда. Смотрим – свинарня из глины. Невысокая, но теплая – из окошка пар так и валит. Заходим мы туда, поначалу чуть не задохнулись, запах скажу тебе не для балованных носов. Но потом ничего, выгнали проклятых хряков хворостиной вон, благо в углу рисовая солома была навалена, и премило улеглись. Спал я в тот раз, как никогда, – Авалов даже причмокнул при воспоминании. Правда, свиньи за ночь стащили с интендантской повозки и сожрали три мешка с печеным хлебом. Пришлось нам их самих съесть потом, заместо хлеба. Ты, кстати, есть хочешь?
– Обедал, пока сыт.
– Э, да брось, что ты здесь мог обедать? Щи да каша – пища наша? Это на войне надо кушать, а сейчас сделай милость, закусим по-нашему. По-кавказки! Эй, Гараська!
Сумрачный Герасим, денщик Авалова, белобрысый плотный малый с оловянными глазами и наетым лицом, переходящим прямо в шею, подтащил корзины к столу, и хотел было в них уже лезть, но Авалов его остановил.
– Ступай молодец, мы тут сами управимся. Да не позабудь, – назавтра вычисти мою кобылу, и сведи к кузнецу, подкова задней левой худо держится. Явишься сюда к вечеру.
Герасим молча кивнул и вышел, прикрыв дверь. Часовой снаружи задвинул засов и заскрежетал ключом в ржавом замке.
Авалов кивнул тому в след:
– Видал подлеца? Хотел было удовольствия лишить.
– Какого такого? – Роман Федорович заинтересованно подошел. Неужто у Пашки такой денщик, что стянуть может из-под носа?
– Какого? А удовольствия накрыть для друга добрый стол!
Раскрыв корзины, Князь начал рыться в них, так усердно, будто ловкий жандарм в чемодане у революционера. В комнате запахло ужас, как жизнеутверждающе. На столе начала расти горка свертков, появление каждого Авалов сопровождал коротким, но волнующим комментарием.
– Цыплята табака, только что с вертела, полдюжины или дюжина, не помню. Рыбка красная. Затем осетрина с хреном. Баранина на шампурах по-карски. Лаваш с сыром – знакомый армянин печет, как в Тифлисе, верь слову. Икра зернистая, икра паюсная, сыр со слезинкой, селедочка каспийская малосольная, пирог с грибами, пирог с яблоками – рекомендую настоятельно, зелень…
Последними на широченном, грубо оструганном дощатом столе появились бутылки с коньяком, шустовская рябиновая и даже маленькая черная бутылочка с китайской рисовой водкой, отвратной до последней степени. Авалов возбужденно прищелкивал языком, потирал ладони так быстро, словно хотел вызвать огонь трением. Унгерн только обалдело вдыхал через нос полной грудью. Позабыл, что недавно обедал.
– Угощайся, угощайся душа моя! На еду смотреть долго ни к чему, это не девка, – Авалов разливал пахучий, янтарный коньяк по стопкам. – Извини, рюмок нет.
Стекло глухо звякнуло, махом сдвинутое.
– Умеешь организовать жизнь! – похвалил его Унгерн, опрокинув в себя жгучий, пряный коньяк и нетерпеливо разрывая жареного цыпленка, истекающего пряным соком.
– Ага! И тебе советую так научиться, очень, понимаешь ли, скрашивает наш затхлый быт.
Авалов со вкусом закусывал коньяк икрой, давя ее белыми, хищно посаженными зубами. Икринки пищали, лопаясь.
– Судя по тому, что ты здесь, видно не только гурманством ее скрашиваешь.
– Твоя, правда, брат, – ответил Авалов, наливая по второй и еще больше оживляясь. – Мы вчера у Горохова знатно кутнули. Одного шампанского выдули три ящика. Один я выпил полдюжины бытылок, веришь?
Унгерн недоверчиво посмотрел на возбужденного Авалова, но с готовностью кивнул, пережевывающий разное вкусное, рот не позволял, даже промычать.
– А ко мне – продолжал Авалов, – из Читы специально приехали барышни, миленькие такие, не без претензии, но без этих, знаешь ли, – тут он пошевелил пальцами у виска, на который были начесаны редкие иссиня-черные волосы. – Итак, сидим мы тихо, мирно, не шумим даже особенно, выпили-то еще не так много. В общем, все в рамках приличия. Горохов, каналья, доволен как китайский богдыхан, в уме выручку пересчитывает. Тут нам подают седло горного барашка под умопомрачительным горьким соусом, гороховский повар – беглый французик умеет доставить удовольствие разбирающимся посетителям. Этот барашек, представь себе, не та подошвенной прочности говядина, что подают в нашем собрании, и которую получают от несчастной коровы, всю жизнь, жившую лишь на сорной траве и сене. Тут же продукт совершенно иного рода: молоденький барашек, который кушал только целебные горные травы, пил хрустальную воду из горных источников, скакал туда-сюда, а посему не имеет ни капли дурного жира. Если его, при всех названных качествах, еще и с умением приготовить, то испытаешь истинное наслаждение. Авалов, увлеченный своим рассказом, начал даже причмокивать, позабыв о яствах, разложенных на столе, и которыми всерьез занимался Унгерн. Сейчас он доедал заливное из поросенка с хреном и со сметаной, позабыв о недавнем обеде.
– И вот, только мы собрались приняться за это прекрасное блюдо, как являются эти проклятые синемундирники – жандармский ротмистр Хвощинский с двумя унтерами. Лица у этих господ как всегда застегнуты на все пуговицы, а сами они мрачные как тысяча чертей. Их тоже можно понять, они шляются, высматривают, служба такая, а мы тут отдыхаем по столичному. Сели они в угол и пьют чай…
Авалов пренебрежительно пошевелил пальцами в воздухе.
– С этими, как их бишь, с баранками. Не сказать, что мы им дали повод для недовольства, так стрельнули в честь поданного барашка пару раз пробками шампанского в люстру, да я станцевал лезгинку. Но они, же не могут, чтобы не сделать наставление. Им же надо подчеркнуть свое значение. Хвощинский подбежал рысью к нам и говорит так, цедя сквозь зубы и глядя в сторону: «Господа, ведите себя подобающим образом, вы все же находитесь в приличном месте, а не в шалмане». Меня словно холодной водой окатили: мне князю Авалову-Бермонту, в окружении моих друзей, да еще и при дамах заявлять такое, это знаешь ли свинство. Тут я вскакиваю, и без лишних слов выплескиваю ему в физиономию свое шампанское. Он трет глаза и как резанный вопит своим подручным, чтобы они брали меня и волокли в кутузку. Эти двое дураков бросаются на меня, но одному делает ножку хорунжий Марков, а второго бьет под ложечку Несмеянов. А я бросаюсь на нахала ротмистра, хватаю его за шиворот и спускаю его с лестницы. И глядишь, все сошло бы с рук в этот раз, если бы этот дурак Горохов не выскочил на улицу и не принялся свистать, а рядом как на грех, проходил комендантский патруль. Ну, с патрулем мы драться не стали, с мужичьем драться, резонов нет, да и комендант не спустит этого. Маркову с Несмеяновым – выговор в зубы, а меня сюда, на недельку прохладиться. Так и не отведали мы того барашка, да и барышни отбыли в Читу ни с чем. Сплошное разочарование. Но я рад, рад, верь слову брат Унгерн, мы ведь с тобой не ахти как дружили, а вот теперь станем приятелями…
* * *
Унгерн, держась в седле прямо, как рыцарь, закованный в латы, летел навстречу ветру, дующему со стороны Монголии, еще помнящему запахи степных трав, улыбался воспоминаниям о том времени, проведенном с Аваловым. Оба были людьми молодыми и авантюрного склада характера, более всего желающие постоянных приключений. Жизнь без ярких мироощущений, наполненная рутинными, повторяющимися день за днем делами, быстро выбивала их из колеи, заставляя искать источник внешних развлечений.
Унгерн, понужая кобылу каблуками, шпор он не надевал, взобрался на высокую сопку, поросшую низкорослым, стелющимся по земле кустарником и высохшим жестким как проволока багульником. Из-под копыт с шуршанием выметнуло стайку жаворонков, лошадь отшатнулась, но Унгерн удержал ее на месте.
Его глазам открывался фиолетовый горизонт, тонущий в дымке – там раскинулись громадные просторы Монголии, загадочной страны, наполненной сухими равнинами, горами, солончаками, кочующими многотысячными стадами и буддистскими монастырями, где люди веками постигали смысл жизни, искали свою сущность. Унгерн спешился, из-под руки жадно всматривался вдаль. Проделка с переходом монгольской границы на спор вспомнилась с приятностью. «А не поступить ли мне на службу в монгольскую армию?» – возникло, как всегда шальное, в голове. Но тут, же он рассмеялся своей мысли, как нелепой и недостижимой, гоня ее прочь. «Да и какая, по чести сказать, в Монголии армия?» Роман Федорович даже фыркнул, представив кривоногих монгол с допотопными ружьями, на своих неказистых коньках, поросших шерстью длинной, как на болонке.
Заходило солнце, клоня свой огромный красноватый диск туда, где мрачно шумели непроходимые сибирские леса, синие и вечно сырые, укрывающие под спудом все, что туда попадало, будь то зверь или человек. У подножия сопки расстилалась желтая от высохшей травы падь, перерезанная неглубокими балками. Падь тянулась почти до Даурского поселка, западнее плавно переходя в низкогорье, заросшее редкими рощицами из берез и лиственниц. На северо-востоке виднелись мерцающие зеркала озер Барун-Шивертуй и Даурского. В свете заходящего солнца были видны крохотные точки голов, торчащих из прибрежной грязной мути. Одержимые болезнями люди часами сидели по горло в бурой пахучей жиже, надеясь в ней найти себе облегчение.
Унгерн задумчиво поглаживая лошадь по короткой матово-серой гриве, обшаривал глазами расстилающуюся перед ним равнину, не цепляясь взором ни за что, так все было вокруг знакомо и привычно. На станции с адской мрачностью ревнул паровоз. Кобыла насторожила уши на звук. Унгерн резко подобрался и птицей взлетел в седло.
– Ого-го-го-го! – его веселый крик заполошно разнесся вокруг, заставив песочно-палевых степных сусликов обратиться в настороженные столбики, нервно шевелящие крошечными носиками. Придерживая кобылу, барон начал косой спуск с сопки, внимательно разглядывая сверху землю перед собой, чтобы не угодить в кротовью норку.
Проскочив падь, он остановился у ивовых зарослей, густо обсадивших пологие берега неглубокой речки, задумчиво несущей свои незамутненные воды в версте от поселка. Лошадь, фыркая, попятилась от леса гибких прутьев, стеной вставших перед ней, но Унгерн ткнув ее каблуками под ребра, двинул на заросли. Со щекочущим лязгом шашка вылетела из ножен, барон, горяча лошадь, рубил ивовые прутья, срезанная лоза стоймя втыкалась в песок. Клинок исчез, была видна лишь мерцающая молния, рассыпающая искры, лошадь боязливо гнула голову к земле, слыша близкий свист отточенного лезвия.
Сбоку послышался серебристый смех. Барон с трудом остановился, переводя дыхание, рука сразу занемела. Повернувшись вместе с лошадью на смех, он увидел двух поселковых девушек лет семнадцати в длинных, подпоясанных рубахах и пестрых юбках, с узорами по подолу. Они стояли на деревянном мостке, перекинутом через реку, шагах в двадцати от барона. Смущенно пересмеиваясь, девушки во все глаза, смотрели на молодого офицера. Русые волосы их были заплетены в толстые косы с вплетенными в них шелковыми лентами: у одной васильковой, а у другой багряно-красной. Их свежие лица, были оживлены и хороши своей непосредственностью. Круглые шейки, золотистые от загара, были украшены дешевенькими бусами, навезенные наверняка отцами с ярмарки. Крепкие, гибкие станы были стянуты поясами, указывающими на редкую стройность талии. Унгерн смущенно смотрел на них, однако бодрился, подпустив усмешку в жидкие усы.
– Спасибо, что нарубили нам лозы, – с некоторым напевом в голосе проговорила та, что повыше, стреляя зелеными глазищами.
– Мы по лозу пришли, отцы наши плетень плетут, – весело прибавила вторая, чуть конопатая вертушка.
Только теперь барон обратил внимание на веревочки в их руках, коконами намотанные на короткие палки. Расцвел.
– Не на чем красавицы, хоть какая-то польза от моих упражнений. А вы, как я погляжу, хозяйственные?
– Ага, еще какие! За что ни возьмемся, все в руках горит, – бойко ответила зеленоглазая, – А вот вы замуж возьмите!
– Что обеих сразу? – засмеялся барон, в глазах его заискрилось, – Ну ждите, скоро сватов зашлю!
Девушки прыснули, притоптывая каблучками по потемневшим доскам.
Унгерн махнул рукой, и, улыбаясь, поскакал вдоль речушки.
В поселок он въехал, когда солнце уже наполовину скрылось за верхушки деревьев, облепивших даурское плоскогорье. По главной улице поселка шла кучка молодых рабочих с железнодорожной станции. Успев принарядиться после работы в широкие плисовые рубахи – синие и красные, подпоясанные наборными поясами, в черных штанах, штанины которых были заправлены в начищенные хромовые сапоги с голенищами собранными для лучшей красоты в гармошку, рабочие не спеша шли по самой середине улицы. Взяв под руку друг друга, они раскачивались, словно матросы на палубе корабля. На голове у каждого сидел картуз, с синим железнодорожным околышем и лаковым козырьком. Карманы топырились от пряников и карамелек – угощать девок, у одного – маленького и самого шустрого, из карманов штанов торчали горлышки бутылок, отчего ляжки его приобрели немыслимую толщину. Впереди покачиваясь, шел кривой мастеровой в синей поддевке с цветком, заткнутым за ухо. Он растягивал меха подержанной гармошки и голосил, не слишком. Впрочем, мелодично:
В садике, садочке – алые цветочки,
Выйди милая ко мне —
Во лунную ночку…
По всему их пути девки прилипали к окнам, плюща носы стеклами, с любопытством и волнением разглядывая парней. А те с притворным равнодушием шли дальше, из-под козырьков, постреливая глазами по сторонам.
Унгерн с веселой искрой в глазах, не угасшей еще после встречи с девушками, смотрел на эту игру, отпустив поводья и давая лошади волю идти шагом. Поравнявшись с ним, рабочие поприветствовали его, приподняв картузы над головой. Роман Федорович, улыбнувшись приложил кончики пальцев к козырьку.
Через десять минут, поручив лошадь денщику, он входил в едко пахнущие старым жильем сени своей квартиры. Квартировал Унгерн у вдовы мелкого торговца Кочергина – Ульяны, красавицы тридцати с небольшим лет, обладающей всеми чертами привлекательности зрелой чаровницы, из робости, впрочем, не делавшей прямых попыток завлечь Романа Федоровича. Наш герой вгонял ее в некоторую робость своим титулом, серьезностью характера и фамилией, которую она так и не смогла выговорить. Робость свою она неуклюже маскировала легкой развязностью, которая никак не шла ее тонкому, лавку с невыветривающимися никогда запахами дегтя, свежепосоленных сельдей, керосина и хомутов. В лавке она сидела сама, отвешивая сахар и муку, наливая посетителям в бутылки прозрачный керосин. Вечером она готовила себе и барону, сначала дивясь его непритязательности в еде и стараясь приготовить что-либо удивительное, для чего даже ходила за рецептами к гороховскому повару-поляку, а затем, не встречая сильных его восторгов насчет кушаний, стала кормить привычными для себя блюдами.
Унгерн прошел из общего коридора в свои комнаты, первая из которых служила прихожей и имела из убранства лишь железную трехрогую вешалку с вечно висящей на верхнем рожке парадной фуражкой Унгерна, ящика для обуви, железного умывальника, да полочки, прибитой к стене почти у пола. На этой полочке денщик барона Вахрамей держал щетки и гуталин для сапог. Спал Вахрамей здесь же, в прихожей, раскладывая трехногую походную кровать и доставая для этих нужд, матрац столь засаленный, что даже нетребовательный в быту Унгерн пригрозил однажды выкинуть его на двор.
Всю обстановку унгерновской комнаты составил черный лаковый гардеробный шкаф с двумя створками и выдвижными ящиками, стол, два венских стула, узкий диван с пружинами, каждый раз издающими тоскливый стон при посадке на них. Наиболее роскошным предметом обстановки была старинная широкая кровать, ловко сработанная из сосны под дуб. Все это принадлежало квартирной хозяйке, поскольку своего движимого имущества Унгерн не имел, не считая охотничьего ружья системы Зауэр – подарок отчима на совершеннолетие, которое висело над диваном и полочки с книгами. В морском кадетском корпусе на скучноватых лекциях по навигации он иногда почитывал любимые книжки, за что неоднократно получал нагоняи. В конце концов, вместе с другими проступками это и привело к неполадкам по учебе. Нет, морское дело он любил, с удовольствием учился судовождению, обожал ходить под парусом, с начала учебы был кадетом на хорошем счету. Мать и отчим поначалу были страшно довольны – престиж морской службы, что вы хотите. Но после, когда дошло дело да вычислений, тригонометрии и прочих астролябий, дело пошло на спад. В море Роман был согласен ходить, лазать по вантам, стоять у руля и даже драить корабельную медь – да, с нашим удовольствием. Но вот лекции и аудитории, ну никак не пошли. Потом случилась война, кадетство своевременно закончилось, не доводя дело до исключения.
Роман Федорович много раз потом думал, что такое быть морским офицером, и как оно вообще? На это, как правило, находил ответ, представляя тесное прямоугольное пространство орудийной башни, освещенное как мертвецкая, синей лампочкой, сообщающееся с внешним миром лишь через эбеновую трубку телефонного аппарата. С бесконечным однообразием воют вентиляторы, нагнетая свежий воздух и не давая задохнуться заключенным внутри людям. Снизу, из бездонного корабельного нутра, пышущего железным теплом и запахом горячего масла, элеватор с ревом подает снаряды. Остается дождаться наводчика, через дальномер, определяющего расстояние до неприятельского судна, проверить наводку и скомандовать: «Пли!». До противника десятки морских миль, которые не позволят взглянуть ему в лицо, почувствовать энергию схватки. Или вот еще: стоять вахту в ходовой рубке, определяя курс корабля, его движение, но в случае боя быть пассивным его участником, не иметь возможности ударить, бессильно чувствуя то, как вздрагивает корпус судна при попадании вражеских снарядов. В конце концов, откуда-то из-за горизонта прилетит болванка, начиненная пироксилином, и твоя рубка исчезнет во вспышке взрыва, вместе с людьми, картами, штурвалом и гирокомпасом, и прочими нужными вещами.


