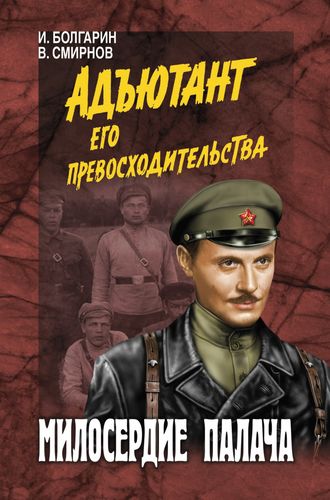
Игорь Болгарин
Милосердие палача
– И красным не служил. К тому же я – французский гражданин.
– И сам запутался. То ты – граф, то пролетарий, а то и вовсе француз. А ну покажь документ!
Миронов паспорт всегда держал при себе. Он знал, в этой стране его надо предъявлять как можно быстрее, пока не успели вынуть пистолет и не взвели курок. Махно внимательно изучил паспорт.
– Ты не тушуйся! То я так шуткую, – осклабился он и кивнул на рулетку. – А это, значит, орудие твоей коммерции?!
– Это – так, для душевного времяпрепровождения… Назовите, к примеру, цифру – от одного до тридцати шести. И поставьте на кон деньги, сколько хотите. Условно, конечно.
– Ну почему ж условно? Можем и натурально. – Махно обернулся, поискал кого-то глазами, увидел стоящего сзади своего контрразведчика Леву Задова. – А ну пошукай, Левка, в карманах какую-сь мелочь.
Лева протянул ему царский червонец.
– Вот, пожалуйста.
– А цифра?
– Ну нехай будет тринадцать.
Миронов крутанул рулетку. Забегал по круглому замкнутому пространству шарик и…
Миронов, конечно, навсегда сохранил тайну, как он этого добился, но шарик, все замедляя свой бег, свалился не в другую лунку, а именно в ту, в которую и было нужно, – под цифрой тринадцать.
– А вы везучий, Нестор Иванович! – восхитился Миронов, протягивая Махно золотой и присоединяя к нему еще один. – Может, попытаетесь еще разок?
– Хватит, а то весь твой капитал выиграю, – отказался Махно. – Ну бывай! Хлопцев моих не очень забижай.
– Тут уж у кого какое счастье, – развел руками Миронов.
– Они – ничего. Они – нормальна людына. Заслуженным бойцам скидки делают, – похвалил Миронова кто-то из тех, кто не участвовал в походе и оставался в городе на хозяйстве. – И еще какую-то башню продают. Ну ту, шо в Париже где-то покаместь стоит. Хлопцы тут думают, может, скинуться та купить. На выгоне бы поставили.
– Какая башня? – заинтересовался Лева. Батьку уже вынесли, а он из любопытства еще задержался.
– И в «железку» мастер. И в карты, – одобрительно высказались еще несколько хлопцев.
– Позвольте объяснить, – быстро прервал махновцев Миронов. – Как вы, наверно, знаете, Эйфелева башня не только предмет гордости парижан, но также и радиостанция, волны которой достигают даже наших мест.
– Чув. Ну и что французы? Продают ее? – удивился Задов.
– А что им остается делать! Ввиду близости реки Сены болты и заклепки, которыми скреплены части этого железного сооружения, проржавели и быстро приходят в негодность. Еще год-два – и, как считают ученые, она рухнет. Французы, как люди практичные, решили ее разобрать по частям, продать, чтобы на вырученные деньги соорудить новую, поменьше. Я вошел в акционерное общество по продаже этой башни, Так как господин Анри Мориэль – мэр Парижа, является моим дядей. Кстати, фамилия Мориэль, если на наш с французского перевести, в аккурат и будет Миронов.
– Складно брешешь! – усмехнулся Задов.
– Все серьезно продумано. Из этих же денег оплачивается баржа – это копейки, – и через Средиземное, Черное и Азовское моря сюда, до Бердянска. Нестор Иванович столько раз брал Бердянск, что возьмет и еще раз, дня на два. Пока разгрузимся. А новые заклепки достать – вообще плевое дело. И этот вопрос у меня уже продуман…
Леве надоело слушать болтовню Миронова, он наклонился к самому его уху и тихо, чтоб никто из махновцев не слышал, сказал:
– Что ты жулик – и без свечки видно. Но хлопцы на тебя, видишь, не обижаются. Даже поддерживают. Давай продолжай дурить им головы. Меньше будут пиячить и фулиганить.
И, оставив растерянного Миронова, он покинул казино.
– Умный у вас начальник! Слыхали, что сказал? – тут же, с ходу, нашелся Миронов. – Хорошее, говорит, дело. С такой башни можно будет вести радиотрансляцию анархических идей на весь мир…
Оставшиеся в казино махновцы одобрительно загудели.
Так Миронов на какое-то время обосновался в вольном городе Махнограде, успешно торгуя Эйфелевой башней и как липку обдирая жителей анархической столицы.
Глава шестая
Наконец-то, наконец-то старенький «Кирасон» добрался до Босфора, и поздним вечером высыпавшие на палубу пассажиры увидели проблески маяков у фортов Румели-Фенер и Анадолу-Фенер, поставленных по обе стороны входа в пролив и сторожащих его, как верные псы.
Едва ли не две недели вместо двух дней находились они в плавании. Неподалеку от берегов Турции им вновь пришлось ложиться в дрейф, гасить топки и ремонтировать машину. Трюмная команда, чуть не спекшаяся, чумазая от сажи, потребовала срочной доплаты, всяких аварийных, сверхурочных и еще каких-то. Снова помощник ходил с фуражечкой по первому и второму классам, собирал дополнительные пожертвования. Похоже, их решили превратить в нищих еще до прибытия в Турцию. На них смотрели как на богачей, увозящих с родины несметные сокровища.
Глухо ворча уставшей паровой машиной, «Кирасон» забирал левее, чтобы войти в фарватер. Ночь была очень теплой, пахло водорослями, и фосфоресцирующим блеском светилось море, рассекаемое носом парохода. От близкого каменистого и плоского турецкого берега, казалось, исходил жар, как от протопленной днем и постепенно остывающей печи.
Но Таня зябла. До нее наконец со всей определенностью дошла одна простая мысль: родных берегов больше не будет. Никогда. Ей было страшно. Даже в тревожные часы, когда их несло в дрейфе к советским берегам, она не испытывала чувства страха.
«Нет, это не со мной происходит, – думала Таня. – Это просто снится. Турецкий берег, ночь, Босфор, светящаяся вода… Вот так было, когда умерла мама. Я внушала себе: это просто кошмарный сон. Ничего больше. Мама еще появится. Надо только проснуться. Не может быть такого, чтобы она больше не появилась никогда…»
Никогда!.. Жамэ!..
Это словечко крутилось у нее сейчас в голове. По-русски оно звучит твердо, категорично и грустно: «никогда». А вот по-французски весело, легко, словно мотив полечки.
«Никогда уже не увижу его… Почему так горько? Передо мною открывается вся Европа, путешествия, приключения, а у меня на душе лишь горечь…»
Милый Микки Уваров, провожая, целовал ей руку, долго, не отрывая губ, а потом произнес:
– Уверен, это расставание лишь на короткое время. На очень короткое время.
Это звучало многозначительно.
Уваровы еще до Великой войны перевели в Англию свои основные капиталы. Они англоманы. Они не уставали повторять: «Все может рухнуть, не рухнет только Англия».
Выходит, они были правы, а мы, патриоты, любящие свою несчастную Россию, дураки?.. Может быть. Но богатенький, красивый, вежливый Микки и его уверенность в скорой встрече как-то не утешали. Наверное, она – однолюбка. Как мама, как тетки. Может быть, тогда, в Харькове, надо было быть более смелой, первой пойти ему навстречу? Может быть, если бы у них случилось то, что всегда случается между любящими, если бы их соединила ночь, постель – он переменился бы? Может быть, бросил бы своих и перешел к ней, к отцу? Или похитил бы ее, увез за линию боев, к красным? Но она была робкой, как и положено воспитаннице Института благородных девиц. Ждала от него решительного шага. Она бы на все пошла, но нужен был его решительный шаг.
«Боже мой, – опомнилась Таня, – о чем я думаю? Я уже в Турции. Надо жить!»
Машина под дощатой, скрипящей и потрескивающей палубой старого «Кирасона» вздыхала все глуше. Пароход словно бы течением втягивало в Босфор, как втягивает щепку весенний ручей.
Но Николай Григорьевич, оставив дочь на попечение знакомых, не любовался новыми берегами. Он отыскал корабельного электрика Бронислава Шешуню, осведомителя севастопольской морской и сухопутной контрразведки, и заперся с ним в его каюте.
Еще в начале крымской эпопеи, когда Слащев отстаивал перешейки, Шешуня попался на передаче тайных сведений красным: он был тогда электриком на вспомогательном крейсере «Алмаз», или «шмаге», как называли настоящие военные моряки вооруженные коммерческие суда. Шешуню соблазнило приличное вознаграждение: красные, получив в свое владение всю Россию с ее богатствами, не скупились, соблазняя нужных людей.
Шешуню должны были расстрелять или повесить – на усмотрение скорого военного суда. Но Щукин перехватил его, сохранил жизнь и, заставив подписать необходимые бумаги, сделал своим личным осведомителем. И не прогадал. Немало ценных сведений он получил потом от Шешуни.
Чтобы и сейчас их встреча не вызывала подозрений, Шешуня взялся ремонтировать карманный фонарик Щукина, изящную вещь французской работы с ручным приводом маленького генератора. При этом они обменивались фразами, не предназначенными для посторонних.
– Куда же капитан вкладывает деньги? – спросил Щукин.
– Он, как учат умные французы, не кладет яйца в одну корзинку. Часть откладывает в банкирский дом «Федотов и Кэ». Говорят, надежно. А частью ссужает капитанов «грузовиков», которые берут курс на Севастополь, но кое-что из «товара» потихоньку оттаскивают в красную Одессу.
– Какие товары?
– Чаще всего это медикаменты, больничное оборудование. Но случается, и военный груз: снаряды, патроны, пулеметы.
– Откуда?
– Покупают тайком у англичан, французов, особенно у итальянцев. Красные ценят русские боеприпасы, их в достатке осталось в Румынии. И все это теперь числится за доблестными союзниками.
Через полчаса интенсивной беседы фонарик Щукина работал, жужжа передачей, в полную силу, а в блокноте полковника появились очень интересные записи, открывающие некоторые коммерческие тайны, которые, как он полагал, должны были ему пригодиться в самом скором времени.
Бескорыстные союзнички, Щукин знал это и ранее, не пренебрегают никакой прибылью. Именно поэтому, когда Врангель и адмирал Саблин предложили поставить у советских портов мины, препятствующие судоходству, французская и английская миссии были категорически против. Даже обиделись. «Как, неужели наши крейсера и дредноуты позволят красным вести морскую торговлю?»
Но союзнические «купцы» тайком ходили и в Одессу, и в Новороссийск, и в Николаев, и в Херсон. Товаром не брезговали. Продавали не только мирные грузы. Тем более красные платили хорошо, и не кредитом, основанным на продаже металлолома, как Врангель, а хлебом и даже золотом. Торговлю вели «Одесский союз кооперативов» и «Новороссийский профсоюз цементников» – организации, стоящие «вне политики», которым зачем-то нужны были снаряды к трехдюймовкам, запчасти к аэропланам, патроны.
Ну ладно, помешать этому Щукин уже не мог. Да и Врангель не мог: свои финансовые интересы союзники умели отстаивать. К союзникам не подступишься. А вот капитан «Кирасона», умевший «класть яйца в разные корзины», конечно же хорошо знал имена капитанов, которых ссужал деньгами под хорошие проценты. Дело было за малым: выспросить капитана и затем найти его должников.
Щукин усмехнулся. Любой человек может стать разговорчивым. Как это делается, он знал. Беда лишь в том, что у капитана здесь, в Стамбуле, целая шайка сообщников, включая этого наглого помощника, а Щукин один. Но на то у полковника почти двадцать лет службы в тайной полиции, чтобы найти решение подобной задачки.
Тут только спешить не надо. Впрочем, и медлить нельзя.
– Николай Григорьевич, у меня не будет неприятностей? – спросил электрик.
– Если у меня не будет, то и у тебя не будет, – успокоил его Щукин.
Полковник вышел на палубу. Увидел, что у кормы «Кирасона» крутится катер комендантской службы с ярким топовым фонарем на мачте. Было уже темно, и катер осветили прожектором с капитанского мостика. Николай Григорьевич увидел французский триколор. В рупор с катера прокричали:
– Эй, на «Керосине»! Возьми к створному знаку!..
Видимо, это был русский офицер на французской службе. Соотечественник не упустил случая поиздеваться над своими. Впрочем, действительно, не «Кирасон», а «Керосин». Старая калоша, которая всех измучила голодом и качкой.
На палубу из кают выходили все новые пассажиры, а те, что ютились под бимсами шлюпок и у трубы, сбросили с себя шинели, пледы и куски брезента, задвигались, готовясь к высадке. Но пароход, почти приткнувшись к берегу, бросил якорь.
Огней Стамбула пока не было видно, даже зарева. Город спал за изворотом узкого залива, за цепью невысоких лысых холмов. До турецкой столицы оставалось еще не менее пятнадцати миль.
– До утра в Стамбул нас не пустят. Утром будет медицинский осмотр, и лишь потом… – спускаясь с мостика, пояснил капитан. Поблескивали его надраенные пуговицы. – Они не хотят, чтобы кто-нибудь ненароком пробрался в город. Боятся тифа, холеры. Мы – русские – для них рассадник заразы.
Щукин всмотрелся в полное, крепкое лицо немолодого уже капитана. «Иван Николаевич Иванов. Хорошее у тебя лицо, – подумал Щукин. – Теперь ты заодно с нами, русский патриот, и все уже готовы простить тебе бесконечные поборы там, в море… Ладно, проверим тебя, Иванов, на крепость нутра…»
Это была их первая ночь за рубежом, и Щукин запомнил ее наплывом многих неприятных мыслей. Таня ушла в каюту, прилегла на свою узкую койку, не раздеваясь и укрывшись с головой от долетавших с берега москитов. А Щукин, глядя на свалившиеся в затихшую воду звезды, думал о Босфоре, Дарданеллах. Веками рвалась сюда Россия, оттесняя султана. Эдакая полуденная мечта о Средиземноморье, которая сидела глубоко в кровеносной системе каждого русского, в том числе державника, сторонника могучей России Щукина.
Можно сказать, союзники, втягивая Россию в общеевропейскую бойню, соблазнили ее воплощением этой уже кажущейся неосуществимой мечты. «Вы – русских мужичков на фронт, а мы вам – Босфор с Дарданеллами…» Как же! Отдадут!
Еще в 1915 году мистер Черчилль принялся высаживать десант в Дарданеллах, чтобы опередить русских. Под предлогом помощи, конечно. Но безжизненный, созданный самой природой как крепость полуостров Галлиполи не дался могучему английскому флоту. Отступили.
И вот теперь они, русские, на Босфоре. Как беженцы. Как нищие, просящие убежища. Беспомощная, враждующая между собой человеческая толпа, которую можно окончательно обобрать.
Николай Григорьевич заснул на часок. Сквозь сон слышал, как гремели якорные цепи и пароход тихо куда-то двигался. А когда ранним утром проснулся, увидел над головой желтый карантинный флаг. Встав в виду еще серого, укутанного утренней мглой Стамбула, пароход принял на борт нескольких итальянских карабинеров в треугольных шляпах невиданной величины.
– «Аэропланы» прилетели, – сказал толпе капитан и пояснил: – Сегодня, видно, итальянцы командуют. Тут все по очереди – то итальянцы, то англичане, то французы. Хозяева положения!
За карабинерами на пароход полезли врач-турок и несколько негритянок и негров, черных людей для черной работы – мойщиков карантинной службы.
Едва Таня успела выйти на палубу, как ее тут же ухватила за плечо чрезвычайно плотная и округлая, подобная ядру в сарафане, негритянка. Таня в ужасе посмотрела на отца, ища защиты. Ее волокли куда-то, ничего не объясняя.
Бедная девочка, она не была готова к этой новой, подневольной, зависимой жизни. Щукин знал, что протестовать – это лишь напрашиваться на новые неприятности. Подойдя к итальянцу, который, судя по двум маленьким звездочкам на воротнике и на клапане рукава, был здесь старшим, он протянул ему десять лир и пояснил на французском, что просит отпустить его дочь.
Между тем негритянка тащила Таню в сторону холодного корабельного душа. За ними семенила вторая служительница чистоты, сгибаясь под тяжестью сумки, в которой звякали бутыли с карболкой, раствором хлора и еще какой-то жидкости.
Офицер кивнул, спрятал деньги за обшлаг мундира и, окликнув негритянок, жестом указал в сторону полубака, где уже толпилась дюжина «вымытых» пассажиров, из числа тех, у кого были деньги и кто знал местные порядки. Николай Григорьевич и Таня, подхватив чемоданы, перешли на носовую часть верхней палубы. Остальным предстояло принять холодный душ с карболкой и хлоркой.
А совсем близко, у трапа, за спинами карабинеров шумела на все голоса пестрая толпа встречающих. Здесь были родственники, знакомые прибывших, обеспокоенные долгим отсутствием парохода, были и «вечные встречающие», потерявшие во время деникинского отступления своих близких и еще надеющиеся на чудо спасения. Но больше всего здесь было местных торговцев, турок и греков – менял, рекламных агентов, желающих тут же, на набережной, совершить выгодную сделку, используя неопытность новоприбывших русских.
– Меняю деньги по курсу себе в убыток!..
– Продаю очень хорошую лавку за бесценок…
– Девочки, девочки для господ офицеров…
– Дешевая гостиница, очень чисто, без таракана, без клопа…
Местные торгаши и агенты уже успели выучить нужные фразы на русском и произносили их почти без акцента. Правда, дальнейшие разговоры происходили на пальцах: главное было – завлечь!
Мелькали красные фески, густо-черные чарчафы, укрывающие лица женщин, белые повязки лимонаджи, за спинами которых сияли ярко начищенные кувшины с прохладительными напитками. Продавцы фруктов расталкивали всех своими переносными лотками:
– Сладки, как изю-ум!.. Сладки, как мио-од!
Все это кричало, стучало, ойкало, пело, сливалось с голосами муэдзинов на кружевных галерейках высоких и стройных белых минаретов. От этих гортанных выкриков, пряных запахов, музыки, разноцветья, суеты начинала кружиться и болеть голова.
Только раскованные американцы в рубашечках цвета хаки с короткими рукавами и пилотками, засунутыми под погоны; подтянутые, сухопарые, слегка надменные, как и положено хозяевам самой большой империи, англичане в пробковых шлемах; набриолиненные, веселые, все, как один, с фатоватыми усиками итальянцы; солдаты и офицеры колониальных войск – зуавы в своих синих куртках и жилетах, в белых чалмах, в красных шароварах и шелковых голубых поясах; сикхи в замысловатых тюрбанах, расшитых халатах, с кинжалами за широкими поясами; бородатые гуркхи, чугунолицые, с мечами немыслимой кривизны, ножны которых посверкивали полудрагоценными камнями и богатой резьбой, – словом, все те, что пришли сюда как победители, держали себя спокойно, немного отстраненно и взирали на суету со снисходительным интересом. У них было постоянное жалованье, казенное жилье, казенные обеды, у них было чувство собственного достоинства: то главное, что потеряли прибывшие сюда русские, которых сразу можно было отличить – не по одежде, нет – по глазам. В них светилась тоска потерявшейся собаки.
И Николай Григорьевич, и Таня невольно ощутили это, едва сойдя на берег.
Щукин не без умысла взял дорогого, парного извозчика, и они с шиком прокатили небольшое расстояние от Галатской пристани до барского, с огромными, разделенными на клеточки, окнами особняка российского представителя на улице Пера – главной улице европейской части города.
Улица чем-то напоминала Николаю Григорьевичу Фундуклеевскую в Киеве или Арбат в Москве, только понеряшливее и поуже. Отдавая извозчику пятьдесят пиастров, половину турецкой лиры, Щукин с интересом заглянул в бумажник. Да, деньги здесь что русский снег – завезти можно хоть бочку, да все скоро растает.
Внешне особняк сохранил прежнее величие. У входа стояли двое кавассов – посольских швейцаров, одетых в сохранившиеся еще с царских времен ливреи, украшенные по-восточному богатым золотым шитьем от полы до воротника. Но все вокруг, даже маленький садик, гудело и пахло русским вокзалом. И внутри, в самом посольстве, тоже творилось черт знает что. Даже советские «коммуналки», слух о которых уже дошел до Стамбула, показались бы здесь верхом благоустроенности.
До того как барон Врангель стал хозяйской пятой на полуострове Крым и воссоздал пусть малую, но упорядоченную Россию, был кошмар новороссийского бегства. Генерал Деникин, старавшийся сохранить демократическое устройство в пору варварского единоборства, не сумел справиться с Буденным, с тифом, с эвакуацией и допустил панику и разброд. Возжаждавшие независимости «парламентарии» Кубани ударили под бок казацким кинжалом. Потеряли боевой дух донцы.
Брошенный союзниками, которые навязывали ему соблюдение прав личности и гражданина, но при этом уважали лишь сильного, самый русский из генералов, плохо понимающий суть происходящего, Деникин отбыл в Европу, а на улицах Стамбула, на полу посольского особняка остались осколки бегства – репатрианты. То есть «лишенные родины».
Именно на этот самый холодный мраморный пол рухнул, распугивая беженцев, начальник деникинского штаба и ближайший друг Антона Ивановича – Ванечка Романовский, боевой генерал, убитый своими же офицерами за допущенное поражение и паническое бегство.
А сейчас в это дипломатическое убежище, в это общежитие прибыли Щукин с дочерью. Конечно, Николай Григорьевич мог позволить себе остановиться в гостинице. Но, во-первых, так было удобнее для осуществления его планов – никто в этой вокзальной сутолоке не станет следить, когда он исчезнет и когда появится; во-вторых, здесь, под присмотром соотечественников, можно было оставлять Таню. Стамбул – город не для одинокой европейской девушки.
Бывший кабинет посла – огромная зала, которая должна была производить впечатление на дипломатов Блистательной Порты, теперь была заставлена письменными столами военных чиновников. Это было единственное служебное помещение посольства – в остальных жили. Посольство-общежитие.
Щукина встретил генерал Лукомский, военный представитель Врангеля в Стамбуле при объединенной союзнической миссии. Александр Сергеевич был давно знаком с полковником, особенно близко с тех пор, как генерал стал начальником оперативного отдела в штабе Верховного в шестнадцатом.
Мундир сидел на Лукомском мешковато. Александр Сергеевич похудел, осунулся, некогда черневшие грачьими крылышками на его загорелом лице усы теперь пошли в серебро, равняясь цветом с клинообразной бородкой, щеки были впалы и бледны.
Расцеловались по-русски.
– Впервые вижу тебя без погон, Николай Григорьевич, – сказал генерал. – Теперь в партикулярном? Штафиркой стал?
Щукин улыбнулся. Он любил этот бравый гвардейский жаргон.
– Отпуск. Может, надолго. Здоровье подправить… м-м… Дочку в Париж отвезу…
Лукомский только вздохнул. Он знал о тяжелом поражении опытного контрразведчика, из-за которого тот вынужден был подать прошение об отставке. Посвящен был и в более тонкие личные нюансы.
– Чаю? – спросил генерал. – Кофе, извини, не предлагаю. Не хочу сотрудников запахом смущать. Да и дороговат для нас ныне кофе, даже здесь, в Турции.
Сели за маленьким ампирным столиком у окна. Отсюда был виден желтый от ила, отливающий под солнцем тусклым самородком Золотой Рог, а вдали открывалось Мраморное море, серо-зеленое у берегов, постепенно переходящее в голубизну и к горизонту сливающееся с небом.
– Одна радость в нашей беде, – сказал Лукомский. – Все мы стали семьей. Русские. Большевички научили. Видишь, как живем.
Щукин не стал спорить. Видел он, как русские обдирают русских. Не всех, видно, научили большевички. Ладно, это его боль и ему с этим разбираться.
Однорукий денщик в гимнастерке с вишневого цвета дроздовскими погонами принес на подносе серебряный чайничек (остатки прежней имперской роскоши) и два пузатых турецких стаканчика с дзуратом – нежнейшим и ароматным восточным лепестковым чаем.
Щукин бросил на солдата короткий, но профессиональный, запоминающий взгляд. Ручища у денщика была крепкая, жилистая, с въевшейся в ладонь угольной чернотой. Поднос он держал двумя пальцами. На гимнастерке – ветеранский серебряный знак дроздовского стрелкового полка: в центре черного эмалированного креста алел щит с мечами, а под крестом – терновый венец.
Щукин знал этих дроздовских шахтеров еще по харьковским временам. Под Горловкой несколько десятков шахтеров, сущие дьяволы по виду, влились в Добровольческую армию и воевали люто в роте Женьки Петерса[3]. Звали их «белыми латышами» – за стойкость и дисциплину. Мало их осталось после тех боев, мало! А этот вот, хоть и лишился руки, уцелел.
– Спасибо, Степушка, – ласково сказал солдату Лукомский и добавил, когда денщик ушел: – Кроме беженцев, полторы тысячи инвалидов у нас на содержании. Где денег набраться?.. Вот ты в Париж собрался. А хорошо ли подсчитал, что у тебя в кошельке?
Вопрос был, что называется, не в бровь, а в глаз. Но Щукин не собирался играть в открытую.
– Ну у меня помимо всех военных училищ и Генштаба все же, как и у Врангеля, Горный институт за спиной. Инженер…
– Голуба, не нужны им русские инженеры. Вообще мы никому не нужны. Союзникам то есть. Мы – другие, понимаешь? Это мы восторгаемся: ах, французы, ах, англичане, культура, флот, Наполеоны, Вейганы, Нельсоны. А они на нас глядят с другим прищуром. Расчетец! Вот если бы мы были в славе и силе – это да, это – партнер! А сейчас? Сейчас лишь тот русский для них человек, кто с деньгами. Тогда – виза, тогда – Париж или там Лондон. Впрочем, англичане и с деньгами не очень-то пустят. Ну если еще записной англоман, как Уваров или Набоков, – может быть. При наличии денег, конечно, устроятся… Вон король Эдвард даже вдовствующую Марию Федоровну не принял, в Дании приютилась. А все же – тетка…
– Да… – сказал Щукин. – Оно конечно… – Посмотрел на пейзаж сквозь стаканчик с дзуратом: совсем желтое, искристое вокруг. Отпил чайку: хорош!
Неподалеку, с минарета, заголосил муэдзин: «Ла иль Алла иль Мухаммед расул Алла!»…
Лукомский сказал:
– Удивляюсь я твоему спокойствию, Николай Григорьевич. Как ты думаешь, чем закончится наше наступление в Северной Таврии?.. – И, не дожидаясь ответа, продолжил, повинуясь каким-то своим размышлениям. – Союзникам нужен хлеб, уголь… Флот на металлолом? У них, знаешь, после войны своего лома будет в достатке… Деньги, деньги! Здесь всюду расчетец. На нас по-прежнему смотрят как на богачей, с которых еще можно что-то содрать. Англия, правда, уже поняла, что это не так, что содрать можно только с красной, большевистской России. Основные богатства остались там…
Из окна было видно, как на набережной выстраивается для учения пожарный расчет. На головах у турок были английские каски, а ноги босы. Инструктор подравнивал строй, лупя пожарных ботинком по голым пяткам.
Александр Сергеевич неожиданно хохотнул:
– Ах, как богаты мы были, Николай Григорьевич! Сами того не понимали. Хлебосольная, добрая страна. Горьковские грузчики на пятках писали химическим карандашом: «три рубля». Мол, за меньшее не тревожь: обижу. А три рубля сапоги стоили! Солдатский рацион четырнадцатого года помнишь? Фунт мяса в день, два фунта ситного. Англичане четвертью фунта обходились… Французы, когда слышат, что наша земская медицина была бесплатной, не верят. А еще социалисты!..
Он вытер пальцами заслезившийся глаз. «Постарел», – подумал Щукин.
– Ко мне тут приходят артисты, путейцы, писатели, издатели, врачи, статистики… Прожекты, прожекты… В России они на этих прожектах безбедно бы себе жили. А здесь?.. Так что, Николай Григорьевич, напряги извилины, доставай деньги. Чтобы дочка на панель не пошла. Вывернись наизнанку, но достань. Я тебе помочь, извини, не смогу… Есть какая-либо мысль?
– Есть, – сказал Щукин. – Есть.
За окном муэдзин заканчивал выводить суру. Заткнув, как положено, пальцами уши, чтобы ничто не мешало ему славить Аллаха и его пророка, он был упоен, как соловей. Это были его песня и его мир.
– Денщик у тебя из дроздовских шахтеров? – спросил Щукин.
– Представь себе. Пока кормлю, как всех… Что потом будет делать, с одной-то рукой? Приютился в дворницкой, вместе с кавассами… И тех нужно кормить…
– Серьезный мужик, – заметил Щукин, допивая второй стаканчик дзурата. – И чаек у него отменный, не хуже чем у турок… Ну, спасибо за добрые слова, за угощение…
– Чем могу, Николай Григорьевич. Поживи пока в посольстве, поэкономь денежки, осмотрись. Там у нас на втором этаже, в спальне бывшего посла, всего два семейства разместились, приличные люди. Перегораживаемся, знаешь ли, занавесками – эдакие выгородки, как в театре… и сосуществуем. С надеждой сосуществуем. А вдруг под напором Врангеля сдвинется Россия, опомнится?
Щукин согласно кивнул. Хотя знал прекрасно: не сдвинется, не опомнится. Большевики крепко взяли ее в кулак. А иначе с ней, с Россией, как?
Щукин выждал время, когда дроздовский солдат останется в дворницкой один: кавассы, разодевшись, отправились на свое представительское дежурство у ворот.
При виде Николая Григорьевича однорукий денщик вскочил:
– Здравия желаю, ваше высокоблагородие!
– Садись, Степан. – Щукин улыбнулся. – Как это ты сразу смекнул, что я высокоблагородие?
– Рука одна, а глаза два, ваше высокоблагородие!..
Щукин присел и указал, чтобы и денщик садился. «Да, два глаза у него, и оба разбойные, – подумал он. – Такие, как надо, глаза».
– Мы теперь оба люди штатские, так что зови меня Николаем Григорьевичем. Я полковник контрразведки, Степан. Но пришел к тебе для хорошего разговора. Дружеского.
Степан кивнул, а сам глаз прижмурил. «Какой разговор у контрразведки? Вербовать, должно быть».
– Что б ты долго не гадал, сразу разобъясню, – спокойно сказал Щукин. – Закури-ка асмоловскую.
Степан с достоинством взял папироску и, не прибегая к помощи Щукина, прижав предплечьем одной руки кремень с трутом, здоровой рукой взял кусок напильника со стола, высек искру и разжег трут. Протянул тлеющий фитиль Щукину:
– Прикуривайте, Николай Григорьевич. Спички у турок больно кусачие.
«Определенно толковый мужик. И надежный», – еще раз мелькнуло в голове полковника.
– Ты, Степан, солдат бывший, а я бывший полковник. И в этом мы равны, что бывшие. Если дело все порушится, как думаешь жить-поживать, Степан? На какие денежки?
– Да как… Только что на начальство наше надежда. Подмогнет.
– Начальство само может оказаться хоть и живьем, да с одним сухарем. Оно и сейчас уже от чужой милости питается.
– Это верно, Николай Григорьевич, вы наше дело понимаете. Тут одна дамочка, из горничных, шутила: «Турок, он тянет в закоулок, а грек прямо ведет на грех»… Чужбина!
Денщик определенно все больше нравился Щукину.
– Ну а вернуться нет мысли, Степан? В Горловку?
Дроздовец долго и внимательно смотрел на Щукина. Он уже понимал, что за этим разговором скрывается очень важный, но непонятный пока для него особый смысл.
– Мысль есть. Только, попервое, куда я в шахту без руки? Во-вторых, миловать меня не будут. У меня вся родня деревенская, ее продналогом да расстрелами краснюки повывели, я свою злость на милость сменить не могу. Они, полагаю, тоже. Потом, я у капитана Петерса не последний солдат был. Большевики – народ точный, все вызнают. И жалостью не балуются, серьезная публика. Что ж мне, вернуться – да в банду?
– Верно мыслишь. Мне-то тем более возврата нет. Так что грозит нам, Степан, нищета на чужой земле, если сами дураками будем.







