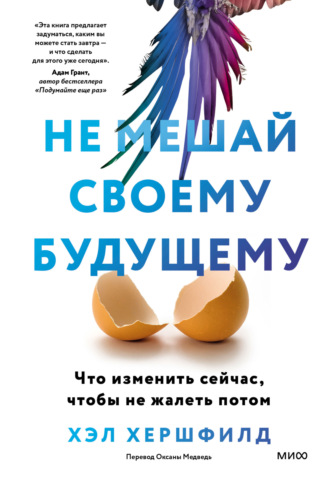
Хэл Хершфилд
Не мешай своему будущему. Что изменить сейчас, чтобы не жалеть потом
Глава 2. Мое будущее «я» – это действительно… я?
Неподалеку от исландского города Кеблавик находится знаменитая туристическая достопримечательность – природный термальный курорт под названием «Голубая лагуна». Славится он потрясающим лазурным цветом воды, необычно высокой ее температурой и великолепными терапевтическими качествами. (Тамошняя богатая минералами вода и белые пастообразные грязи полезны и для души, и для кожи; исследования показали, что они помогают в лечении псориаза и отлично разглаживают морщины[28]). «Голубая лагуна» может показаться одним из чудес исландской природы, но на самом деле она образовалась в конце 1970-х в результате стока вод с близлежащей геотермальной электростанции.
Я, признаться, всегда мечтал посетить Исландию, в частности эту замечательную лагуну, и потому с готовностью ухватился за шанс поучаствовать в запланированной там научной конференции (поселение в курортном отеле было явным прогрессом по сравнению с привычным Hilton в аэропорту). Мероприятие спонсировал Сиднейский университет, докладчики говорили о том, как люди думают о времени.
Сидя в самом конце конференц-зала, я смотрел через огромное окно на завернутых в полотенце туристов, группками направлявшихся к дымящимся термальным источникам. Моя жена – она поехала со мной – была где-то там, у источника, или фотографировала красоты на расположенном неподалеку леднике. В общем, когда Лори Пол, профессор философии Йельского университета, начала свой доклад, я был несколько отстранен от происходившего в зале. Мне хотелось отмокать в горячих водах «Голубой лагуны», а не париться в душном конференц-зале.
«Вообразите, что вам представилась разовая возможность стать вампиром, – начала Пол. – Сегодня, знаете, все немного не так, как прежде, и вампиры пьют кровь не других людей, а животных, да еще и выращенных исключительно гуманным способом»[29].
Начало научного доклада было выбрано на редкость умело – я тут же забыл о туристах и вообще о «Голубой лагуне» и задумался, какой была бы моя жизнь, стань я вампиром. Как отметила профессор Пол, эта идея привлекает многих людей, ведь с превращением в вампира к вам приходят бессмертие, власть и скорость. Но, скажем, вы не уверены на все сто в том, что действительно хотите стать, так сказать, нежитью и готовы пить чью-то кровь. И решаете попросить совета у своих друзей-вампиров.
Эти ребята, надо сказать, наслаждаются жизнью; быть вампирами им очень по душе! И они уверяют, что и вам непременно понравится этот опыт. Вы ведь и так вечно ходите в черном (возможно, это не ваш случай, но просто притворитесь, что так оно и есть), любите экзотические блюда и вечно пробуете готовить что-то новенькое; и спать вы ложитесь только за полночь. Так что, судя по всему, вампирская жизнь вам вполне подойдет. Вы хотите узнать о ней больше и пытаетесь продолжить расспросы, но вам говорят, что это уже лишнее; вам нужно просто сделать первый и решительный шаг.
Однако в том-то и загвоздка.
Когда вы станете вампиром, отменить решение будет уже нельзя. Нельзя попробовать этот новый образ жизни, а потом решить, что это не для вас, и вернуться к обычному смертному существованию.
Вампиром становятся навсегда.
Какое отношение вампиры имеют к нашим будущим «я»?
Надо сказать, за пару дней до того, как я, сидя в конференц-зале, призадумался о вампирах, мы с женой стояли дома в ванной комнате, готовясь к последнему перед предстоявшим отпуском рабочему дню. Я с головой ушел в дискуссию с собой о том, какой крем для бритья взять в поездку (хватит ли маленькой дорожной упаковки? не конфискуют ли в аэропорту тюбик нормального размера?), когда жена вдруг похлопала меня по плечу и с улыбкой протянула мне тест на беременность, на котором отчетливо виднелись две темно-розовые полоски.
«Неужели это правда? – мелькнуло в моей голове. – Неужели я действительно вижу две полосы? Мы что, действительно станем родителями?» Конечно, я был в восторге. Я давно мечтал о ребенке и часто фантазировал о разных забавных вещах, которыми когда-нибудь буду заниматься с сыном или дочкой (занятия, признаться, в основном сводились к тому, чтобы знакомить малыша с шедеврами музыки и кинематографии).
И вот теперь, пока я слушал лекцию в Исландии, радость будущего отцовства вдруг сменилась накатившим откуда ни возьмись ощущением тревоги.
А ведь перспектива стать родителем не слишком отличается от перспективы превращения в вампира…
Я сказал себе, что неплохо знаю, какой будет наша жизнь после рождения малыша, – у меня ведь есть знакомые с детьми! Я даже знаком с парой-другой детишек! Но понимаю ли я на самом деле, что это такое – быть родителем? Смогу ли я, став отцом, по-прежнему заниматься тем, что люблю, что мне действительно интересно? Хватит ли мне терпения, останется ли моя жизнь приятной и веселой, буду ли я и тогда хорошим мужем, смогу ли нормально спать?
Я раньше просил друзей больше рассказать мне о том, каково это – впервые стать родителем, и они в один голос твердили, что это здорово и на редкость значимо; они уже и не представляют иной жизни (пожалуй, за исключением бессонных ночей)… словом, все то, что ожидаешь услышать от молодых родителей.
Да-да, убеждали они меня, если можешь, то непременно это сделай. А что же происходило, когда я просил их дать мне чуть больше полезной информации? Мне отвечали, что это уже лишнее; чтобы по-настоящему узнать, что значит быть родителем, нужно просто завести ребенка.
И тут, на самом пике нарастающей в моей душе тревоги, профессор Пол резко прервала свой мысленный эксперимент. Она объявила, что история с превращением в вампира – не более чем тонко завуалированная аналогия со… становлением родителем! Ведь и то и другое – решение бесповоротное.
Проводя эту параллель, Пол высказала одну очень интересную и убедительную мысль: мы никогда не можем по-настоящему знать, каким окажется наше «я» в будущем. Даже самые удачные попытки путешествий во времени не позволяют нам достоверно узнать, что станут чувствовать и думать эти далекие версии нас. Ведь, как и в случаях с превращением в вампира и становлением родителем, когда мы превращаемся в новые версии себя – становимся собой в будущем, – наши мысли и чувства могут меняться совершенно непредсказуемо. Повторюсь, проблема тут не только и не столько в том, что нам не дано знать, какой будет наша обычная, повседневная жизнь. Скорее она в другом: мы не можем знать, что станем тогда думать и чувствовать, ведь к моменту перехода в свои будущие ипостаси наши мысли и чувства могут очень сильно измениться.
А это означает, что наше будущее характеризуется и определяется ощущением экзистенциальной неопределенности. Наши будущие «я» на каком-то уровне всегда будут для нас незнакомцами.
Но, знаете, услышав все это, я не впал в отчаяние, да и вам не советую.
Вспомните лучше урок из предыдущей главы: мы можем видеть связь – цепочку преемственности – между прошлым, настоящим и будущим «я» окружающих нас людей при условии, что их нравственные качества остаются с течением времени неизменными.
Иначе говоря, если мы уверены в том, что наши будущие «я» сохранят некоторые из наших основных нравственных ценностей, то, судя по всему, сможем позаботиться о них и спланировать свою жизнь с учетом их интересов, даже если они окутаны тайной и недоступны для познания. Я в ипостаси новоиспеченного отца, возможно, совершенный незнакомец для меня сегодняшнего, но если этот парень остается фанатом бейсбольной команды Red Sox, если он с сочувствием относится к людям и никогда не откажется от арахисового масла Reese’s (вы можете сказать, что это вряд ли очень важное нравственное качество, но я с вами не соглашусь), то, скорее всего, любые затраты моего времени на мысли о нем и на планирование жизни с учетом его интересов будут оправданны.
Но как мы должны думать о своих будущих «я»? Что позволяет нам видеть связи между собой сегодняшними и завтрашними? Или, точнее, думаем ли мы о своих «я» в будущем так, как если бы они были непрерывным продолжением нас сегодняшних, или так, будто это совсем другие, посторонние нам люди?
Как вам предстоит убедиться, лучшее понимание этого вопроса может стать отличным подспорьем при принятии вами сегодняшних решений.
Философы и чемодан
Впервые мы думаем о своей идентичности с точки зрения того, как нас видят окружающие, в удивительно юном возрасте, где-то между шестью и девятью годами; именно в это время дети начинают определять себя через их взаимоотношения с родными и друзьями[30]. С той поры мы все чьи-то сыновья, дочери, братья, сестры, родители, мужья и жены и т. д. Эта привычка проистекает из надежды: предполагая, что эти отношения останутся стабильными, мы накрепко привязываем к ним свою идентичность в надежде обеспечить и ее стабильность.
В предыдущей главе мы с вами говорили о паруснике древнегреческого героя Тесея и о том, как трудно определить, остаются ли объекты – и окружающие нас люди – со временем такими же или становятся другими. Этот вопрос касается и нашего собственного «я», но, поскольку мы знаем себя гораздо лучше, чем других, тут есть некоторые особенности. Если вам нужна полезная для ответа на вопрос о стабильности своего «я» во времени аналогия, представьте чемодан, купленный вами в самом начале жизни. Вы берете его с собой в поездку за поездкой, наполняя разными вещами и сувенирами. Со временем он становится потрепанным от лежания на багажных полках и потертым от таскания по аэропортам; внутри он залит шампунем и заляпан кремом для бритья. И все же, спроси я вас, вы, вероятно, скажете, что это все тот же чемодан, который вы когда-то купили, а не совершенно другой. То же и с вами самими: как тот старый чемодан, ваше «я» может со временем измениться и заляпаться (и вырасти во всех смыслах), но оно все равно остается одним целым – в основном благодаря прочным взаимоотношениям с окружающими.
На первый взгляд это кажется очевидным: ну конечно, время идет, а я остаюсь все тем же! А кем еще-то? А между тем у этой идеи единой, непрерывной, последовательной самости имелись весьма известные и авторитетные недоброжелатели. Дэвид Юм, шотландский философ XVIII века, решительно ее отвергал. В своем труде, весьма самонадеянно озаглавленном «Трактат о человеческой природе», он утверждал, что такой вещи, как «я», не существует[31]. Человек – это вам не чемодан.
Как он это объяснял? По Юму, чтобы что-то сохраняло свою идентичность, оно должно при переходе от любого заданного момента к следующему обладать одним и тем же набором свойств. А это явно не относится к людям, которые постоянно меняют свои мнения и предпочтения. Короче, по словам Юма, людям разумно решительно отказаться от идеи стабильности идентичности во времени.
Высказался по этому поводу и другой британский философ, Дерек Парфит. Парфит, умерший в 2017 году, был неординарным и блестящим мыслителем. Не желая тратить время на все, что не связано с писательством или научными изысканиями, этот парень всегда ходил в одном и том же: белый верх, черный низ. И большую часть взрослой жизни каждое утро ел на завтрак одно и то же: колбасу, йогурт, зеленый перец и банан, смешанные в одной миске[32]. (Эту диету Парфит назначил себе сам, решив, что именно так выглядит здоровое питание, но, узнав позже от друга-диетолога, что это не соответствует действительности, он на следующий же день сменил этот рацион и никогда к нему не возвращался.)
Как и Юм, Парфит был одержим проблемой идентичности. Чтобы исследовать парадоксы нашей самости, он изобретал разнообразные мысленные эксперименты, стараясь получить хоть некоторое представление о том, что же обеспечивает последовательность человеческой личности во времени. Включить его старые лекции сродни тому, чтобы одновременно смотреть эпизод «Звездного пути» и слушать лидера какого-то религиозного культа, рассуждающего о своих недавних откровениях. Высокий, худощавый, с изможденным лицом, внушительными очками и седыми волосами, он выглядит как абсурдная карикатура на современного философа.
Первым делом Парфит-лектор просит аудиторию представить машину-телетранспортер[33]. Эта штука копирует вас всего – ваше тело, разум, кожу, воспоминания – и переносит на Марс. А потом он предлагает подумать о новой, модернизированной версии транспортера. Вас им сканируют, но вы каким-то образом остаетесь на Земле, хотя копия ваша отправляется на Марс и живет там. Теперь вас двое. Но кто из этих двух «настоящий» вы?
По идее Парфита, ту же концепцию копий можно применить и к нашим «я» на временной шкале нашей жизни. Возможно, вместо одного постоянного «я» – стабильной идентичности – мы на самом деле больше похожи на набор отдельных самостей.
А вот еще одна аналогия, которая может помочь вам понять идею Парфита: думать о разнице между «единым “я”» и «отдельными самостями» как о разнице между индивидуальным предпринимателем и небольшим стартапом. Индивидуальный предприниматель, как единое «я», выполняет задачи многих людей, но остается при этом одним работником. С этой точки зрения мы остаемся одной отдельной личностью на протяжении всей своей жизни, хотя наши интересы, симпатии, убеждения и отношения со временем меняются.
А вот малый стартап, напротив, сродни модели «отдельной самости»: в нем работает группа людей, каждый из которых выполняет свою задачу. С этой точки зрения со временем у нас может появиться много разных «я», у каждого из которых свои интересы, симпатии, убеждения, таланты и т. д. Хотя все эти люди работают в одной компании, важно признать их различия.
Надо сказать, идея отдельных самостей немного выбивает людей из колеи. Когда я рассказываю о ней своим ученикам, то нередко сталкиваюсь со своего рода экзистенциальными мини-кризисами. Если я – коллекция отдельных самостей, то кто же я на самом деле? И еще: как нам привлекать людей к ответственности за совершенные ранее проступки, если их предыдущая версия совершенно отдельна от того, кто они сегодня? И что, получается, человек, за которого я когда-то вышла замуж, совсем другой, чем тот, за кем я замужем сейчас? (И если это так, то, боже мой, какой вообще смысл в свадебных клятвах?!)
По теории Парфита, тут огромное значение имеет ощущение связи каждого отдельного «я» с другими[34]. Подумайте еще раз о стартапе с несколькими сотрудниками. В процессе существования компании, по мере того как она развивается от новичка до более солидной организации, в нее могут приходить новые люди и уходить старые работники.
Пересекаясь друг с другом на несколько недель или месяцев, старые сотрудники передают новым важную информацию и культуру компании. А те, в свою очередь, в дальнейшем передадут все это будущим работникам. Таким образом, самых первых сотрудников с последующими связывают цепочки последовательных уз. Но в такой цепочке возможны разрывы (например, когда сотрудник работает совсем недолго и едва пересекается со своими преемниками), иногда какая-то информация просто не передается. И при определенном количестве таких разрывов некоторые более поздние сотрудники могут не чувствовать никакой связи с предыдущими. Они кажутся друг другу совсем чужими, полными незнакомцами.
Аналогичным образом и наши идентичности можно рассматривать как серию взаимосвязанных «я» из разных времен.
Каждое последующее «я» имеет много общего с идущим непосредственно перед ним и сразу после него. Но при определенной дистанции между двумя «я» – при их достаточном удалении во времени – часть этих связей начинает утрачиваться.
И в какой-то момент, когда расстояние между оставшимся в далеком прошлом и далеким будущим «я» становится значительным – проходит много времени, – они начинают казаться нам чужими и незнакомыми. Они представляются нам совершенно разными людьми.
Мое будущее «я» мне чуждо, ну и что?
Ладно, ну и что с того? Ну, кажутся нам будущие версии себя незнакомцами, в чем беда-то?
На самом деле это важно по очень простой причине: как известно, мы относимся к незнакомцам не так, как к тем, кого хорошо знаем. Возьмем для примера коллегу, с которым вы не слишком часто общаетесь. Кроме имени да отдела, в котором он работает, вы, в общем-то, совсем мало о нем знаете. И если бы он вдруг попросил вас помочь ему на выходных – скажем, перевезти мебель со старой квартиры в новую, – вы, вероятно, отказались бы. В конце концов, у вас и без того хватает забот и вы, безусловно, не обязаны помогать человеку, которого едва знаете. Даже самые добрые и любезные люди склонны действовать прежде всего в собственных интересах, отдавая приоритет себе, своим друзьям и родным. Мы, конечно, не всегда так поступаем, но обычно эта тенденция очень сильна.
Приведу один печальный пример. Где-то спустя год после появления вакцины от COVID-19 чаще всего полностью вакцинированными были наиболее уязвимые категории населения, в первую очередь пожилые (к концу 2021 года в США полностью вакцинировались 89 % взрослых старше 65 лет)[35]. И это понятно, ведь, в конце концов, это было в их интересах: они подвергались наибольшему риску. А вот в категории от 25 до 49 лет к концу 2021 года в США полностью вакцинировались всего около двух третей. Для этой более молодой группы, которая считалась гораздо менее уязвимой для вируса, одно из основных преимуществ вакцинации – кроме предотвращения тяжелого течения болезни – заключалось в том, чтобы не допустить заражения окружающих и остановить распространение COVID-19[36]. Короче говоря, судя по этому результату, если некое действие приносит пользу лично нам, мы выполним его с большей вероятностью. А вот если бенефициарами становятся совершенно незнакомые нам люди, мы можем действовать опять же в собственных интересах; тут, конечно, встречаются оговорки, но, если говорить о категории взрослых людей помоложе, это означало, что, когда речь шла о заботе об окружающих, далеко не все утруждали себя вакцинацией.
А теперь соединим точки: если мы видим свои будущие «я» как незнакомцев и изначально склонны действовать в собственных интересах, какая рациональная причина заставит нас делать что-либо ради их пользы, отказывая в чем-то себе сегодня? Это же, по сути, нелогично!
Лишний кусок шоколадного торта вреден для моей талии? И что? Это же будет уже не моя талия, а моего будущего «я», которого я и знать не знаю! Выложить больше денег на телевизор более высокого класса или вложить их в пенсионный план? Да что тут думать, – конечно, новый телевизор! Кого волнует моя будущая пенсионная версия? Это же просто какой-то незнакомец. Пойти в спортзал или посмотреть очередной сериальчик Netflix? Безусловно, второе: зачем пахать на тренажерах из-за какого-то будущего «я»?
Дерек Парфит объясняет эту концепцию на примере подростка, решившего закурить. Парень знает, что курение, скорее всего, сильно навредит его будущему «я», но это вряд ли его заботит. «Этот мальчик, – пишет Парфит, – не отождествляет себя со своей будущей самостью. В некотором роде он относится к ней так же, как к чужим людям»[37].
Или возьмем философский скетч известного американского стендап-комика и сценариста Джерри Сайнфелда. На своих стендап-выступлениях в 1990-х он говорил о странности телерекламы бытовой техники, которую транслировали тогда в огромном количестве; продавцы предлагали под Рождество товар с первым платежом только в марте следующего года. Никаких выплат до марта? Да, может, этот март вовсе никогда не настанет! Конечно, сейчас у меня денег нет, но у того парня в марте, вот у него, вполне возможно, и найдутся. Но, как отмечал Сайнфелд, еще любопытнее то, что рассуждающий так человек совершает точно такую же ошибку и по отношению к собственному организму, ложась спать далеко за полночь и ничуть не беспокоясь о том, как будет чувствовать себя его утреннее «я» после жалких пяти часов сна.
И вот встаешь ты утром по звонку будильника, вконец измочаленный и обессиленный… Ох, до чего же ты ненавидишь этого «ночного» парня! Так уж выходит, что он вечно изводит «утреннего». И «утренний» ничего не может с этим поделать. Ему остается только вечно просыпать и опаздывать на работу, из-за чего «дневного» парня в конце концов увольняют, а у «ночного» больше нет бабок, чтобы зависать по ночам[38].
Когда Сайнфелд рассказал об этой проблеме на Tonight Show, ведущий Джей Ленно выслушал его, а затем предложил решение: «Но ведь если “утренний” парень начнет вставать очень рано, то “ночной” к вечеру будет ужасно вымотан и ему будет не до гулянок!» «Ну да, – ответил Сайнфелд и после небольшой паузы добавил: – Только если “дневной” парень часок не вздремнет днем».
Так Сайнфелд с характерным для него остроумием формулирует извечную истину, впервые замеченную философами: мы, люди, и правда нередко относимся к себе в будущем так, будто это незнакомые, чужие для нас люди.
Чтобы лучше понять этот парадокс, людям нужно тщательнее изучить свои разум и мозг; в итоге это, возможно, научит нас быть добрее к своим будущим «я».
О днях рождения и чрезмерных возлияниях
Представьте свой очередной день рождения. Ну, что вы видите?
А теперь представьте свой день рождения в далеком будущем, скажем лет через двадцать. Что видите теперь?
Скорее всего, в обоих случаях вы подумали о типичных вещах, связанных с днями рождения: торт, напитки и друзья.
Но чем-то эти два сценария все же различались?
Эмили Пронин, профессор психологии из Принстонского университета, задала вариации этих вопросов двум разным группам людей. Первую попросили письменно описать, что они сейчас едят (опрос проходил в университетских столовых). И эти респонденты описывали свою еду в основном от первого лица и, так сказать, в прямом эфире.
А вторую группу попросили описать, что они будут есть в отдаленном будущем (коим студенты обычно считают «некое время после сорока»). И их ответы имели одно ключевое отличие: многие описывали еду не от первого лица, а от третьего. Они писали о себе в будущем так, будто были сторонними наблюдателями: например, использовали для описания своих будущих «я» местоимения «он» или «она», а не «я»[39].
В их воображении их будущее «я» представало другим человеком!
Далее профессор Пронин решила узнать, имеет ли такой угол зрения какие-либо конкретные последствия: возможно, из-за этого мы и относимся к себе в будущем как к кому-то постороннему? Чтобы найти ответ, профессор спросила студентов, смогут ли они выпить отвратительный на вкус напиток. Пронин слукавила, сказав испытуемым, что работает над изучением отвращения, которое вызывает у людей поглощение «откровенно неприятной на вкус жидкости» (отвратительного вида смесь на самом деле состояла из кетчупа, соевого соуса и воды). Чтобы убедить студентов попробовать эту гадость, Пронин напомнила им, что так они вносят свой вклад в развитие науки.
И тут началось самое интересное. Одну группу спросили, сколько этой мерзкой жижи они готовы выпить сразу по окончании опроса. Второй задали тот же вопрос, но сказали, что из-за административных проблем им надо будет сделать это только в начале следующего семестра (и что если они не придут тогда в лабораторию, чтобы выполнить обещанное, то потеряют балл за участие в исследовании). А третью группу спросили, какое количество отвратительного напитка они могли бы предложить выпить участнику следующего исследования.
В среднем люди соглашались прямо сейчас проглотить около трех столовых ложек отвратительной смеси (честно говоря, меня это удивило: судя по всему, студенты Принстона способны ради науки действительно на многое). Когда речь шла о передаче этой «чести» кому-то другому, объем мерзкой жижи вырос до половины стакана (около восьми столовых ложек). А как же обстояло дело с будущими «я» респондентов? Все те же полстакана[40].
А это, вероятно, значит, что мы не просто видим свое будущее «я» так, будто это совершенно другой человек, – мы и относимся к нему соответственно[41].
Мэтт Дэймон, Натали Портман и аспирант входят в комнату…
Как известно, МРТ-сканеры – аппаратура страшно дорогая в использовании. (Возможно, вы имели удовольствие побывать внутри одного из таких агрегатов. Лежишь минут сорок пять, словно в каком-то шумном гробу.) В стоимость входят расходы на техобслуживание машины, обслуживающий персонал, а также физиков и компьютерщиков, которые следят за работой соответствующих программ. В итоге использование МРТ-сканера может обойтись исследователю больше чем в тысячу долларов в час.
Только если… не пользоваться им с полуночи до четырех утра. Тогда придется выложить вдвое меньше. Поскольку я находился на том этапе аспирантской карьеры, когда мог позволить себе не спать ночами, но не имел практически никакого доступа к финансированию собственных исследований, в центр нейровизуализации Стэнфордского университета я явился в половине первого ночи. Моя цель заключалась в том, чтобы понять, нет ли в человеческом мозге какой-либо основы для идеи, будто наше будущее «я» может быть другим человеком, который отличается от «я» сегодняшнего.
Помещение было холодным и стерильным. Кроме гигантского МРТ-сканера больничного класса, напротив огромного окна там стояли только несколько компьютеров. Однако, в отличие от типичного МРТ-аппарата, который используется в больницах для получения изображений легких и коленных суставов, внутри этого было ложе и маленькое зеркало, на которое с компьютера выводились разные образы. На следующий день результаты сканирования обработали, и я смог пронаблюдать за активностью головного мозга участников моего исследования по ходу смены разных мыслей и чувств.
Психологов, использовавших такого рода функциональную МРТ (фМРТ), в числе первых интересовал такой вопрос: способен ли человеческий мозг четко распознать, что «я», а что «не-я»? Иными словами, способен ли он проводить различие между «я» человека и другими людьми? На первый взгляд этот вопрос может показаться сугубо научным, но, возможно, обнаружение собственного «я» в мозге человека представляет собой важнейший шаг к пониманию добросовестности (сознательности).
Итак, одна группа исследователей просила людей прийти на сканирование, улечься в аппарат и просматривать список характеристик личности (например, «смелый», «разговорчивый», «зависимый»), которые по очереди вспыхивали на экране над их головами. А непосредственно над этими словами испытуемые видели надпись: либо «я», либо «Буш» (в то время президентом США был Джордж Буш – младший, и это имя показалось ученым удачным вариантом для обозначения другого человека). Участник исследования держал в руке пульт с кнопками. Задача его была предельно проста: если слово-характеристика было, по его мнению, применимо к человеку, о котором он в этот момент думал, видя соответствующую надпись (о себе либо о Джордже Буше), ему нужно было нажать одну кнопку; если нет – вторую.
В нашем мозге есть зона, известная как медиальная префронтальная кора; она находится сразу за лбом. Размером она не больше кредитной карты. Так вот, когда люди думали о себе, эта зона проявляла большую активность, чем когда они думали о другом человеке[42]. Иными словами, Джордж Буш ее особо не интересовал – ее заботил тот, в чьей голове она находилась.
Для неврологов и социальных психологов это было чрезвычайно важное открытие: оно показало, что в «я» действительно есть что-то особенное.
Статья об этом исследовании меня заинтриговала. Я задумался над таким вопросом: если наш мозг способен четко разграничить «я» и «не-я» и если мы часто видим свое будущее «я» как другого человека… то, возможно, оно и правда выглядит в нашем мозге как незнакомец?
И я решил поделиться этой идеей с одним из моих наставников, психологом и профессором неврологии Брайаном Кнутсоном, и узнать, не одобрит ли он мой проект и не заплатит ли за то, что я проведу пару-другую исследований с использованием сканера.
Надо сказать, у Брайана IQ выше, чем у большинства знакомых мне людей, и он всегда, практически не задумываясь, отказывается от проектов, которые кажутся ему неинтересными. Так что я был в полном восторге, когда моя идея очень его заинтересовала; он был готов начать немедленно.
Условия исследования были просты и вам уже в целом знакомы. Испытуемые, лежа в сканере, должны были выносить суждения о словах-характеристиках в плане их применимости к их нынешнему «я», будущему «я» и другому человеку в текущий момент и через десять лет.
Предыдущие исследователи использовали в качестве другого человека Джорджа Буша, но мы решили, что это не слишком хорошая идея. Дело в том, что на момент реализации моего проекта Буш считался уже довольно неоднозначным политиком – совсем не то что во времена предыдущего исследования.
Но кого же взять? Поразмыслив, мы решили, что сделать выбор нам помогут студенты, и попросили ребят назвать самых известных и при этом наименее противоречивых людей из всех, кого они знают. Большинством голосов победили двое: Мэтт Дэймон и Натали Портман.
Дело было в 2007 году; сегодня имена наверняка оказались бы другими, но нам требовалось найти любых людей, главное – чтобы они были знаменитостями и при этом не особенно спорными. Это было необходимо для уверенности в том, что любые отличия, которые мы увидим в мозге испытуемых, будут объективными, а не вызванными какими-то другими факторами, скажем сильными эмоциями.
На представленном ниже рисунке показано, что происходит в части человеческого мозга, способной провести четкое различие между собственным «я» и другим человеком. Линиями отображается кровоток к этой зоне; это один из верных способов измерения активности той или иной части мозга, когда его владелец о чем-то думает или что-то чувствует (чем больше приток, тем, соответственно, выше активность).

Горизонтальная ось представляет собой временную шкалу сканирования: слева – момент, когда участнику исследования показывали слово-характеристику; ближе к центру – момент примерно через четыре секунды после этого. Именно в этот миг можно наиболее отчетливо увидеть воздействие конкретной мысли на кровоток в конкретной части головного мозга.
Думаю, вы сами отлично видите, что происходит. Проследите за пунктирной серой линией – это активность мозга, порождаемая нашими мыслями о своем будущем «я»[43]. Очевидно, что она практически полностью повторяет линию активности, вызванной мыслями о другом человеке, как в настоящем, так и в будущем.
Думаю, тут будет нелишним еще раз повторить: наше будущее «я» в нашем мозге больше похоже на другого человека, чем на наше текущее «я»!
Брайан, мой консультант, попросил меня повторить исследование – просто чтобы удостовериться в надежности этих выводов. Но и после того, как я провел у сканера еще два месяца бессонных ночей, результаты были теми же.


