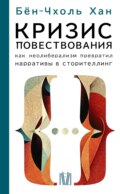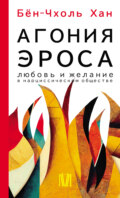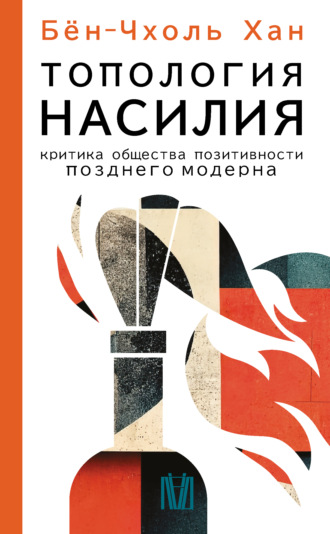
Хан Бён-Чхоль
Топология насилия. Критика общества позитивности позднего модерна
Широко распространенному мнению, что война в архаическом обществе является в первую очередь борьбой за выживание, которая возникает на почве дефицита жизненно важных благ, Пьер Кластр противопоставляет тезис, что в основе войны лежит исключительно агрессия. В отличие от Леви-Стросса, предложившего корреляции между войной и обменом, он кладет в основу войны только ей присущую разрушительную энергию, которая никак не зависит от торговли и обмена 22. Архаическое общество живет в сравнительной самодостаточности, так что ему нет нужды вступать в войну за редкие блага. Война служит лишь тому, чтобы защитить автономию и идентичность группы от посягательств со стороны других: «Для каждой локальной группы все остальные являются чужими: фигура чужака убеждает данную группу в том, что ее идентичность есть некое автономное “мы”. Что равнозначно пребыванию в перманентном состоянии войны <…>»23. Перманентная война создает центробежную силу, благодаря которой появляется множественный мир, ведь она противодействует единству или объединению. Она препятствует образованию государства – в этом состоит самый главный и вместе с тем весьма спорный тезис Кластра. Он делает допущение, что архаическое общество осознанно отвергает государство, что оно перманентно ведет войны для того, чтобы тем самым воспрепятствовать образованию государства. Будучи «обществом против государства», архаическое общество представляет собой «общество войны». Кластр провоцирует: «Не будь врагов, их следовало бы выдумать»24. Государство – это сложное властное образование. В его основе лежит представление о власти как об иерархическом отношении господства, каковым представлением, однако, архаическое общество не располагает по причине присущей ему структуры сознания 25.
В модерне архаическая экономия насилия не исчезает. Гонка ядерных вооружений подчиняется именно архаической экономии насилия. Разрушительный потенциал накапливается подобно мане, дабы создать чувство власти и неуязвимости. На глубинно-психологическом уровне сохраняется архаическое верование, что накопленный потенциал убивать защищает от смерти. Чем больше насильственных смертей, тем меньше риска умереть самому – так это интерпретируется. Даже капиталистическая экономика обнаруживает удивительную близость архаической экономике насилия. Вместо крови она пускает поток денег. Между кровью и деньгами – сущностное родство. Капитал действует как современная мана. Чем больше его человек сосредотачивает в своих руках, тем более могущественным, неуязвимым, бессмертным он себя мнит. Сама этимология денег указывает на контекст культа и жертвоприношения. В связи с этим делается допущение, что деньги изначально были средством обмена, с помощью которого приобретали животных для жертвоприношений. Поэтому если у кого-то было много денег, это означало, что он имел множество жертвенных животных, которых он в любой момент мог заклать. Тем самым количеством доступного ему смертоносного насилия такой человек уподоблялся хищнику 26. Деньги или капитал являются поэтому средством против смерти.
На глубинно-психологическом уровне капитализм тесно связан со смертью и со страхом смерти. В этом состоит его архаическое измерение. Истерия накопления и роста с одной стороны и страх смерти с другой обуславливают друг друга. Капитал можно рассматривать как свернутое время, ведь имея деньги, можно заставить работать на себя других. Бесконечный капитал создает иллюзию бесконечного времени. Накопление капитала работает против смерти, против абсолютной нехватки времени. Перед лицом краткости жизни человек накапливает капитал, как время.
Алхимия совершает трансмутацию неблагородных металлов в благородные. В первую очередь неблагородным считается свинец. Он принадлежит Сатурну – богу времени. В Средневековье он часто изображается в виде седой старухи с косой и песочными часами, которые символизируют безвозвратно прошедшее и смерть. Алхимическое превращение свинца в золото равносильно попытке магическим образом отменить время и прошлое, обретая бесконечность и бессмертие. Aurum potabile[17] – это обещание вечной юности. Преодоление смерти – это пища алхимического воображения, которая питает и капиталистическую экономику с ее истерией роста и накопления. С этой точки зрения фондовая биржа есть vas mirabile[18] современного капитализма.
Экономия спасения следует той же логике накопления. Для кальвинистов лишь экономический успех является certitudo salutis[19] – признаком того, что человек принадлежит к кругу избранных, что ему удастся избежать вечного проклятия. Бесконечное накопление (Erlös) равносильно спасению (Erlösung). Страх не быть спасенным тесно связан со страхом смерти и порождает присущее капитализму навязчивое стремление накапливать. Человек инвестирует в спасение и спекулирует на нем. Между архаической экономией маны, капиталистической экономией капитала и христианской экономией спасения существует аналогия. Все они представляют танатотехнику, которая служит тому, чтобы упразднить смерть, заговорить ее.
Капиталистическая экономия абсолютизирует переизбыток жизни. Она хлопочет не о хорошей жизни . Она подпитывается иллюзией, что больший капитал дает больше жизни, больше жизненной силы. Окоченевшее, строгое отделение жизни от смерти саму жизнь пронизывает жутким оцепенением. Забота о хорошей жизни уступает место истерии жизненного переизбытка. Сведе́ние жизни к биологическим, витальным процессам срывает с жизни покровы. Избыточная жизнь сама по себе непристойна. Из-за этого переизбытка жизнь лишается живости, которая гораздо сложнее, чем просто витальность или здоровье. Одержимость здоровьем возникает там, где жизнь стала голой как монета и лишилась всякого нарративного содержания. Перед лицом атомизации общества и эрозии социального остается лишь тело, принадлежащее Я, которое нужно любой ценой держать здоровым. Утрата идеальных ценностей приводит к тому, что наряду с выставочной ценностью требующего к себе внимания Я остается лишь ценность здоровья. Голая жизнь заставляет исчезнуть всякую телеологию, всякое ради-чего, ради которого человек мог бы быть здоровым. Здоровье замыкается на самом себе и опустошает само себя до целесообразности без цели.
Жизнь никогда не была столь преходящей, как сегодня. Ничто не может гарантировать длительность и наличие. Из-за нехватки бытия возникают неврозы. Гиперактивность и ускорение жизненного процесса – словно попытка компенсировать ту пустоту, которая является предвестником смерти. Общество, охваченное истерией выживания, есть общество живых мертвецов, которые не могут ни жить, ни умереть. Эту фатальную диалектику выживания осознает и Фрейд, завершая свое эссе «В духе времени о войне и смерти» изречением Si vis vitam, para mortem («Если хочешь сохранить жизнь, готовься к смерти»)2728. Поэтому нужно отвести смерти больше места в жизни, чтобы сама жизнь не закостенела, став неупокоенной жизнью: «Разве не было бы правильнее предоставить смерти то место, которое ей и полагается занимать в действительности и в мысли, а нашей бессознательной установке по отношению к смерти – установке, которую мы до сих пор так старательно подавляли, – позволить чуть больше проявиться? В этом, как кажется, нет ничего возвышенного, в некоторых отношениях такое действие выглядит как шаг назад, как регрессия, но у него тем не менее есть то преимущество, что благодаря ему мы в большей степени считаемся с действительностью, а жизнь снова становится для нас выносима»29 (перевод мой. – С. М.).
3. Психика насилия
Психический аппарат у Фрейда является системой негативности. Сверх-Я манифестируется как инстанция сурового приказания и запрета: «Сверх-Я сохраняет характер отца, и чем сильнее был эдипов комплекс, чем скорее (под воздействием авторитета, религии, обучения и круга чтения) происходит его вытеснение, тем строже Сверх-Я будет позднее господствовать над Я – либо как совесть, либо как бессознательное чувство вины»30 (перевод мой. – С. М.). Сверх-Я проявляет себя в «категорическом императиве» с «непреклонностью и жестокостью повелевающего “ты должен”»31 (перевод мой. – С. М.), с присущим ему «характером сурового ограничения и жестокого запрета». Оно свирепствует над Я с «неистовой силой»32 (перевод мой. – С. М.). Его главный модальный глагол – «должен» – делает из Я послушного субъекта: «Как ребенок должен был слушаться своих родителей, так и Я подчиняется категорическому императиву Сверх-Я»33 (перевод мой. – С. М.). Сверх-Я является интернализированной инстанцией господства, за которой стоит бог, суверен или отец. Это другой как он есть. Насилие здесь постольку является насилием негативности, поскольку оно исходит от другого. Оно проявляет себя как репрессия в контексте отношений господства.
Сопротивление, отрицание и вытеснение у Фрейда организуют психический аппарат как систему негативности. Он находится в состоянии перманентного антагонистического напряжения между влечением и вытеснением. Само бессознательное обязано своим присутствием вытеснению. Бессознательное и вытеснение по Фрейду «тесно взаимосвязаны»34 (перевод мой. – С. М.). Вытесненная репрезентация влечения «разрастается впотьмах» и принимает «крайние формы выражения», которые к тому же обретают разрушительные черты. Симптомы истерии или невроза навязчивости позволяют сделать вывод о высоком содержании насилия, действующего внутри психического аппарата. Он напоминает поле боя, на котором разворачиваются такие действия, как взятие, бегство, отступление, маскировка, вторжение и инфильтрация. Я, Оно и Сверх-Я ведут себя в конечном счете как противоборствующие лагеря, образующие единую и отчетливую линию фронта. Да, конечно, при случае они заключают и перемирия, однако эти перемирия покоятся на очень неустойчивом балансе сил.
Фрейд последовательно придерживается схемы негативности при описании психических процессов. Поэтому он постоянно идет по следам другого, который ускользает от Я, пытающегося его присвоить. Выздоровление от психического заболевания состоит соответственно в том, что Я удается полностью присвоить Оно. Меланхолию он тоже возводит к другому, который гнездится внутри Я и тем самым его меняет. Как и горе, меланхолия начинается с отказа от любимого объекта. В противоположность горю и работе горя, которая отводит либидо от объекта утраты и тем самым получает возможность нагружать новый объект, при меланхолии объект интернализируется. По причине того, что энергия нагрузки слабая, объект как раз без труда оставляется, однако ставшее свободным либидо не нагружает никакого нового объекта. Скорее, оно вызывает нарциссическое отождествление с объектом:
«Сначала имел место выбор объекта, а либидо вступило в связь с определенным человеком; затем, под влиянием действительной болезни или в результате разочарования в любимом человеке, эта связь обрывается. В итоге мы имеем ненормальную ситуацию отведения либидо от объекта с последующим его смещением на новый объект <…>. Объектная нагрузка оказалась не столь устойчивой, она упраздняется, однако высвободившееся либидо не смещается на другой объект, а втягивается внутрь Я. Там либидо, однако, находит себе вполне конкретное применение, ведь оно служит идентификации Я с оставленным объектом. <…> Таким образом, <…> конфликт между Я и любимым человеком превращается в раздвоенность самого Я на критикующую часть и ту часть, которая образовалась в результате идентификации»35. Оставленный объект, с которым Я состоит в амбивалентных отношениях, отчасти внедряется в Я, становясь его частью. Критика, адресованная покинутому объекту, а значит, и другому, тем самым превращается в самокритику. В действительности адресованные самому себе упреки и самоуничижение предназначены другому другому, который отныне является частью Я. Меланхолия ведет к расщеплению Я. Одна часть Я обращается против другой, критикует и принижает ее: «Поводом для меланхолии может послужить далеко не только само собой разумеющийся случай утраты по причине смерти, но также и все те ситуации болезни, унижения и разочарования, из-за которых в отношения либо привносится противоположность любви и ненависти, либо усиливается уже имеющаяся амбивалентность. <…> Если любовь к объекту <…> отступила в нарциссическую идентификацию, в таком случае на этот эрзац-объект обрушивается ненависть, которая его поносит, принижает, мучает и через его мучения удовлетворяет свой садизм»36 (перевод мой. – С. М.). Отождествление с объектом превращает садизм в мазохизм. Окольным путем самонаказания и самоистязаний Я мстит исходному объекту.
Здесь не столь важен вопрос, правильно Фрейд понимает меланхолию или нет. Важна лишь сама его объяснительная модель. Меланхолия – болезненное и нарушенное отношение к самому себе. Фрейд понимает его как чуждое отношение, как отношение к другому. Насилие, которое меланхолик причиняет самому себе, является в той мере насилием негативности, в которой оно направлено на другого внутри Я. Другой у меня внутри – это формула негативности, которую фрейдовский психоанализ организует повсеместно.
У Фрейда психический аппарат – это репрессивный аппарат принуждения и господства, который действует через приказания и запреты, через принуждение и подавление. Он, в точности как дисциплинарное общество, утыкан стенами, барьерами, порогами, клетками, блокпостами. Фрейдовский психоанализ из-за этого возможен только в таких репрессивных обществах, как общество суверенитета или дисциплинарное общество – обществах, которые свою организацию основывают на негативности запрета и приказа. Сегодняшнее общество, однако, общество производительности, которое все больше и больше отказывается от негативности запрета и приказа и считает себя обществом свободы. Модальный глагол, соответствующий производительному обществу, – не фрейдовское «должен», а «можешь». Это преобразование общества влечет за собой переструктурирование души изнутри. Производительный субъект позднего модерна обладает совершенно иной психикой, нежели послушный субъект, к которому применим фрейдовский психоанализ. С точки зрения Фрейда, в психическом аппарате правят отрицание и вытеснение, страх перед совершением проступка. Я – это «состояние тревоги»37 (перевод мой. – С. М.). Я испытывает тревогу перед большим другим. Производительный субъект позднего модерна не силен по части отрицания. Это субъект утверждения. Если бы бессознательное было связано исключительно с негативностью отрицания и вытеснения, тогда у современного производительного субъекта больше не было бы бессознательного. Мы бы имели постфрейдовское Я. Фрейдовское бессознательное не является вневременным образованием. Оно является продуктом негативности, которая в виде запрета и приказания господствует в дисциплинарном обществе, которое мы, однако, давно оставили позади.
Работа, которую совершает Я у Фрейда, состоит прежде всего в исполнении долга. Этим оно похоже на кантовского послушного субъекта. У Канта вместо Сверх-Я – совесть. Его моральный субъект также подвергается насилию: «Каждый человек имеет совесть, и он всегда ощущает в себе внутреннего судью, который наблюдает за ним, грозит ему и вообще внушает ему уважение (связанное со страхом), и эту силу, стоящую на страже законов в нем, не он сам (произвольно) себе создает, она коренится в его сущности»38. И у Канта субъект расщеплен изнутри. Речь идет о приказании, которое отдает другой, который при этом является частью тебя самого: «Эти изначальные интеллектуальные и (так как они представление о долге) моральные задатки, названные совестью, отличаются тем, что, хотя дело совести есть дело человека, которое он ведет против самого себя, разум человека вынуждает его вести это дело как бы по повелению некоего другого лица»39. На основании этого расщепления личности Кант говорит о «двойном Я» или о «двойственной личности»40. Моральный субъект является одновременно судьей и обвиняемым.
Послушный субъект – субъект не удовольствия, а долга. Поэтому и кантовский субъект предается работе долга и подавляет свои «наклонности». При этом у Канта Бог – это «моральное существо, имеющее власть над всем», не только в качестве карающей и судящей инстанции, но и в качестве инстанции вознаграждающей. Моральный субъект, как субъект долга, подавляет как раз все приносящие удовольствие наклонности ради добродетели, однако моральный Бог вознаграждает его счастьем за болезненный труд. «Счастье распределяется в точной соразмерности с нравственностью»41. Моральный субъект, готовый терпеть боль из нравственных соображений, может быть полностью уверен в том, что будет вознагражден. Здесь не нужно бояться кризиса вознаграждения, ведь Бог не обманывает и на него можно положиться.
Производительный субъект позднего модерна не совершает никакой работы долга. Не послушание, закон и исполнение долга, но свобода, удовольствие и склонность – вот его максимы. От работы он ожидает прежде всего удовольствия. Не действует он и по воле другого. В гораздо большей степени он прислушивается лишь к самому себе. Ему приходится быть самому себе предпринимателем. Так он избавляется от негативности приказывающего другого. Такая свобода от другого, правда, не только эмансипирует и освобождает. Диалектика свободы развивает новые формы принуждения. Свобода от другого превращается в нарциссическое замыкание на себе, ответственное за самые разные психические нарушения, которыми страдает производительный субъект.
Отсутствующая связь с другим становится причиной кризиса вознаграждения. Вознаграждение как признание предполагает инстанцию другого, инстанцию третьего лица. Невозможно вознаграждать или признавать самого себя. У Канта инстанцией вознаграждения является Бог. Он вознаграждает и признает моральные достижения. Из-за нарушения структуры вознаграждения производительный субъект чувствует, что сделал недостаточно, что нужно делать больше. Отсутствие связей с другим является поэтому трансцендентальным условием возможности для наступления кризиса вознаграждения. Часть ответственности за это следует возложить на сегодняшние производственные отношения. Доведенная до конца работа как результат выполненного, завершенного труда больше невозможна. Производственные отношения сегодня препятствуют как раз самому завершению. Человек скорее работает в открытости. Не хватает форм завершенности, которые могли бы обозначить начало и конец.
Сенетт также объясняет кризис вознаграждения через нарциссическое нарушение и нехватку связей с другим: «Как расстройство личности нарциссизм – крайность, противоположная ярко выраженному себялюбию. Поглощенность собой производит не удовлетворение, а личностную травму; стирание грани между собой и другим значит, что ничего нового, ничего “другого” вообще не может проникнуть в самость; она впитывается и преобразуется до тех пор, пока вы, наконец, не начинаете видеть себя в другом, сама становясь в этот момент бессмысленной. <…> Нарцисс стремится не к переживаниям, а к Опыту. Постоянно ища выражения или отражения себя в Опыте. <…> Человек «тонет» в собственной самости»42. Новый опыт – это встреча с другим. И этот опыт преобразует. Пережитое же, напротив, продлевает Я – в другом, в мире. Поэтому пережитое стирает различия. Самолюбие еще и потому определяется негативностью, что оно отвергает и обесценивает другое в пользу своего. Свое противопоставлено другому. Тем самым поддерживается граница, отделяющая от другого. Кто любит самого себя, тот нарочито противопоставляет себя другому. При нарциссизме, напротив, эта отделяющая от другого граница размывается. Страдающий от нарциссического расстройства человек тонет в самом себе. Если связь с другим полностью утрачивается, у человека не возникает и никакого стабильного образа самого себя.
Сенетт справедливо связывает психические нарушения сегодняшнего индивидуума с нарциссизмом, извлекая из этого, однако, неверные выводы: «Постоянное повышение ожиданий, из-за чего поведение никогда не бывает удовлетворительным, – это западание “завершения”. Осознание достижения цели избегается, потому что опыт тогда оказался бы объективированным; он имел бы очертания и форму, и поэтому существовал бы независимо от личности. <…> Самость реальна, только если она непрерывна; а непрерывна она, только если вы осуществляете постоянное самоотрицание. Когда происходит завершение, опыт как бы отдаляется от самости, и поэтому человеку как будто грозит потеря. Таким образом, основное качество нарциссического импульса состоит в том, что он должен быть постоянным субъективным состоянием»43. Согласно Сенетту, нарциссический индивид потому намеренно избегает достижения целей или доведения чего- нибудь до конца, что завершение дает появиться объективированному образу, который не зависит от самости, а значит, и ослабляет ее. В действительности же все наоборот. Как раз социально обусловленная неспособность объективно значимых, окончательных форм завершения загоняет субъекта в нарциссическое повторение самого себя, из-за которого ему не удается обрести никакого гештальта, никакого стабильного образа самого себя, никакого характера. Поэтому чувство достигнутой цели не «избегается» сознательно ради усиления чувства самого себя. Скорее, само чувство достижения цели никогда не возникает. Дело не в том, что нарциссический субъект не хочет прийти к завершению. Он теряет себя, распыляет себя в открытости. Нехватка форм завершения не в последнюю очередь обусловлена экономически, потому что открытость и незавершенность способствуют росту.