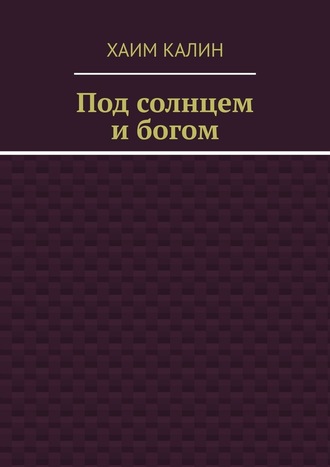
Хаим Калин
Под солнцем и богом
На поприще корпоративных тайн и взаиморасчетов Иоганн усердствовал давно и слишком многое знал. Владел такими секретами, что и через двести лет историкам их не разворошить. А скорее, до тех пор, пока арматура государства – субстанции, лелеющей отнюдь не демос, а корпоративную элиту – сохранится, устоит.
Чем больше прирастало кругов под корой его кровавой, смердящей расчлененкой жизни, тем мрачнее Иоганн глядел в свой завтрашний день, понимая, что по меньшей мере двукратно свой кредит доверия исчерпал.
Упаси боже, его лояльность нареканий не вызывала, малейших поводов усомниться в своей честной игре Иоганн боссам не давал. Вместе с тем он свято верил, что человек – раб своей утробной сущности, за жизнь готовый обменять не то что интересы общности, его взрастившей, а само магнитное поле Земли. Его насчитывающий без малого два десятилетия «лабораторный» опыт, прочих коннотаций не подбрасывал, притом что среди «подопечных» встречались личности незаурядные, а порой и признанные вожди, волей и харизмой увлекавшие массы.
Иоганн уже давно просился на пенсию, ссылаясь на выслугу лет и ностальгию по родине, но Центр неизменно отказывал. При этом Иоганн сознавал, что даже дома, в построившей изоляционизм стране и вырастившей на этой ниве невиданные всходы, но так и не заткнувшей глотки всем и каждому, он опасен, если, конечно, не запереть его в одиночке, приставив в стражники робота. На Западе же, продуваемом масс-медиа, словно духовой трубой, его перешагнувшее все технологические нормативы «вяление» было, по его разумению, преступным, невзирая на тот уникальный опыт, от которого он давно распух, как сломанная конечность.
Солнечный зайчик замельтешил в его душевном затмении вновь, когда бюджет на довольствие и командировочные расходы год назад резко увеличили. Но одновременно преобразился и характер заданий, хотя и не всех. Подскочило число одноходовок, где в объективке скучало лишь фото мишени, с «памятной» записью времени и места на обороте. Прежде такую халяву подбрасывали редко, стараясь без нужды им не рисковать. Спец-то он уникальный, всеохватной квалификации. Иоганн выделялся не меткостью «селекции», а особыми навыками селекцию проводить. Иными словами, талантом выследить мишень, которая, обрубив концы, бесследно исчезала, либо квартировала в труднодоступных местах под зонтом вооруженной охраны.
Появился оффшорный счет, за движением средств на котором обязали отчитываться. В скором времени туда потекли внушительные номиналы, по внешним признакам – расчеты за проведенные ликвидации. Часть средств обналичивалась на расходы, но львиную долю он по командам из Центра перебрасывал в другие оффшоры.
Через полгода лафы Иоганн «дозрел», что одноходовками он обслуживает не Центр, а, очень похоже, группировку североатлантического созыва. Из чего следовало: его патроны прирабатывают, осваивая некий субподряд. Быть может, получив добро от партократов, проникшихся идеей конвергенции, или же в частном порядке, набивая карманы на свой страх и риск. И те огромные суммы, которые наводняют его счет, не что иное, как гонорары за «сенокос», переводимые западными заказчиками.
Разобраться в смене курса не составило труда. В Европе свой прежний контингент он изучил давно, исключения из правил случались нечасто. В прицеле его стеклянных глаз мелькали по большей мере норовившие поживиться на новейшей истории лица.
Европейский планшет Иоганна, с затесавшимися в него Канадой и США, рябил пестротой персонажей: отставные немецкие дипломаты, грозившиеся обнародовать нечто отвратнее, чем пакт Молотова-Риббентропа, если Москва не раскошелится, офицеры вермахта и слинявшие на Запад славяне-полицейские, прихватившие в СССР музейные ценности, но где-то проболтавшиеся, потомки русских эмигрантов, отважившиеся толкнуть Совку компромат на вождей-прародителей, легкомысленные бизнесмены, кинувшие (надо же кого!) сам Внешторг, завербованные чиновники и спецы, не отработавшие вложенного, зачастую ни на грош, и прочая склонная к авантюрам публика.
Нередко перед «заготовкой» Центр вменял «отпустить грехи», приняв покаянную, но не духовную, а давно вынюхиваемого «фуража». Манипулируя неистребимым зовом дышать, поделиться объект секретами Иоганну убеждать долго не доводилось. В своей основной массе заблудшие козыряли сметкой, нудеж излишествовал, и узелки памяти развязывались, почти всегда добровольно. За лишние минуты марать этот тесный, далекий от совершенства мир грешники впадали в словоблудие, но выверенными ходами Иоганн выводил их из бесконечности страха на стометровку полезных «советов». Все, что требовалось изъять, он изымал – вместе с «фуражом» и самим «примусом жизни».
Постепенно поисковую «санитарию» Центр заморозил, переключив суперагента на чистый «забой», а полгода назад, фактически, самоустранился, соединив напрямую с европейским диспетчером, технологом-администратором «сенокосилки». С тех пор Москва напоминала о себе лишь бухгалтерской отчетностью.
Будто пора уняться: предприятие приносит прибыль, на кой ляд «сантехника» менять? Да и не вызывало сомнений: в осваиваемом «проекте» интересы блоков, мягко заплетясь, сомкнулись.
Так-то так, но с его непыльной, хотя и небезопасной работенкой мог справиться и отличник ДОСААФ…
Теряясь в догадках, Иоганн буквально извел себя: «Может, отжимают до последнего, прежде чем бесследно „растворить“, как делал сам – увязшее в бухгалтерии число заходов-раз…»
Но вот, наконец, после длительного перерыва, новое задание Центра напрямую. Причем не дебит с кредитом свести, а конкретная ликвидация.
Между тем, не успел он и ознакомиться с объективкой, как вздыбился вопрос: откуда не свойственная прежде Центру скудность? Не планшет задания, а плакат, сверстанный на скорую руку, впопыхах. А черно-белое фото десятилетней давности, по качеству снимка – родные пенаты?
«Н-да, с таким зеро еще не снаряжали. Не нравится, не к добру…» – досадовал Иоганн, ознакомившись с «делом».
Мерцающий в потемках циферблат возвещал скорую передачу смены, но Иоганн не предвкушал отхода ко сну. Словно у неведомого ему Руда Феркерка, в его барабане крутились мысли-шары. Выигрыша при этом не сулили, желоб зачета обходя стороной.
«Наскоком не вышло, значит, доведется Шабтая выколупывать и пока неизвестно как, – извлекал корень проблемы Иоганны. – Объективка гипотезами не баловала, и намека на то, что фигурант соскочит! Но, получается, «ноги» предвидели, коль привлекли именно меня. Хотя могли и сгоряча, так как местных «на рейде» не стояло… Словом, ничегошеньки не ясно, сплошные закорючки! А Франк затесался сюда как? Зачем для утилизации «чайника» двух суперагентов снаряжать? Кто-то из нас явно лишний… Может, сдвоили «заглушку», чтобы объект и пукнуть не успел?
Но учти, на Франка потратились! Фрилансер – продукт рыночный, без аванса и цифру на диске не наберет. Сколько отстегнули? Четвертак до и четвертак после – как обычно? Франк тянет не меньше – мочила самородковый, к тому же и реальный детектив. Вопрос между тем ломится: баланс сведут после чего, а вернее, кого после? Шабтая или… меня в придачу? И концы все сплавлены – граблями чужими… Гигиенично и с дискретностью полный ажур. Воины мы безымянные, кроме хозяина квартиры, через месяц не хватится никто. И, изъяв мой депозит, Ларс пересдаст ее другому. Благо в Копенгагене аренда – ходовой товар. Н-да, выруливает… в люк канализационный прямиком…
А полиглот этот, Шабтай. Русский – родной, но почему-то второй. Идиш – что за зверь, не припоминаю. Ах да, ново-еврейский! Надо же, «топить» их не доводилось… Хм, сюрприз-загадка – распишись! Что, в Вавилоне кар небесных, терминалов не хватило? Вот те чудо-племя! Странно, не бывает так… Хотя… после наци… может, приструнило и хоронятся по камышам. Что ж ты, Шабтай-болтай, подставился? Сидел бы тихо, как родова твоя! К президентам, видишь ли, потянуло, вот и лажанулся за ватерлинию саму.
Уравнение легло – мать за космы: «Полиглот против полиглота». Посередке же, а может, с тыла – Франк, пума-зверь, не встречал такого. Дышит даже, как хищник, с опаской. Не то чтобы Шабтая – меня на жилы расшнурует, удалец-скалолаз! Моложе вон настолько…
Но не вечер, еще не вечер, разберемся – и с «пантерой» и с «чайником».
Морис вышел из «Блэк Даемонд» ровно в девять, задержавшись на целый час. Судя по церемонии, которую церберы наблюдали через незанавешенное окно, шла передача смены, хоть и весьма условная. Сменщик копался обеими руками во рту, лишь порой посматривая на покидавших отель постояльцев. Должно быть, на завтрак ему подали ляжку бизона или что-то не менее аппетитно-волокнистое… Тем временем Морис прилежно перерабатывал, принимая ключи и заполняя графы в каком-то журнале. Наконец, дружески хлопнув коллегу по спине, направился к выходу – под вздохи облегчения «кураторов», давно перепревших на своем посту.
Увидев, как Морис себя движет, связке стало ясно, что «Ситроен» в намеченный план слежения не вписывается и от него следует избавиться, по крайней мере, на ближайший час. Вследствие чего «хвост» загнал авто на заброшенный, не подававший признаков жизни склад, в трехстах метрах от «Блэк Даемонд».
Пристроив «Ситроен», Иоганн и Франк разошлись в разные стороны, обмениваясь напоследок невнятными взглядами и блеклыми «мазками» рук.
Следом за портье устремился Иоганн, сохраняя дистанцию метров в пятьдесят. Франк же перешел на параллельную улицу, позволявшую держать в поле зрения объект.
Фламандец захромал, убивая сразу двух зайцев. Первого – конспирировал на случай, если их тандем, хоть и раздвинутый, кому-то бросится в глаза, а второго – сбивая минимальный ритм ходьбы. Морис ведь тащился, как туша кита, отталкиваемая от суши плавниками. Через каждые сто метров становился на прикол, дабы отдышаться.
Иоганн при этом струнил свой шаг без видимых усилий, будто всю жизнь водил черепах на водопой. Прибавил ходу, лишь когда консьерж стал доставать из кармана ключи, остановившись у неказистого, давно не ремонтированного домишки.
Будто случайным, ленивым движением Иоганн поднял руку над головой. Обрисовал двойной полукруг, не спуская глаз с портье, открывавшего калитку в запущенный палисадник.
В этом районе обитали люди явно не бедные. Палисадники, как и сами дома, выдавались благополучием, разумеется, по африканским меркам. Обиталище Мориса на их фоне терялось. В первую очередь, крохотными размерами – три комнаты от силы.
Иоганн осмотрелся. На улице никого, обстановка к намеченному располагает. Не останавливаясь, проследовал в торец улицы. Увидел, что, вдруг исцелившись от хромоты, Франк преспокойно движется ему навстречу. Так что его команду-жест – осмотреть дом фигуранта с тыльной стороны – напарник прочитал верно.
– Похоже, кроме Мориса, в доме никого, – сообщил Франк, подойдя к Иоганну вплотную.
– Похоже или точно?
– Забравшись внутрь, узнаем. Одну створку поддеть – на раз. Ждем, когда заснет? Завалится, как пить дать…
– Где ждать прикажешь? Сидя на крыльце или слоняясь по городу, где белых на перечет? Каракатица долбанная… Машину из-за него кинули, гиппопотам без лап! Вот что: дуй обратно и пригони авто. Я же к портье, размусоливать нечего! Так и быть подменю, коль химии промеж вас не вышло… – распределял обязанности Иоганн, но вдруг спохватился: – Да, какая створка?
– В последнем окне левая. Дерево там к месту – прикрывает. Делать что, когда вернусь? – уточнил Франк.
– Понадобишься – дам знать. Явится кто, погуди два раза, короткими, – подвел черту Иоганн.
– Шмотки на стене, по виду – женские, детского ничего…
– Ну-ну… – Оглядев напарника с головы до головы до пят, Иоганн двинулся за дом.
Морис в душевой услышал, как на кухне нечто опрокинулось, и по квартире, судя по звукам, раскатились яблоки, его любимое лакомство. За сутки он поглощал их несколько килограмм, вынуждая мать каждое утро ходить на рынок. К другим же фруктам – полное равнодушие.
Портье сморщился, но не от разочарования, что яблоки помялись и потеряли товарный вид, – ему стало жаль маму. Горькая досада растеклась по телу, замарав облегчение, наступившее после водной процедуры.
Морис отодвинул занавеску и едва протиснул свою махину телес через узкий проход, который давно следовало расширить. Душевую оборудовали, когда он весил на полцентнера меньше. Ступив в прихожую, он изумился огромному пунцовому яблоку, немыслимо как закатившемуся сюда из кухни.
– Мучаешь себя зачем? – подал голос Морис, держась за стену, дабы не поскользнуться. – На рынок можем же ходить вместе… Не нагружала бы себя так… Теперь яблоки – как собрать? Ведь знаешь, помочь тебе не могу, давно уже… Только и думаю о твоем радикулите… Мама-мама, послушала бы когда… Все, к врачу! Поем только, довольно отговорок.
Пол на кухне усыпан фруктами, и портье вновь подивился, как красное яблоко докатилось до душа.
Входная дверь заперта, хотя привычного хлопка он не слышал: возвращаясь с рынка, мама от усталости хлопала дверью пуще обычного. Но мамы ни на кухне, ни в обеих комнатах нет – он дважды осмотрелся. Может, зашла в чулан? Вряд ли…. В доме-то тихо, а малейшее движение мамы, пожилой тучной женщины, сопровождалось, как минимум, сопением.
Разумеется, мама могла выйти во двор – занести оставленную на крыльце часть покупок. Но в таких случаях дверь не закрывала. Да и обе котомки на виду. Одна на кухонном столе, не опорожненная, другая – валяется на полу рядом.
В этом крохотном домишке даже грудному ребенку затеряться трудно, не то что полному, неуклюжему человеку. Прожив здесь половину жизни, Морис изучил в обители каждое пятнышко.
Мама исчезла, и искать ее в доме Морис смысла не видел. Оставались двор или улица, но показаться там голым – упаси боже! В округе его слоновья полнота и так притча во языцех. Исключалось и обвязаться простыней: при первом же шаге та разлетелась бы, он уже не раз пробовал.
А одеться? Как раз этого он сделать не мог. Мориса одевала и раздевала мама – с тех самых пор, как за несколько лет из пухлого юноши он превратился в бесформенный, колышущийся от малейшего движения валун плоти. С большим трудом он только снимал летнюю рубашку на пуговицах, ну и… приспускал штаны-шаровары, удерживаемые на пояснице широкой резинкой.
Гардеробные недомогания сына – отнюдь не единственная забота матери. Она купала его, хотя порой, если невтерпеж, Морис, как сегодня, мылся на скорую руку сам, намыливая один живот с окраинами. Достать ниже, увы, не получалось. И вытирала мама всегда сама – по той же треклятой причине. Самостоятельно Морис лишь брился и то, в зависимости от самочувствия, не каждый день.
Не будь ее покойный муж родственником самого Лукаса, президента страны, они, два инвалида, давно бы окочурились от голода – этой черной чумы континента. Именно Лукас устроил Мориса в «Блэк Даемонд», никто другой не взялся бы.
Лишь отъявленный пофигист или же, напротив, любитель экзотики мог по доброй воле принять его на работу. Поднимаясь на второй этаж, Морис затрачивал минуту, а из-за хронической булимии в туалете порой гостил чаще, чем у стойки портье.
Как это ни удивительно, попав в штат отеля, Морис сразу сделался общим любимцем – как персонала, так и гостей. Его радушие и простосердечность завораживали, а анатомическое уродство форм, в оправе первого, скорее пробуждало симпатию, нежели отталкивало. Свои недуги портье компенсировал упорством и прилежанием, обретя снисхождение, как нечто ущербное, но очень родное.
Вокруг Мориса образовалась лужа воды, ее сдабривали ручьи пота, хлещущего со всех пор. Организм портье «испражнялся» при любом отклонении от норм – и в радости и в горе. И, как и со своей полнотой, ничего поделать с этим он не мог.
Не обнаружив мать, Морис не столько опешил, сколько ощутил прободное одиночество, сквозь которое пробивалось желание как можно скорее избавиться от липкой влаги, обдающей то жаром, то мерзким холодком. Но, к сожалению, в пустой комнате помочь ему некому. «Помокнув» так с минуту, он плюхнулся на диван в надежде, что мать в конце концов объявится.
На глаза ему вновь попалось яблоко у душа. Вначале пятнами, а потом и всем покровом его цвет, ему казалось, стал меняться на синий.
Вдруг Морис ощутил, что в доме нечто ожило. Но то скорее были волны некоего замысла, уловленные им телепатически, нежели признаки вторжения. При этом мама не давала о себе знать – ни в одном из мыслимых регистров.
Чулан пробудился. Нет, не звуками, а тенью, постепенно наползающей, – портье ее уже осязал воочию.
Когда Иоганн объявил себя на кухне, Морис даже не дернулся. Он изготовился к худшему, к чему-то анормальному, поглотившему мать и вернувшемуся за новым забором: интервент-то человек, хотя и с запашком. Как Морис сразу вспомнил, – напарник «похитителя снов» из торчавшего у гостиницы «Ситроена». Именно его (интервента) спина, портье определил тотчас, мелькнула вчера в полдень за захлопнувшейся дверью гостиницы.
– Здравствуйте, Морис, простите за вторжение, – бодро поприветствовал Иоганн.
Портье отметил про себя: мягковатый акцент интервента ему знаком. Он отличал речь абонента, который на днях звонил в отель, интересуясь Шабтаем Калмановичем. Да и сам Шабтай говорил схоже.
Иоганн ненавязчиво осмотрел портье и уверенно, походкой завсегдатая, прошел к стоящему за диваном платяному шкафу. Открыл его и, чуть осмотревшись, вытащил полотенце. Услужливо положил его Морису на колени.
– Вижу, я не вовремя, вытритесь… – молвил Иоганн, сама галантность.
– Мама где? – едва озвучил сухим горлом Морис, притом что тек фасадом безудержно.
– Какая? – вскинул брови Иоганн.
– Моя. Она была здесь, только что…
– Вышла, наверное. Не расстраивайтесь, Габороне – город маленький, вернется… – успокаивал Иоганн.
Синюшнее яблоко укрупнилось до размеров головы.
– Я должен одеться… – скорее простучал зубами, нежели выговорил Морис.
– Ради бога, отвернусь, не буду вас смущать, – продолжал манерничать Иоганн.
– Чтобы одеться, мне нужна мама! – почти взвизгнул портье.
Лицо интервента изменилось – черты, по обыкновению расхлябанные, обрели четкий рельеф. Но глаза остались прежними – серьезными, не отсвечивающими каких-либо эмоций.
Поведя плечом, Иоганн двинулся спиной назад, прислонился к шкафу. При этом глядел на портье в упор, не выказывая малейшего намерения отвернуться.
– Вы не могли с ней не встретиться, я слышал ее голос, минуты две назад… – осекся Морис, почему-то подумав, что спрашивать имя «гостя» бессмысленно.
– Ах да! Полная такая, неслась на всех парах! – вспомнил Иоганн.
Портье обреченно опустил голову – мама двигалась не многим его лучше.
– Морис… – вихляво заговорил «гость». – Я сказал вам неправду, а точнее, обманул… Мама ваша неподалеку, под надежным присмотром… – и решительно продолжил: – А теперь слушайте меня как можно внимательнее. Так вот, друг мой, для того, чтобы вы могли и дальше забираться на толчок и как-то еще самовыражаться, многое придется вспомнить, смастерив из жалких отрубей сытный, наваристый суп, способный меня насытить. Но, учтите, я ужасно переборчив, просто до неприличия. Начинать можно сразу, не откладывая…
Из всего пассажа портье выхватил лишь «под присмотром» ну и, конечно, общий фон угрозы. Образную речь Морис воспринимал слабо, да и откуда: за плечами один аттестат зрелости, пусть в Африке о такой учености многие лишь мечтают. Кроме того, речь «гостя» коробил дефицит натуры, будто зазубрена по кускам, пусть в их бесконечном множестве. Так, как он, по-английски никто не изъяснялся – ни разноплеменные иностранцы, для коих английский не родной, ни соседи-южноафриканцы, ни иные носители. Но беда заключалась не в этом.
Мориса проникся в одночасье: жизнь его не просто в опасности, она ничегошеньки не стоит, коль разменной монетой «гостя» стала мать, как перышко исчезнувшая. До мельчайших молекул разверзлось, что любая озвученная этим молодчиком угроза однозначно сбудется, расшвыряв все на своем пути. «Гостю» не ведомы ни «пуканье» пикировок, ни бравада накаченных мышц. Он чистый, оригинальный продукт фауны, ведомый лишь тупой агрессией, где нет места рисовке или компромиссам. Жестокий зверь, нещадно эксплуатирующий силу человеческого разума.
С таким типажом злодея портье прежде не сталкивался. Местные головорезы не то чтобы до его калибра не дотягивали. На его фоне – жалкие фигляры в шутовских оперениях.
Между тем ни свинца воли, ни морального пресса «похитителя снов» внешность пришельца не отсвечивала. Казалось, ее поработило заурядное: красноватые веснушки, весело раскиданные по всему телу, вздымающийся к верху нос картошкой, корж лица какой-то поспешной, нерасторопной выпечки, широкая кость портовых грузчиков и масса иных не отягощенных высокосословным происхождением черт. Лишь глаза бурели заряженностью на результат и неотвратным намерением его отработать. «Гость» был классическим воплощением штампа «He really means it»*, его ходячей, наглядной трибуной, с которой – за ненадобностью – он убрал графин и полку для подчитки.
Откуда-то, из засеменившей на цыпочках душонки, стал вздыматься, вызревая, вопль о помощи, чтобы упредить, ручонками дитяти заслониться от взведенной мортиры смерти – этих умных, но разрезающих своей серьезностью глаз – на поплавок, трепещущий в болоте отчаяния, но все еще верящий в чудо, и саму материю, совершенно бесхозную.
Набрав воздух в легкие, Морис выпалил: улсяыматьсяерениемвалосьятно.
– Вам, наверное, нужен Калманович?!
Тут стрелка метронома времени, то бишь мерила жизни, опекаемого где-то в Европах, кинулась вперед. Но вскоре остановилась и рваным ритмом зашкандыбала обратно…
Кепка серьезности у Иоганна сползла куда-то на затылок, оставив после себя лишь напоминание – козырек задумчивости. «Гость» оттолкнулся спиной от шкафа и двинулся на кухню, подспудно ощущая на спине взгляд портье. И правда, бешено вращаясь, глаза Мориса толкали «гостя» на выход, из дома прочь.
Иоганн подхватил стул и пошел обратно. Вернувшись к дивану, развернул стул и уселся напротив Мориса. Водрузил обе руки на спинку. Чуть подумав, вмял подбородок в верхнюю руку. Глядел почему-то не на портье, а на тараканов, которых на полу сновала целая популяция.
Пауза, словно рубанок, зарывалась во взбученные нервы портье, слой за слоем обирая надежду. Но, к превеликому сожалению, то было единственное, на что Иоганн не покушался…
Спустя минуту Морис уже не осязал ничего. Ни маму, ему недавно казалось, лежащую на полу и подгребающую под себя яблоки, вместо того, чтобы канючить пощаду, ни синюшные головы и кули, катящиеся в ров, окаймляющий сопку жизни, ни отупевшую от ужаса платиновую богиню, которая, прижав ко рту ладонь, гасила крик, моля глазами не упоминать ее имя. Перед Морисом зиял лишь лик пришельца, не походившего, в общем-то, на злодея, если отринуть его без меры сосредоточенные, перебравшие серьезности глаза. Человек с таким взором не мог преследовать праздное, интересуясь, к примеру, суточным оборотом белья в гостинице или городскими сплетнями. В отстававшую на целый век Ботсвану его могли привести особые, а скорее, чрезвычайные обстоятельства. Из-за них, не колеблясь, он поглотил мать, а ныне засучил рукава на сына.
В дышавшую лишь на четверть легкого жизнь портье не вторгались даже соседи, в своем большинстве, люди состоятельные. «От обделенных – какой прок?» – примерно так рассуждали они. Сближению не способствовало и дальнее родство Мориса с президентом Лукасом. Околоток знал, что, протянув одиножды руку помощи, тот умыл руки. Так что кричи не кричи – рассчитывать не на кого…
Портье пожирал глазами Иоганна, теряясь в догадках, как быть. Но за непроницаемым фасадом ничего рассмотреть не мог, как не гнал из себя влагу. Провалившись на самое дно отчаяния, в конце концов определился: «Мудрствовать нечего: грузи все валом, смотришь, смилостивится. Дотяни до обеда, а там, быть может, из гостиницы заскочит кто».
Морис открыл было рот, когда услышал:
– А с чего вы взяли, что мне нужен, как вы сказали, Калманович? – вонзил вопрос «гость», оторвавшись от напольного гнуса.
– Искали его вчера, я и подумал… – трусливо опустил голову Морис.
– Я искал? – диву дался Иоганн.
– Видел вас мельком… с тем, кто спрашивал, – нехотя признался Морис.
– Где?
– Э-э… там… – Портье нечто заломило.
– Говорил ведь: зачтется только искренность. Не дошло… – раздался вздох, совершенно искренний.
– В автомобиле, стоявшем возле гостиницы! – протараторил портье с легкой запинкой на втором слове.
– А еще откуда? – обдал наледью Иоганн.
– Вы звонили на днях, о нем спрашивали…
– Вы всевидящий?
– Голос почти тот же, – опасаясь обидеть «акцентом», признался портье.
– Пусть заботит вас не голос, а жильцы «Блэк Даемонд»! – «расщедрился» новым советом Иоганн.
– Вы же спрашивали…
– Продолжайте, а впрочем, и не начинали еще!
– О Калмановиче или о вашем спутнике? – уточнил Морис, вырвавшись из кучи мала, где его то пинали в зад, то лупили по загривку.
Иоганн встал и, переиграв стул, вновь уселся, вопроса будто не расслышав.
Вспомнив с дрожью «похитителя снов», Морис решил, что безопаснее держаться линии Шабтая.
Прыгая, как лягушка, с одной сюжетной кочки на другую, портье, казалось, вывалил все, что знал о Калмановиче – с тех самых пор, как тот поселился в «Блэк Даемонд» три месяца назад. О том, когда встает и когда уходит, во что одет и кому звонит, где питается и на чем ездит, без запинки воспроизведя южноафриканский номер авто постояльца.
Из этого скорее беспорядочно наломанного, чем нарезанного салата Иоганн почерпнул лишь несколько деталей, которые могли его заинтересовать. В день своего исчезновения Шабтай покинул номер в обществе неотразимой, но незнакомой Морису блондинки, чью внешность портье чуть ли не слюнями живописал, отметив, что за те минуты, пока пара находилась в фойе, из их уст не вылетело ни слова, то есть язык их общения остался неизвестным.
О продлении Шабтаем брони Иоганн уже знал – от того же Мориса, когда, приземлившись в Сьерра Леоне, тут же позвонил в отель. Новым и весьма интригующим было лишь то, что Шабтай продлил бронь, неожиданно вернувшись в гостиницу, в то время как блондинка дожидалась его на улице.
Приметы подружки будто уже зацепка, но особо не обнадеживали. Задачка смахивала на вводную: извлечь из чрева «Большого Яблока» объект, ведая только, что в одном из офисов башен-близнецов некогда промышлял дальний родственник блондинки – то ли ремонтником, то ли мойщиком стекол, работая при этом за штатом на кэш…
Но по-настоящему Иоганн заинтересовался лишь одним. Прожив в гостинице три месяца, Калманович ни разу не уносил с собой ключ от номера, собственноручно вкладывая его и извлекая из ячейки, притом что администраторы, недоумевая, постояльца за эту причуду не раз отчитывали.
Все эти челночные снования с ключом, блондинкой, брошенным чемоданом, частично выуженные у Мориса, а частично – нарытые им самим, невольно подтолкнули Иоганна к гипотезе: не противостоит ли ему натасканный агент или некий самородок, тщательно скрывающий свои недюжинные способности? Коль так, то почему досье об этом умалчивало? Подопечных-то он прежде получал с родословной, как четвероногую голубых кровей, и нередко с маячком.
В «покаянную» Мориса Иоганн не вклинил ни слова – настолько портье все членораздельно излагал, хоть и хаотично. «Гость» даже подивился: с таким исповедальным напором, наблюдательностью и здравой оценкой предмета «запроса» он прежде не сталкивался. Иоганн, тем не менее, был далек от того, чтобы петь своим подопечным серенады. Да и до любви ли? «Исповеди» ведь захлопывали собою досье с «веселеньким» грифом «По исполнении – сжечь».
Все предыдущие «клиенты» Иоганна доподлинно знали, почему явились по их душу, чем и в какой мере следует поделиться. Людьми они слыли хоть и амбициозными, но, как правило, грешными, в той или иной мере скомпрометировавшими себя перед лицом влиятельных структур или общества в целом. А с догадливостью у этого выводка – полный ажур, как дознавателю не раз приходилось убеждаться. Чуток «пообвыкнув» к нему, редко кто упорствовал.
Он и на самом деле растворял любые иллюзии, полностью замыкая внимание подопечного на себя. Иоганн нес в себе жесткий шаблон предметности, фрамугу чего-то раз и навсегда отрепетированного, не знающего сбоев и колебаний. Посему к шокотерапии ему приходилось прибегать нечасто, все как-то устраивалось само собой. Будто как сегодня…
Иоганн встал и, минуя портье, неспешно отправился к шкафу. Морис даже бровью не повел – настолько движение интервента выглядело естественным и не таящим угрозы. Словно «гость» засиделся, время ноги размять.
Через мгновение портье вздыбился от боли, воспламенившей каждый узелок его и без того заарканенного лихом естества. Выхлоп страданий, быть может, был бы не столь ужасным, ежели хоть малую толику боли можно было стравить в крик, слить куда-то. Но рот Мориса зажала ладонь «гостя» какого-то явно не телесного отлива.
Тотчас на помощь ей бросилась другая. Спаровавшись с первой, придавила голову портье к спинке дивана. Иоганн держал голову портье до тех пор, пока на его руки не брызнули слезы жертвы, разомкнувшие шоковую цепь.
Ослабив хватку, Иоганн убрал одну руку за другой. Освободившись от «кляпа», Морис зарычал, валясь на спину и уродуя пространство контуром скрюченной руки, один из пальцев которой распух на глазах.
– Больше больно не будет, обещаю! – Иоганн разминал правую ладонь. – При одном условии… Вытряхните из вашей перины все, до мельчайшего перышка. О блондинке – до конца, без остатку, хоть сухого, а хоть мокрого! Иначе переломаю остальные! Не поможет – перейду к ногам…
Украдкой бросая взгляды на искалеченную конечность, Морис уже не рычал, а скулил, чуть всхлипывая.
Иоганн поморщился, вновь перевернул стул. Водрузив руки на спинку, уставился на визави.
Посидев немного, «гость» начал приподыматься, выдвигая из-под себя стул.
– Нет-нет! Зачем?! – запричитал портье, выдавливая из себя остатки боли. – Вспомнил… знаю… сейчас… секунду всего. – Морис заплакал, горько, как ребенок.
Иоганн застыл, облокотившись о спинку стула, казалось, служившего мистической растяжкой душ в его походной камере дознаний. И, усевшись обратно, не шевелился долго, почти полчаса. Ровно столько портье исторгал свою самую не выговариваемую тайну, оказавшуюся на поверку заурядным и старым, как человечество, пороком. Да и считать ли его таковым? Подглядывание, подслушивание, поиск натуры для разрядки…
Перед Иоганном распахнулись груботканые шторы основного инстинкта, за коими безумствуют: чревоугоднический торчок, лизоблюдные восторги и откровения. И, как водится между мужчиной и женщиной, чаще вымениваемые в замен естественного права на свободу или за презренный металл, нежели вспыхивающие бескорыстно.


