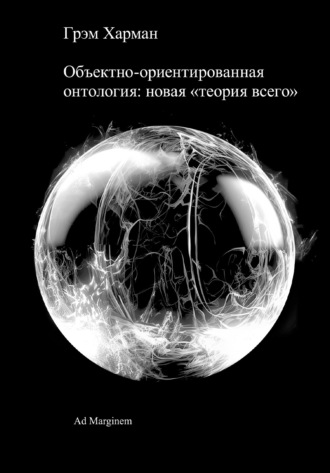
Грэм Харман
Объектно-ориентированная онтология: новая «теория всего»
Против физикализма, меньшизма, антификционализма и буквализма
Но не одно лишь естествознание лелеет в себе несостоятельные амбиции на потенциальную роль теории всего. Экономика постоянно претендовала на то, чтобы стать Суперменом социальных наук, чем навлекла на себя массу профессионального недовольства. Но заметьте, что если бы даже можно было поместить всю науку об обществе под зонтик экономики, то, очевидно, экономист все же не смог бы объяснить формирование звезд или роль ДНК в эволюции микроорганизмов. Это оставляет экономиста далеко позади даже физика, который, по крайней мере, может надавить на то (хотя мы уже видели, как это не работает), что без физической материи не было бы никакой экономики. Также и психоанализ иногда считал себя властителем наук о человеке, поскольку объяснял скрытую часть человеческих мыслей и действий не хуже видимой. Но здесь опять, несмотря на мое чрезвычайное восхищение прозрениями Фрейда, Лакана и множества их коллег, психоанализ не может продвинуть нас сильно дальше сферы человеческой культуры, оставляя неодушевленный мир в основном нетронутым. Единственный путь заявить какую-либо гуманитарную науку в качестве теории всего – это принять социальный конструктивизм и попытаться свести естествознание к его социолингвистическим аспектам или к какому-нибудь виду борьбы за власть. Однако данный тип сильного социального конструктивизма уже угасает, и нет никаких причин оплакивать его уход.
Во всяком случае, занимаясь разбором проблем с притязаниями Брауни на то, что теория струн может быть теорией всего, мы выяснили, чего настоящей теории всего следует избегать. К четырем главным ловушкам, поджидающим такую теорию, относятся: физикализм, «меньшизм», антификционализм и буквализм. Главной сильной стороной ООО является неукоснительное избегание ею этих интеллектуальных токсинов. Для объектно-ориентированного мыслителя физические объекты – это всего лишь один из видов объектов среди прочих, и поэтому мы не должны поспешно презирать или «элиминировать» те из них, что не очень хорошо вписываются в жесткое материалистическое мировоззрение. Философия – не более служанка материализма, чем религии. Против «меньшизма» объектно-ориентированная мысль выдвигает аргумент, гласящий, что масштабы существования объектов различны и многочисленны: сюда относятся и электрон, и молекула, и Голландская Ост-Индская компания, и галактика. Сам факт сложности и величины не делает нечто менее реальным по сравнению с составляющими его частями. Далее, мы не должны поспешно изгонять из окружающей нас жизни вымышленные объекты, поскольку любая философия, достойная этого имени, должна уметь сказать нечто позитивное и о подобных видах бытия. И помните, что «вымышленными» (fictional) я считаю не только персонажей вроде Шерлока Холмса или Эммы Вудхаус, но также обычные дома или молотки. Нам кажется, что мы имеем с ними дело напрямую, но воспринимаем мы их в виде упрощенных моделей реальных домов и молотков, к которым никогда не получим прямого доступа. И наконец, ООО выступает с антибуквалистских позиций, поскольку любое буквальное описание, буквальное восприятие или буквальное причинное взаимодействие с вещью дают нам эту вещь не напрямую, а лишь ее перевод. Следовательно, непрямые или косвенные средства доступа к реальности в какой-то мере являются более разумными способами, чем любое количество буквальной информации о ней.
Повторяю, мы настаиваем на том, что теория всего должна избегать физикализма, «меньшизма» и буквализма, принимая в то же время фикционализм. Таким образом, разве не запускаем мы предприятие столь же высокомерное, как и то, что было ранее подвергнуто нами критике? Нет, и по той же причине, по какой глобус ничуть не «высокомернее» карты. Картографы могут гордиться деталями, точностью и ясностью своих конечных продуктов, понимая при этом, что глобус лучше показывает взаимосвязь множества различных локальных карт. Стоит, пожалуй, расширить эту аналогию, поскольку ООО предлагает не только глобус, но и модель реальных и вымышленных вселенных. «Абстрактно сформулированная цель философии, – говорит американский философ Уилфрид Селларс, – состоит в том, чтобы понять, как вещи в самом широком смысле этого слова связаны друг с другом в самом широком смысле этого слова»[31]. Мы можем временно принять это определение с той оговоркой, что философия для ООО это больше про то, как вещи не связаны друг с другом в самом широком смысле этого слова, но сохраняют некоторую степень автономии, несмотря на свои взаимоотношения.
Подрыв в истории философии
Возможно, некоторые читатели уже успели высказать свои внутренние возражения, ведь все выглядит так, как будто от утверждения, что ООО – это теория всего, я внезапно перешел к утверждению, что она должна быть теорией объектов. Действительно ли объекты – это все, что есть? Свое осуждение высказал даже мой близкий коллега и тоже по-своему пламенный философ-реалист, Мануэль Деланда: «У меня нет ясного понимания, почему Харман решил так уцепиться за объекты. Я не отрицаю того, что объекты существуют… просто полная реалистическая онтология должна содержать и объекты, и события, и процесс, который есть серия событий»[32]. Даже если оставить в стороне оппозицию между объектами и событиями, слово «объект», как кажется, предполагает жесткую, материальную, прочную, долговечную сущность, совсем не являющуюся единственным сортом вещей, обнаруживаемым в нашем мире. И более того, разве не доказывает Хайдеггер, что слово «объект» означает неправильную объективацию мира сознанием или техникой? Разве не поэтому Хайдеггер предпочитает слово «вещь»?[33] Позвольте мне, в свете этих возражений, вкратце защитить «объектную» часть ООО. Я разберу в обратном порядке только что высказанные возражения. Пройдя половину пути, я на некоторое время задержусь, чтобы в более общем виде защитить место объектов в западной философии.
Во-первых, нужно сказать, что философы часто видоизменяют традиционные термины, заимствуемые ими из истории их собственной дисциплины. Иногда они дают этим терминам более широкие значения, чем обычно, а иногда более специфические. К примеру, ранее я отмечал, что люблю использовать слова «онтология» и «метафизика» как синонимы, поскольку вижу большую стилистическую выгоду не в их различении, а в отношении к ним как к синонимам. Хайдеггер не согласен. «Онтологию» он использует в положительном смысле, по крайней мере на раннем этапе своей карьеры, тогда как о «метафизике» он обычно отзывается с пренебрежением и даже как о коренном затруднении западной цивилизации. То же самое касается и употребления им таких понятий, как «объект» и «вещь». Хайдеггер задействует слово «вещь», имея в виду вещь саму по себе, помимо каких-либо ее ложных объективаций, тогда как «объект» есть ее отрицательная оборотная сторона: это вещь, сведенная к нашему восприятию либо использованию. Хайдеггер, конечно, имеет право так поступить, хотя я не могу понять, почему мы должны следовать за ним в этой практике. «Объект» есть совершенно ясный и гибкий термин, который надо сохранить. Более важно то, что моя дискуссия об объектах мотивирована не столько Хайдеггером, сколько непосредственно предшествовавшими ему австрийскими и польскими философами, использовавшими термин «объект» почти в таком же широком смысле, что и ООО: Францем Брентано, Казимиром Твардовским, Эдмундом Гуссерлем и Алексиусом Майнонгом[34].
Второе возражение гласило, что «объект» подразумевает устойчивую, прочную, неодушевленную сущность и потому является концептом слишком узким, чтобы охватить все переходные потоки и течения, а также непродолжительно живущих насекомых, восходы солнца и случайные столкновения, дающие жизни так много из того, за что мы привыкли ее ценить. Мой ответ гласит, что ООО понимает «объект» в необычайно широком смысле: объект есть все, что не может быть полностью сведено к своим составным частям или же к своим воздействиям на другие вещи. Первый пункт, про то, что объекты нередуцируемы к своим частям, давно знаком философам; второй пункт обсуждался меньше, но от этого он не становится менее важным. Философы, например такие как Хайдеггер, с готовностью стали бы утверждать, что молоток не сводится (reducible downward) к атомам и молекулам, из которых он составлен, однако, как кажется, при этом он полагает, что молоток возводится (reducible upward) к нынешнему своему месту в тотальной системе значимых подручных средств. К примеру, молоток в глазах Хайдеггера «полезен в строительстве дома», а дом в свою очередь «полезен тем, что дает людям кров»[35]. ООО, однако, полагает, что обе формы редукции – возведение и сведение – вредны. Она рассматривает историю западной философии как попытку выпутаться из этого затруднения, какими бы медленными и запутанными не были в этом отношении усилия мыслителей прошлого.
Если кто-то спросит нас о том, что есть нечто, то у нас имеется миллион различных высказываний для попытки ответа на этот вопрос. Но в конечном счете есть лишь два способа поведать кому-то о том, чем является та или иная вещь: вы можете или рассказать о том, из чего она сделана, или рассказать о том, что она делает. По сути, это два единственных имеющихся у нас вида знания о вещах, и если человечеству суждено исчезнуть или погибнуть, не оставив больших хранилищ со знаниями, то может статься, что это и не так уж плохо. Проблема в том, что мы, люди, иногда убеждаем себя в том, что познание есть единственный вид когнитивной деятельности, достойный того, чтобы им занимались. Поэтому мы придаем такую высокую ценность знанию (тому, что есть вещь) и практическим ноу-хау (тому, что она делает), игнорируя при этом когнитивные действия, не переводимые с легкостью на буквальный язык. Среди исключений, сразу вспоминающихся в этом царстве познания, – искусство, поскольку его первичная роль состоит не в том, чтобы сообщать знания о своем предмете. На ум также приходит философия, несмотря на царящее в модерную эпоху стремление считать ее двоюродной сестрой математики и естествознания. Множество людей охотно согласится с тем, что искусство не есть средство передачи знаний, однако уже меньшее число людей уступит в этом пункте по поводу философии. Если философия не есть форма знания, чем же тогда она может быть? Теперь стоит ненадолго отклониться от наших размышлений, чтобы рассмотреть этот вопрос.
Западная философия и наука ведут свое происхождение от так называемых «досократиков», начавших свою интеллектуальную деятельность в 600-х годах до н. э. Будучи этническим греками, первые досократические мыслители проживали в греческих колониях на территориях, ныне расположенных на западном побережье Турции, на Сицилии и в самой южной части материковой Италии. Понятно, что в то время никто не называл их досократиками, поскольку Сократ Афинский еще не родился. Вместо этого их называли physikoi, что довольно приблизительно можно перевести как «физики» или же «те, кто интересуется природой»[36]. Все началось в Милете, некогда процветавшем эгейском порту, чьи руины (теперь не имеющие выхода к морю по причине заиливания рек) возле нынешнего Дидима в Турции можно посетить и сегодня. Фалес Милетский известен некоторым количеством интеллектуальных достижений, так, например, он первым предсказал солнечное затмение. Однако главное его наследие для философии и науки состоит в утверждении, что первый принцип всего есть вода. Эта мысль – первый пример объяснения космоса в истории западной цивилизации путем отсылки к некоему природному началу, а не к богам или мифу о сотворении мира. За ним последовал еще один житель города по имени Анаксимен, полагавший, что первоначальным элементом является не вода, а воздух, ведь свойства последнего еще нейтральнее свойств воды: он не имеет ни вкуса, ни запаха и полностью проницаем для света. Но между Фалесом и Анаксименом был еще Анаксимандр, занявший более утонченно звучащую позицию, гласившую, что конкретный элемент не может играть роль первоначала, поскольку все разные физические элементы должны совместно появиться из некоего более глубокого корня. Для Анаксимандра таким глубоким корнем было apeiron: слово, обычно остающееся без перевода на английский язык, но означающее нечто вроде бесформенной, лишенной образа, не имеющей границ массы, из которой уже возникает нечто более конкретное. Как полагал Анаксимандр, по прошествии миллионов лет все противоположности взаимоуничтожатся и космос вернется в состояние бесформенного, нейтрального apeiron. Эта идея позже вдохновила Маркса, когда он писал в Йене свою докторскую диссертацию. Многие мыслители-досократики предложили свои теории об устройстве реальности: Пифагор, Эмпедокл, Гераклит, Парменид, Анаксагор, Демокрит и т. п. Несмотря на разнообразие их теорий, все они склонялись к тому, чтобы назвать основой мира один или несколько базовых элементов или же согласиться с тем, что бесформенное apeiron есть лучший способ объяснения всего наблюдаемого нами разнообразия вещей.
Итак, захочет ли кто-то из досократиков назвать основой мира самый базовый элемент (или элементы) или же предпочтет вместо этого ту или иную версию теории apeiron, всех их объединяет одна вещь, а именно: все их теории подрывают (undermine) обычные повседневные объекты. Никто из них не думает, что стулья и лошади обладают той же степенью реальности, что и избранные ими предельные основания; большинство объектов слишком поверхностны, чтобы быть настоящими. Используя терминологию данной книги, можно сказать, что вина досократиков заключена в «меньшизме». Кроме того, все они рассматривают избранную ими предельную вещь как вечную или, по крайней мере, неуничтожаемую, что оставалось типичным предрассудком греческой философии, пока Аристотель, наконец, не допустил существование уничтожаемых субстанций. Настоящая, однако, проблема подрыва (undermining) заключена в том, что он не может объяснить явление, названное нами эмерджентностью. Если вы, подобно Фалесу Милетскому, думаете, что все состоит из воды, то едва ли стоит полагать, будто газонокосилка или Голландская Ост-Индская компания останутся с течением времени одинаковыми, поскольку эти более крупные объекты будут всего лишь поверхностными эффектами глубинных движений воды. Тот же самый аргумент работает, если вы, подобно Демокриту с Левкиппом, думаете, что все состоит из атомов (буквально: «неделимых»).
Теперь должно быть понятно, что досократики неявно опирались на все четыре отвергаемые нами представления: физикализм, меньшизм, антификционализм и буквализм. Другими словами, они придерживались тех же взглядов, которые также лежат в основе современных попыток сформулировать «теорию всего» в физике. И это не случайно, поскольку досократики, конечно, были physikoi, первыми представителями западного естествознания. Но, на мой взгляд, – а это, по общему признанию, мнение меньшинства, – они не были первыми философами. Эту честь я оставляю для Сократа по причинам, которые вскоре озвучу. Существование этих ранних мыслителей позволяет философам иногда хвастаться тем, что философия была родительницей, а наука – ее детищем. Однако я уже сказал, что досократики занимались подрывом, то есть естествознание всегда было «подрывным» предприятием. Следовательно, нам нужно обратить вспять привычное утверждение и сказать, что западная наука впервые появилась вместе с досократиками, а западная философия возникла позже, когда Сократ открыл, что подрыв не есть подходящий способ выявления природы добродетели, справедливости, дружбы или чего-либо еще. Ибо то, чего ищет Сократ, – это не вид знания, поскольку его интересует не то, из чего состоят добродетель, справедливость и дружба, как и не то, что они делают, хотя и об этом часто забывают. Еще раз: изначальный смысл греческого слова philosophia – не знание и не мудрость, но любовь к мудрости, которой невозможно когда-либо окончательно достичь.
Надрыв в истории философии
В Новое время (modern[37] period) подрыв продолжает сохранять свое центральное значение для естественных наук, однако как философский метод он теряет свою популярность. Причина этого кроется в том, что западная философия заинтересована уже не столько обнаружить предельную субстанцию, из которой все состоит, сколько раскрыть, на какую часть знания стоит опереться, чтобы достичь наивысшего уровня достоверности. Это значит, что философия Нового времени (modern philosophy) больше всего озабочена тем, что приходит к человеческому сознанию самым непосредственным образом, а не тем, что глубже всего сокрыто под покровом мира явлений. Одним из следствий этого выступает то, что вместо того, чтобы считать индивидуальные объекты слишком поверхностными для истины, философия Нового времени полагает их слишком глубокими. Этот достаточно сильно отличающийся способ рассмотрения вещей нуждается в собственном названии, и в противоположность технике подрыва, основанной досократиками, я изобрел термин «надрыв»[38]. Возьмем Рене Декарта, которого обычно считают первым западным философом Нового времени (хотя иногда звучали аргументы и в пользу более ранних фигур вроде Николая Кузанского, сэра Фрэнсиса Бэкона и даже легендарного эссеиста Мишеля де Монтеня)[39]. Для Декарта в мире существуют три разновидности субстанции: res extensa (материальная субстанция), res cogitans (мыслящая субстанция) и Бог (единственная бесконечная субстанция). За возможным исключением Бога эти субстанции не являются какими-то скрытыми вещами, и, в принципе, они могут прекрасно быть познаны в математизированной форме. Физическая материя больше не имеет оккультных или скрытых качеств, но обладает лишь размером, формой, положением и направлением движения. Декарт ликвидировал, или «надорвал», скрытые «субстанциальные формы» средневековой философии, означавшие не те формы, что мы видим, когда смотрим на вещи, но те, что действуют в их сердце независимо от того, видим мы их или нет. Это превращает Декарта в революционную фигуру также и в истории науки, поскольку он провозгласил конец аристотелевской субстанции в физике и помог поставить современную науку на более математизированную и менее метафизическую основу. В «мыслящей субстанции» Декарта также нет ничего загадочного, так как, приложив некоторое количество усилий, я могу заглянуть в свой разум, ясно и отчетливо восприняв разворачивающиеся там мысли. Для Декарта и мир, и Я прозрачны и познаваемы. Мир необходимо переделать согласно образу нашего о нем знания: такова наиболее характерная черта модернизма во всех областях. У последующих философов Нового времени эта тенденция становится еще более отчетливой. Экстремальный мыслитель-идеалист Джордж Беркли (1685–1753) утверждает, что самостоятельных вещей не существует вообще, поскольку все сущее существует лишь в качестве образа для чьего-либо сознания, божественного или нашего собственного[40]. Совсем недавно известные философы Альфред Норт Уайтхед (1861–1947) и Бруно Латур (р. 1947) выдвинули аргументы, что сущность – это не что иное, как ее отношения либо эффекты, так что любое представление о скрывающемся за ними независимом объекте абсурдно[41]. Американские прагматисты, такие как Уильям Джеймс (1842–1910) и Чарльз Сандерс Пирс (1839–1914) – чья фамилия произносится «Перс», а не «Пирс», – выступают со сходной линией аргументации, утверждающей, что вещь реальна лишь в той степени, в какой она отличается от других вещей[42]. Эдмунд Гуссерль (1859–1938) полагал абсурдной возможность существования объекта иначе, чем в виде потенциального коррелята наблюдающего его сознания[43]. Мишель Фуко (1926–1984) считал, что нет никакого способа говорить о реальных независимых вещах, скрывающихся за социальными формами власти, в чьих путах мы оказываемся в каждый момент[44]. Деррида же зашел настолько далеко, что заявил, будто «нет ничего вне текста», сколь отчаянно не пытались бы оправдать это утверждение его поклонники[45].
В любом случае только что упомянутые примеры представляют собой теории надрыва, сводящие вещи к их воздействию на нас или друг на друга. Эти теории отказывают им в каком-либо избытке или излишке, помимо подобного воздействия. Однако проблема всех теорий надрыва – их неспособность объяснить изменение. Если атомы, бильярдные шары, арбузы, тюрьмы или профессор Уайтхед есть не более чем одномоментная сумма их отношений либо последствий, то как тогда они смогут делать нечто совершенно иное через пять минут или две недели спустя? Аристотель задал этот же вопрос в 300-х годах до н. э. своим соперникам из Мегарской школы философии, полагавшим, что вещь есть лишь то, чем она является прямо сейчас, не имея ничего про запас: строитель это не строитель, если он не строит в этот самый момент здание[46]. Аристотель обратился к данному парадоксу, введя свою ныне знаменитую идею «возможности» (dynamis, лежащую в корне наших английских слов «динамика» и «динамит»), и хотя с этим понятием есть проблемы, данное его возражение мегарикам все еще актуально. В наше время некоторые защитники моделей надрыва скажут, что вещи могут меняться благодаря взаимным «петлям обратной связи», в которых они обоюдно (reciprocally) друг на друга воздействуют. Аргумент этот, однако, противоречит сам себе, поскольку способность вещи получать и обрабатывать обратную связь подразумевает, что эта вещь уже есть нечто большее, чем то, что она делает в данный момент; восприимчивость есть форма возможности, и поэтому она опирается на возражение Аристотеля, даже если одновременно стремится его опровергнуть. Из этих соображений ясно, что в вещах должен наличествовать некий излишек, который одновременно будет глубже их следствий и поверхностнее их составных частей. Вещь подрываемая и вещь надрываемая не есть она сама. Не является вещь и двойным сочетанием того, из чего она состоит, и того, что она делает, распространенная стратегия, именуемая мной «двойным срывом»[47]. Например, им оперируют естественные науки, когда говорят, что природа состоит из мельчайших предельных составных частей (подрыв) и в то же время познаваема при помощи математики (надрыв). Таким образом, мы предполагаем, что сами по себе независимые объекты стерты с картины как неясные и избыточные.
Это подводит нас к границам обсуждения выдвинутой ООО неконвенциональной идеи объекта. В повседневной речи слово «объект» часто имеет оттенок чего-то физического, твердого, прочного, нечеловеческого или совершенно неодушевленного. В ООО «объект», напротив, означает попросту все, что не может быть сведено либо возведено к чему-либо, то есть все, что превышает сумму своих составных частей, но не превышает суммы своих последствий для окружающего мира. Здесь могут быть полезны некоторые примеры. Представьте, что кто-то спрашивает нас, как мы можем узнать, какие объекты реальны, а какие – нет. Как, к примеру, мы можем понять, что следующий составной «объект» не реален: Лиссабонское землетрясение 1755 года плюс детективный роман Дэшила Хэммета «Мальтийский сокол» плюс пакет жевательных мармеладок плюс пятерка самых высоких владельцев японского паспорта. На самом деле мы никогда не можем знать наверняка, хотя на первый взгляд данный ассамбляж не выглядит многообещающим случаем для реальности. Почему так? Потому что он кажется либо «подорванным» собранием плохо друг другу подходящих частей, которые едва ли произведут что-либо единое, либо надорванным ad hoc ассамбляжем, который может произвести одноразовый акцидентальный эффект в какой-нибудь истории или шутке. Тем не менее мы никогда не можем быть полностью уверены в том, какие объекты существуют, а какие являются лишь плодами наших техник подрыва и надрыва. Мы никогда не сможем узнать наверняка, существовали ли на самом деле такие вещи, как «заговор с целью убийства президента Кеннеди», «истребивший динозавров юкатанский астероид» или «первый ребенок, чьими родителями были неандерталец и homo sapiens». У нас отсутствует прямой доступ к миру, который мог бы постоянно устанавливать существование этих объектов или даже их гораздо более простых вариантов, по той простой причине, что не существует непосредственного познания чего-либо. Это высказывание мотивировано не каким-либо видом скептицизма или ненависти к разуму, но получено из постоянно повторяемых Сократом утверждений о том, что он ничего не знает и никогда не был никому учителем. Будет ошибкой думать, что если Сократ не обладает знаниями, то единственной этому альтернативой будет его полное невежество: это ложная альтернатива, продвигаемая его врагами-софистами и сегодня обычно известная под именем «парадокса Менона»[48].
Объекты и события
Это возвращает нас назад к возражению моего друга Деланды, который объявил, что у него «нет ясного понимания того, почему Харман решил уцепиться за объекты», игнорируя при этом события. Это утверждение Деланда частично воспроизводит в нашем новом недавно опубликованном диалоге[49]. В современной философии термин «событие» отсылает к весьма специфическому происшествию, часто подразумевающему, что его составляющие не имеют определенного независимого существования за его пределами. К примеру, можно было бы утверждать, что The Beatles были «событием» и что в действительности невозможно говорить о Джоне, Поле, Джордже и Ринго как о независимых сущностях до группы, учитывая, насколько драматически изменились их жизни после ее возникновения. Но, согласно тому взгляду на вещи, которым пользуется ООО, это абсурд. Напротив, каждый из четырех членов группы был объектом до своего к ней присоединения, и группа как целое – тоже объект (способный пережить уход по крайней мере двух участников до появления Ринго). Тот факт, что группа может производить мощное обратное воздействие на своих участников, не означает, что последние не существовали до «события» «Битлз». Именно так могли бы рассуждать оппоненты ООО вроде Карен Барад, учитывая ее интересное, но ничем не подкрепленное утверждение, что участники отношения не существуют до его возникновения[50]. В более общем плане каждое реальное событие для ООО – это тоже реальный объект. Едва ли важно, что каждое событие имеет большое число составных частей, так как то же самое относится и к любому объекту: многое происходит во время урагана, но многое происходит и в неподвижной песчинке. События по своей природе также не живут меньше объектов. Существуют долговременные физические объекты вроде пульсаров и гранита, но есть и краткосрочные вроде мух-однодневок или искусственных химических элементов с высоким положением в периодической таблице. По тому же принципу происходят кратковременные события, такие как стометровый забег или два обменивающихся взглядами человека, но также и длительные: правление британских королев Виктории и Елизаветы II либо звездная эра Вселенной. По этой причине большая или меньшая длительность не является достаточным критерием для рассортировки вещей по кучкам: в одну под названием «объекты», а в другую под названием «события».
Повторюсь, единственным необходимым критерием для объекта в ООО является невозможность его редукции в обоих направлениях: объект – это больше, чем его части, и меньше, чем его последствия. Как мы видели, это не значит, что всегда легко определить, соответствует ли тот или иной кандидат на объектность данным критериям. Во время президентской кампании 2008 года в США ходило много разговоров о влиятельной группе, именуемой «футбольными мамочками»: это женщины из пригородов с детьми, с образованием выше среднего, с либеральными взглядами на общество, но склонные к поддержке жесткой политики в сфере национальной обороны. Проиграл ли Джон Маккейн выборы Бараку Обаме потому, что не смог заручиться достаточной поддержкой этих футбольных мамочек? Можем ли мы хотя бы быть уверены в том, что подобная группа когда-либо существовала хоть в каком-то осмысленном виде? Не существует способа знать наверняка, а также когда-либо быть уверенным в том, что наш супруг – это не правительственный агент, нанятый для того, чтобы за нами следить, как по некоторым сообщениям время от времени случалось в бывшей Восточной Германии. Мы можем обладать лишь разумной уверенностью, что определенные убеждения ложны, что существуют методы, помогающие нам с высокой степенью достоверности отделять объекты от псевдообъектов: некоторые из них – знакомые и давно применяющиеся методы, другие взяты из самой ООО.
Плоская онтология
Перед тем как перейти к завершению этой главы, будет полезно ввести термин «плоская онтология». Выше уже отмечалось, что онтология – это ветвь философии, имеющая дело с предельными вопросами о том, что такое реальность и вещи в ней. ООО использует данный термин в том же смысле, что и Деланда, отсылая к онтологии, которая исходно рассматривает все объекты одинаково, а не предполагает заранее, что разные типы объектов требуют совершенно разных онтологий. Заметьте, что современная философия (от Декарта в 1600-е годы до Бадью и Жижека сегодня) категорически не является плоской, так как предполагает строгое разделение между человеческой мыслью с одной стороны и всем остальным – с другой. Наряду с Деландой плоскую онтологию продуктивно использовал Леви Брайант[51]. Этот термин ранее использовался британским философом науки Роем Бхаскаром, хотя и в прямо противоположном смысле[52]. Как бы то ни было, ООО использует термин «плоская онтология» в позитивном смысле, как у Деланды, хотя следует также отметить, что ООО не считает плоскую онтологию абсолютным благом. Короче говоря, плоская онтология служит для философии хорошим стартом, но разочаровывающим финишем. К примеру, ранее в этой главе я приводил доводы в пользу того, что философия должна уметь говорить обо всем – о Шерлоке Холмсе, реальных людях и животных, химикатах, галлюцинациях, – не устраняя раньше времени некоторые из этих объектов и не ранжируя их нетерпеливо от более реальных к менее реальным. У нас могут быть предубеждения, заставляющие нас думать, что философия обязана иметь дело только с естественными, а не с искусственными объектами, которые должны быть отвергнуты по причине их нереальности. В этом, как и во многих других случаях, изначальная приверженность плоской онтологии есть полезный способ убедиться, что мы не зарылись в наши персональные предрассудки о том, что реально, а что – нет. И все же плоская онтология стала бы разочаровывающим завершением для любой философии. Если представить, что после пятидесяти лет философствования объектно-ориентированный мыслитель не сможет сказать ничего, кроме того, что «люди, животные, неодушевленная материя и вымышленные персонажи – все одинаково существуют», это будет означать, что никакого особого прогресса не случилось. Короче говоря, от философии мы ждем рассказа о свойствах, присущих каждой вещи (everything), но также мы хотели бы, чтобы она поведала нам о различиях между разными видами вещей. Мне кажется, что все модерные (modern) философии слишком спешат начать со второй задачи еще до того, как они последовательно выполнят первую.


