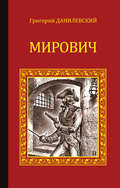Григорий Данилевский
Княжна Тараканова
XXV
Судьба Таракановой, между тем, не улучшилась. Московские празднества в честь мира с Турцией заставили о ней на некоторое время позабыть. После их окончания ей предложили новые обвинительные статьи и новые вопросные пункты. Был призван и напущен на нее сам Шешковский. Допросы усилились. Добиваемая болезнью и нравственными муками, в тяжелой, непривычной обстановке и в присутствии бессменных часовых, она с каждым днем чахла и таяла. Были часы, когда ждали ее немедленной кончины.
После одного из таких дней арестантка схватила перо и набросала письмо императрице.
«Исторгаясь из объятий смерти, – писала она, – молю у Ваших ног. Спрашивают, кто я? Но разве факт рождения может для кого-либо считаться преступлением? Днем и ночью в моей комнате мужчины. Мои страдания таковы, что вся природа во мне содрогается. Отказав в Вашем милосердии, Вы откажете не мне одной…»
Императрица досадовала, что еще не могла оставить Москвы и лично видеть пленницу, которая вызывала к себе то сильный ее гнев, то искреннее, невольное, тайное сожаление.
В августе фельдмаршал Голицын опять посетил пленницу.
– Вы выдавали себя персианкой, потом родом из Аравии, черкешенкой, наконец, нашею княжной, – сказал он ей, – уверяли, что знаете восточные языки; мы давали ваши письмена сведущим людям – они в них ничего не поняли. Неужели, простите, и это обман?
– Как это все глупо! – с презрительной усмешкой и сильно закашливаясь, ответила Тараканова. – Разве персы или арабы учат своих женщин грамоте? Я в детстве кое-чему выучилась там сама. И почему должно верить не мне, а вашим чтецам?
Голицыну стало жаль долее, по пунктам, составленным Ушаковым, расспрашивать эту бедную, еле дышавшую женщину.
– Послушайте, – сказал он, смигивая слезы и как бы вспомнив нечто более важное и настоятельное, – не до споров теперь… ваши силы падают… Мне не разрешено – но я велю вас перевести в другое, более просторное помещение, давать вам пищу с комендантской кухни… Не желаете ли духовника, чтобы… понимаете… все мы во власти божьей… чтобы приготовиться…
– К смерти, не правда ли? – перебила, качнув головой, пленница.
– Да, – ответил Голицын.
– Пришлите… вижу сама, пора…
– Кого желаете? – спросил, нагнувшись к ней, князь. – Католика, протестанта или нашей греко-российской веры?
– Я русская, – проговорила арестантка, – пришлите русского, православного.
«Итак, кончено! – мыслила она в следующую, как и прежние, бессонную ночь. – Мрак без рассвета, ужас без конца. Смерть… вот она близится, скоро… быть может, завтра… а они не утомились, допрашивают…»
Пленница привстала, облокотилась об изголовье кровати.
«Но кто же я, наконец? – спросила она себя, устремляя глаза на образ Спаса. – Ужели трудно дать себе отчет даже в эти, последние, быть может, минуты? Ужели, если я не та, за какую себя считала, я не сознаюсь в том? из-за чего? из чувства ли омерзения к ним, или из-за непомерного гнева и мести опозоренной ими, раздавленной женщины?»
И она старалась усиленно припомнить свое прошлое, допытываясь в нем мельчайших подробностей.
Ей представилась ее недавняя, веселая, роскошная жизнь, ряд успехов, выезды, приемы, вечера. Придворные, дипломаты, графы, владетельные князья.
«Сколько было поклонников! – мыслила она. – Из-за чего-нибудь они ухаживали за мною, предлагали мне свое сердце и достояние, искали моей руки… За красоту, за уменье нравиться, за ум? Но есть много красивых и умных, более меня ловких женщин; почему же князь Лимбургский не безумствовал с ними, не отдавал им, как мне, своих земель и замков, не водворял их в подаренных владениях? Почему именно ко мне льнули все эти Радзивиллы и Потоцкие, почему искал со мною встречи могучий фаворит бывшего русского двора Шувалов? Из-за чего меня окружали высоким, почти благоговейным почтением, жадно расспрашивали о прошлом? Да, я отмечена промыслом, избрана к чему-то особому, мне самой непонятному».
– Детство! в нем одном разгадка! – шептала пленница, хватаясь за отдаленнейшие, первые свои воспоминания. – В нем одном доказательства.
Но это детство было смутно и непонятно ей самой. Ей припоминалась глухая деревушка где-то на юге, в пустыне, большие тенистые деревья над невысоким жильем, огород, за ним – зеленые, безбрежные поля. Добрая, ласковая старуха ее кормила, одевала. Далее – переезд на мягко колыхавшейся, набитой душистым сеном подводе, долгий веселый путь через новые неоглядные поля, реки, горы и леса.
– Да кто же я, кто? – в отчаянии вскрикивала арестантка, рыдая и колотя себя в обезумевшую, отупелую голову. – Им нужны доказательства!.. Но где они? И что я могу прибавить к сказанному? Как могу отделить правду от навеянного жизнью вымысла? Может ли, наконец, заброшенное, слабое, беспомощное дитя знать о том, что от него со временем грозно потребуют ответа даже о самом его рождении? Суд надо мною насильный, неправый. И не мне помогать в разубеждении моих притеснителей. Пусть позорят, путают, ловят, добивают меня. Не я виновна в моем имени, в моем рождении… Я единственный живой свидетель своего прошлого; других свидетелей у них нет. Что же они злобствуют? У господа немало чудес. Ужели он в возмездие слабой, угнетаемой не явит чуда, не распахнет двери этого гроба-мешка, этой каменной, злодейской тюрьмы!..
XXVI
Миновали теплые осенние дни. Настал дождливый суровый ноябрь.
Отец Петр Андреев, старший священник Казанского собора, был образованный, начитанный и еще не старый человек. Он осенью 1775 года ожидал из Чернигова дочь брата, свою крестницу Варю. Варя выехала в Петербург с другою, ей знакомою девушкой, имевшей надежду лично подать просьбу государыне по какому-то важному делу.
Домишко отца Петра, с антресолями и с крыльцом на улицу, стоял в мещанской слободке, сзади Казанского собора и боком ко двору гетмана Разумовского. Дубы и липы обширного гетманского сада укрывали его черепичную крышу, простирая густые, теперь безлистные ветви и над крошечным поповским двором.
Овдовев несколько лет назад, бездетный отец Петр жил настоящим отшельником. Его ворота были постоянно на запоре. Огромный цепной пес, Полкан, на малейшую тревогу за калиткой поднимал нескончаемый, громкий лай. Редкие посетители, вне церковных треб имевшие дело к священнику, входили к нему с уличного крыльца, бывшего также все время назаперти.
Письмо племянницы обрадовало отца Петра. В нем он прочитал и нечто необычайное. Варя писала, что соседняя с их хутором барышня незадолго перед тем получила из-за границы, от неизвестного лица при письме на ее имя, пачку исписанных листков, найденную где-то в выброшенной морем, засмоленной бутыли.
«Милый крестный и дорогой дядюшка, простите глупому уму, – писала дяде Варя, – прочли мы с этою барышней те бумаги и решили ехать, и едем; а к кому было, как не к вам, направить сироту? Год назад она схоронила родителя, а в присланных листках описано про персону такой важности, что и сказать о том – надо подумать. Сперва барышня полагала отправить ту присылку в Москву, прямо ее величеству, да порешили мы спроста иначе, вы, крестный дяденька, знаете про всякие дела, всюду вхожи и везде вам внимание и почет; как присоветуете, тому и быть. А имя барышни Ирина Львовна, а прозвищем дочка бригадира Ракитина».
«Ветрогонки, вертухи! – заботливо качая головой, мыслил священник по прочтении письма. – Эк, сороки, обладили какое дело… затеяли из Чернигова в Питер, со мною советоваться… нашли с кем!..»
Каждый вечер, в сумерки, отец Петр, не зажигая свечи, любил запросто, в домашнем подряснике, прохаживаться по гладкому, холщовому половику, простланному вдоль комнат, от передней в приемную, до спальни и обратно. Он в это время подходил к горшкам гераний и других цветов, стоявших по окнам, ощипывал на них сухие листья и сорную травку, перекладывал книги на столах, посматривал на клетку со спящим скворцом, на киот с образами и на теплившуюся лампадку и все думал-думал: когда наконец оживятся его горницы? когда явятся вертуньи?
Гости подъехали.
Дом священника ожил и посветлел. Веселая и разбитная крестница Варюша засыпала дядю вестями о родине, о знакомых и о путевых приключениях. Слушая ее, отец Петр думал:
«Давно ли ее привозили сюда, невзрачною, курносою, молчаливою и дикою девочкой? А теперь – как она жива, мила и умна! Да и ее спутница… вот уж писаная красавица! что за густые, черные косы, что за глаза! И в другом роде, чем Варя, – задумчива, сдержанна, строга и горда!»
После первых радостных расспросов и возгласов дядя ушел на очередь ко всенощной, а гостьи наскоро устроились на вышке, собрали узелки, сходили с кухаркой в баню и, возвратясь, расположились у растопленного камелька. Отец Петр застал их красными, в виде вареных раков, с повязанными головами и за чаем. Разговорились и просидели далеко за полночь.
– А где же, государыни мои, привезенное вами? – спросил, отходя ко сну, отец Петр. – Дело любопытное и для меня… в чем суть?
Девушки порылись в укладках и узелках, достали и подали ему сверток с надписью: «Дневник лейтенанта Концова».
XXVII
Отец Петр спустился в спальню, задернул оконные занавески, поставил свечу у изголовья, прилег, не раздеваясь, на постель, развернул смятую тетрадь синей, заграничной почтовой бумаги, с золотым обрезом, и начал читать.
Он не спал до утра.
История княжны Таракановой, принцессы Владимирской, известная отцу Петру по немногим, сбивчивым слухам, раскрылась перед ним с неожиданными подробностями.
«Так вот что это, вот о ком здесь речь! – думал он, с первых строк, о загадочной княжне, то отрываясь от чтения и лежа с закрытыми глазами, то опять принимаясь за рукопись. – И где теперь эта бедная, так коварно похищенная женщина? – спрашивал он себя, дойдя до ливорнской истории. – Где она влачит дни? И спасся ли, жив ли сам писавший эти строки?»
Сгорела одна свеча, догорала и другая. Отец Петр дочитал тетрадь, погасил щипцами мигавший огарок, прошел в другие комнаты и стал бродить из угла в угол по половику. Начинал чуть брезжить рассвет.
– Ах, события! ах, горестное сплетение дел! – шептал священник. – Страдалица! помоги ей господь.
Проснулся в клетке скворец и, видя столь необычное хождение хозяина, странно, пугливо чокнул.
«Еще всех разбудишь!» – решил отец Петр. Он на цыпочках возвратился в спальню, прилег и снова начал обсуждать прочтенное. Его мысли перенеслись в прошлое царствование, в море тайных и явных, ему, как и другим, известных событий. Священник заснул. Его разбудил благовест к заутрени! Сквозь занавески светило бледное туманное утро. Отец Петр запер в стол рукопись, пошел в церковь, отправил службу и возвратился черным ходом через кухню. Завидя крестницу с утюгом, у лесенки на вышку, он ее остановил знаком.
– А скажи, Варя, – произнес он вполголоса, – этот-то, писавший дневник… Концов, что ли… видно, ей жених?..
Варя послюнила палец, тронула им об утюг, тот зашипел.
– Сватался, – ответила она, помахивая утюгом.
– Ну и что же?
– Ирина Львовна ничего… отец отказал.
– Стало, разошлось дело?
– Вестимо.
– А теперь?
– Что на это сказать? Сирота она, и рада бы, может… на своей ведь теперь воле… да где он?
– Корабль, видно, потонул? – произнес отец Петр.
– Где про то дознаться в нашей глуши! Вам бы, дяденька, проведать у моряков; не одни люди, погибли и графские богатства… Где-нибудь да есть же след…
– Кто твоей товарке выслал эти листки?
– Бог его ведает. С почты привезли повестку. Ариша и получила. На посылке была надпись – Ракитиной, там-то, а в записке на французском языке сказано, что рукопись найдена рыбаками в бутыли, где-то на морском берегу. В Ракитном Ирина нынче одна из всей родни осталась, как перст, ей и доставили посылку…
Священник, не подавая о том вида ни крестнице, ни гостье, пустился в усердные разведки. Его старания были неуспешны.
В морской коллегии оказалась только справка, что фрегат «Северный Орел», на котором везли из Италии больных и отсталых флотской команды и собственные вещи графа Орлова, действительно был унесен бурей в Атлантический океан, что его видели некоторое время за Гибралтаром, у африканских берегов, невдали от Танжера, и что, очевидно, он разбился и утонул где-либо у Азорских или Канарских островов. О судьбе же лейтенанта Концова и даже о том, ехал ли он именно на этом корабле и спасся ли при этом он или кто другой, не могло быть и справки, так как, по-видимому, весь экипаж утонул. Бывший же начальник эскадры Орлов и ее ближайший командир Грейг в то время находились в Москве, а еще спрашивать было некого. В иностранных газетах проскользнула только кем-то пущенная весть, будто какие-то моряки видели в океане разбитый корабль. Без команды, несшийся далее на запад, к Мадере и Азорским островам. Подойти к нему и его осмотреть не допустил сильный шторм.
«Жаль барыньку, – мыслил священник, глядя на Ракитину, – экая умница, да степенная! Богата, молода… Вот бы парочка тому-то, претерпевшему, спаси его господь!.. Нет, видно, и он погиб с другими, был бы жив, отозвался бы на родину, товарищам по службе или родным…»
Он улучил однажды свободный час и разговорился с Ириной.
– Скажите, барышня, – произнес священник, – я слышал от племянницы о вашей печали, вас, очевидно, с расчетом развели враги, подставили вам другого жениха. Как это случилось? Почему пренебрегли Концовым?
– Сама не понимаю, – ответила Ирина, – мой покойный отец был расположен к Павлу Евстафьевичу, ласкал его, принимал, как доброго соседа, почти как родного. А уж я-то его любила, мыслью о нем только и жила.
– И что же? Как разошлось?
– Не спрашивайте, – произнесла Ирина, склонив голову на руки, – это такое горе, такое… Мы видались, переписывались, были встречи… я ему клялась искренно, мы только ждали минуты все сказать, открыть отцу…
Ракитина смолкла.
– Ужасно вспомнить, – продолжала она. – Отец, надо полагать, получил какое-нибудь указание, Концова могли ему чем-нибудь опорочить – могли на него наклеветать… Вдруг – это было вечером – вижу запрягают лошадей. «Куда?» – спрашиваю. Отец молчит; выносят вещи, поклажу. У нас гостил родственник из Петербурга; мы втроем сели в карету. «Куда мы?» – спрашиваю отца. «Да вот, недалеко прокатимся», – пошутил он. А шутка вышла такая, что мы без остановки на почтовых проехали в другое имение за тысячу верст. Ни писать, ни иначе дать весть Концову мне долгое время не удавалось, за мной следили. И уже когда отец тяжело заболел в том имении, я отцу все высказала, молила его не губить меня, позволить известить Концова. Он горько заплакал и сказал: «Прости, Ариша, тебя и меня, вижу, жестоко обошли». «Да кто? кто? – спрашиваю, – ужли тот родной искал моей руки?» – «Не руки – денег искал, да боялся, что Концов, оберегая нас, помешает ему. Он наскочил на его письмо к тебе, наговорил на Концова и склонил меня, старого, увезти тебя. Прости, Аринушка, прости; бог покарал и его, недоброго; взял он у меня взаймы, но в Москве проигрался в карты и застрелился, – оставил письмо… вон оно, читай; на днях его переслали мне». Отец недолго потом жил. Я возвратилась в Ракитное; Концова уже не застала там; умерла и его бабка. Я писала в Петербург, куда он выехал, писала и в чужие края, на флот; но тогда была война, письма к нему, очевидно, не доходили. Потом его плен в Турции… потом… вот моя судьба.
– Молитесь, добрая моя, молитесь, – произнес священник. – Горька ваша доля… Тут одно спасение и защита – господь.
Прошло еще несколько дней. Ракитина без устали собирала справки, хлопотала, но все безуспешно.
– Что же, Ирина Львовна, – сказал однажды отец Петр своей гостье, – ездите вы, вижу, все напрасно – то в одно, то в другое место, справляетесь, тревожитесь… Государыня, слышно, будет еще не скоро. Написали бы к начальству Павла Евстафьевича в Москву… не знает ли чего хоть бы граф Орлов?
– Покорно благодарствую, батюшка! – ответила, с поклоном, Ракитина. – Помолитесь, не узнаем ли чего о том корабле без команды? Не прибило ли его куда-нибудь и не спасся ли на нем хоть кто-нибудь, в том числе и Концов… Вчера вот граф Панин обещал разведать через иностранную коллегию, в Испании и на Мадере; Фонвизин, писатель, тоже вызвался… не будет ли вести, обожду еще, а то пора бы и домой, – да как ехать, без успеха… Этот корабль, этот призрак все у меня перед глазами…
XXVIII
Вечером первого декабря 1775 года была особенно ненастная и дождливая погода. Снег, выпавший с утра, растаял. Везде стояли лужи. Экипажи и редкие пешеходы уныло шлепали по воде. Была буря. Она ревела над домом священника, стуча ставнями и раскачивая у забора огромные деревья в смежном, гетманском саду. Нева вздулась. Все ждали наводнения. С крепости изредка раздавались глухие пушечные выстрелы.
Отец Петр сидел сумрачный на вышке у барышень. Разговор под вой и рев ветра не клеился и часто смолкал. Варя гадала на картах; Ирина, с строгим и недовольным лицом, рассказывала, какие алчные пиявки все эти секретари в иностранной коллегии, переводчики и даже писцы; несмотря на приказ и личное внимание графа Панина, они все еще не снеслись с кем надо в Испании и на островах, составляли проекты бумаг, переписывали их, переводили и вновь переписывали, лишь бы тянуть.
– Да вы бы смазочку… через прислугу, или как, – сказал священник.
– Давали и прямо в руки, – ответила Варя за подругу.
Та с укоризной на нее взглянула.
– Ох, уж эти волост́ели-радетели! – произнес отец Петр. – Пора бы из Москвы обратно государыне; плохо без нее.
Дождь наискось хлестал в окна, как град. Измокший и озябший сторожевой пес забрался в конуру, свернулся калачом и молчал, как бы сознавая, что при такой буре и пушечных выстрелах всем, разумеется, не до него.
Вдруг после одного из выстрелов с крепости пес отрывисто и особенно злобно залаял. Сквозь гул ветра послышался стук в калитку. Девушки вздрогнули.
– Аксинья спит, – сказал отец Петр о кухарке. – Кому-то, видно, нужно… с крыльца не дозвонились.
– Я, дяденька, отворю, – сказала Варя.
– Ну, уж по твоей храбрости, лучше сиди.
Священник, спустясь со свечой в сени, отпер уличную дверь. Вошел несколько смокший на крыльце, в треуголке и при шпаге, невысокий, толстый человек, с красным лицом.
– Секретарь главнокомандующего, Ушаков! – сказал он, встряхиваясь. – Имею к вашему высокопреподобию секретное дело.
Священник струхнул. Ему вспомнились бумаги, привезенные Ракитиной. Он запер дверь, пригласил незнакомца в кабинет, зажег другую свечу и, указав гостю стул, сел, готовясь слушать.
– Проповеди-с Массильона? – произнес Ушаков, отирая окоченелые руки и присматриваясь к книге знаменитых «Sepmons»[9], лежащей у отца Петра на столе. – Изволите хорошо знать по-французски?
– Маракую, – ответил священник, мысля: «Что ему в самом деле до меня и в такой поздний час?»
– Вероятно, батюшка, изволите знать и по-немецки? – спросил Ушаков. – А кстати, может быть, и по-итальянски?
– По-немецки тоже обучался; итальянский же близок к латинскому.
– Следовательно, – продолжал гость, – хоть несколько и говорите на этих языках?
«Вот явился прец́ептор, экзаменовать!» – подумал священник.
– Могу-с, – ответил он.
– Странны, не правда ли, отец Петр, такие вопросы, особенно ночью? – произнес гость. – Ведь согласитесь, странны?
– Да, таки, поздненько, – ответил, зевнув и смотря на него, священник.
Ушаков переложил ногу на ногу, вскинул глаза на стену, увидел в рамке за стеклом портрет опального архиерея, Арсения Мацеевича, и подумал: «Вот что! сочувственник этому вралю… надо быть настойчивее, резче!»
– Ну, не буду длить, вот что-с, – объявил он. – Его сиятельству, господину главнокомандующему, благоугодно, чтобы ваше высокопреподобие, взяв нужные святости, тотчас и без всякого отлагательства потрудились отправиться со мной в одно место… Там иностранка-с… греко-российской веры…
– В чем же дело?
– Нужно совершение двух таинств.
– Каких именно?
– А вам, извините, зачем знать? разве нужно заранее? – возразил Ушаков. – Тут не должно быть колебаний, повеление свыше.
– Необходимо приготовиться, – сказал священник, – что именно ранее?
– Сперва крещение, потом исповедь с причастием, – ответил Ушаков.
– И теперь же, ночью?
– Так точно-с, карета готова.
– Позволите взять причетника?
– Велено, слышите ли, без свидетелей.
– Куда же это, смею спросить?
– Ответить не могу. Изволите увидеть после, а теперь одно – беспродлительно и в полном секрете! – заключил Ушаков, кланяясь как-то кверху, хотя, в знак просьбы, обеими руками прижимая к груди обрызганный дождем треугол.
– Могу объявить домашним, успокоить их?
Ушаков, зажмурясь, отрицательно замахал головой.
Священник взял крест и книги, крикнул на вышку: «Варенька, запри дверь!» – и когда племянница спустилась в сени, карета, гремя, уже катилась по улице. Подъехав к церковной ограде, отец Петр разбудил привратника, вошел в церковь и взял дароносицу.