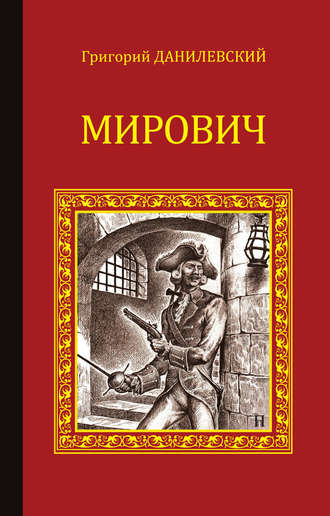
Григорий Данилевский
Мирович
* * *
© ООО «Издательский дом «Вече», 2013
© ООО «Издательство «Вече», 2014
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2016
Знак информационной продукции 12+
Об авторе
Григорий Петрович Данилевский родился 14 апреля 1829 года в Харьковской губернии в семье богатых дворян. С ранних лет он ощущал в себе сильную тягу к природе, языку и культуре милой сердцу Украины. Эта любовь нашла отражение и в последующем литературном творчестве Данилевского. Практически во всех произведениях писателя среди персонажей присутствуют украинцы.
Студенческие годы молодого Данилевского были отмечены двумя событиями: первыми поэтическими публикациями и арестом по делу кружка петрашевцев, с последующим тюремным заключением в Петропавловскую крепость. Лишь благодаря ходатайству матери начинающего литератора следственная комиссия и сам царь Николай I смогли быстро разобраться в абсолютной непричастности к делу студента Данилевского, «водившего не более чем случайное знакомство с одним из заговорщиков».
После учебы на юридическом факультете Петербургского университета молодой человек поступил на службу в Министерство народного просвещения и быстро сделал карьеру, уже через год став чиновником по особым поручениям. Среди его заслуг – подробное описание побережья Азовского моря и устья реки Дон. Не оставляя мелких литературных занятий, Данилевский всерьез начинает заниматься историей. Он часто выезжает в длительные командировки в монастыри юга России для работы в местных архивах. В 1851 году Данилевский знакомится с Гоголем, после чего в творчестве молодого литератора начинают преобладать произведения из украинской жизни, с ее колоритным юмором, бытовыми особенностями и мягкой природной красотой. Наибольший интерес у читателей и критиков снискал его сборник «Слобожане», выпущенный в 1853 году и состоящий из коротких рассказов на темы малороссийской старины.
Выйдя в отставку, в 1857 году Данилевский возвращается в родное имение и включается в общественную деятельность, но тяга к творчеству оказывается сильнее. Он решает перейти от малой формы к большой.
Его первый роман «Беглые в Новороссии», подписанный псевдонимом А. Скавронский, публиковался в журнале братьев Достоевских «Время» в 1862 году. После успеха этого сочинения Данилевский пишет еще два романа из жизни Приазовского края – «Беглые воротились» и «Новые места». Эти произведения с запутанной интригой были близки к популярным тогда авантюрным романам с лихими подвигами разбойников, погонями и похищениями. Устав от современности, Данилевский решает написать повесть «Потемкин на Дунае», с которой и начинается его вторая половина творчества, почти исключительно посвященная исторической беллетристике.
Один за другим появляются романы «Мирович», «Княжна Тараканова», «Сожженная Москва», «Черный год». Эти и ряд других произведений, повествующих о «делах давно минувших дней», отличаются большим разнообразием сюжетов и умением автора быстро завладеть вниманием читателя. Подходя к своей работе со всей серьезностью историка-исследователя, Данилевский всегда старался посещать описываемые им места. «Эпоха оживала под пером Данилевского», – говорили с восторгом современники автора.
Последние годы жизни писателя прошли в Петербурге, где он занимал пост главного редактора газеты «Правительственный Вестник». Дослужившись до чина тайного советника, Григорий Петрович Данилевский ушел из жизни в городе на Неве, в самом конце 1890 года, достигнув уважения и почета как литератор и общественный деятель.
В. Мартов
Избранные произведения Г. П. Данилевского
«Беглые в Новороссии» (1862)
«Беглые воротились» («Воля») (1863)
«Новые места» (1867)
«Девятый вал» (1874)
«Потемкин на Дунае» (1878)
«Мирович» (1879)
«Княжна Тараканова» (1883)
«Сожженная Москва» (1886)
«Черный год» (1888–1889)
Часть первая. Царственный узник
– Да, – скажут наши правнуки, – им было больно угнетение России.
Ледяной дом
I. Курьер из завоеванной Пруссии
Императрица Елисавета Петровна скончалась 25 декабря 1761 года, в самый разгар войны России с Пруссией. Войска Фридриха были уже не те: лучшие его офицеры убиты или взяты в плен.
За год перед тем отряд генерал-поручика Петра Ивановича Панина овладел Берлином. Казаки, с союзниками-кроатами, опустошили столицу Фридриха Второго, разграбили в ней до трехсот домов, не пощадили и загородного королевского дворца: изломали в нем дорогую мебель, перебили фарфор, бронзы и зеркала, изорвали штофные и гобеленовые обои, изрубили итальянские картины и разнесли в клочки кабинет редкостей.
Начальники не отставали от подчиненных. Дано было приказание прогнать сквозь строй «Под-липами» берлинских «газетиров» за то, что эти публицисты слишком обидно и дерзко писали о русских. Вследствие такого приказа «противные России, печатные в газетах письма» жгли через палача под виселицей, а сочинителей тех писем вывели на экзекуционс-плац, чтобы наказать, за их противности, шпицрутеном. Генерал Чернышев их помиловал. Одного «дусёргельда» на вино, на сигары и вообще на угощение русской армии было истребовано от Берлина сто тысяч. Измена командира отдельного русского корпуса, графа Тотлебена, и его арест, с общего совета всех русских полковых командиров, на марше в Померании не изменили рвения победоносной армии. Положение Фридриха было отчаянное. Он из прусского короля стал опять ничтожным бранденбургским курфюрстом. В Кёнигсберге поселился русский губернатор, отец Суворова. Вся Пруссия была завоевана и – после роковой надписи Елисаветы «быть по сему» на докладе о ее присоединении – присягнула в подданство русской императрице. В этой новой «губернии» стали вводить русские порядки. В ней явилась русская миссия с архимандритом; начали чеканить русскую монету. И вдруг обстоятельства изменились…
Племянник Елисаветы Петровны, император Петр III, в самый день смерти тетки, вошел с обожаемым им королем Фридрихом в переговоры о перемирии. Губернатор Суворов, по именному указу, сдал войска и управление прусским королевством генерал-поручику Петру Ивановичу Панину, а сам уехал в Петербург и стал, из-за долгов, публиковать в ведомостях о продаже своего имущества. За ним, радуясь манифесту «о вольности дворянства», двинулись под разными предлогами в Россию и другие офицеры, особенно штабные. Огорчения обидных уступок забывались. Всех волей-неволей манило из долгого похода на родину…
В конце февраля 1762 года, на курьерской тройке в пошевнях, по пути из Пруссии в Петербург выехал среднего роста, лет двадцати двух, сухощавый, с черными строгими, несколько рассеянными и как бы недовольными глазами, офицер из Кёнигсберга. Был второй час пополудни. Он спешил застать присутствие в военной коллегии. От въезда в город у Калинкина моста до здания коллегии (Штегельмановский дом на Мойке, у Красного моста, – где ныне Институт глухонемых) офицер всячески торопил ямщика. Десять дней в пути в ростепель и половодье по Литве сильно его утомили. Он вез собственноручные бумаги Панина, с робким, хотя ясным предложением – попытаться продолжать войну. В мыслях офицера рисовался ожидаемый им, полный неизвестности, прием, борьба Панина с дворскими партиями и вероятное сочувствие и поздравления товарищей. Он добрался до коллегии, одернул на себе поношенный зеленый, с таким же воротом, кафтан и красный камзол, обмахнул снег с черных штиблет и тупоносых, без пряжек, истоптанных башмаков и оправил ненапудренные букли и космы развившейся в дороге светло-русой, запорошенной инеем косы. Спросив в коллегии генерала, к которому вез от Панина еще частное письмо, он сдал пакеты и, измученный дорогой, ожидал, что его станут расспрашивать, готовил в уме ответы, подбирал убедительные слова.
«Войско, – думал он, – рвется сражаться, смелый прожект Петра Иваныча одолеет… Себя не пожалею, всю правду докажу. Лишь бы отечеству польза, – лишь бы оценили смелость столь честного и неподкупного командира!..»
Белолицый, важный ростом и повадкой, дежурный генерал Бехлешов прочитал привезенное письмо, остальные бумаги отложил к стороне, пристально вгляделся в посланного, сердито потоптался на месте и, презрительно фыркая, сказал:
– Новости твои, сударь, вовсе не важны… А Петр Иваныч хоть и почтенный патриот, почтенный, – но… да это не твое дело… Война – экие смельчаки! Тут о перемирии, а они о войне! Завтра, сударь, воскресенье… а впрочем, наведайся послезавтра…
Офицер вспыхнул. «Ах, ты, кукла плюгавая, пузырь! – хотел он сказать. – Еще о патриотах судит. Ну, да этот еще не бог весть какая птица! Что скажут другие, вся коллегия?»
Он вздохнул, вышел, постоял, несколько опешенный, на улице и велел ямщику ехать на Васильевский остров. На сердце у него отлегло. Вид знакомых, когда-то близких мест отрадно повеял на него. И солнце кстати выглянуло и так весело осветило улицы, дома и душу путника.
Проезжая мимо шляхетного кадетского корпуса (дом Меньшикова, теперь Павловское военное училище), он снял шляпу и перекрестился; здесь прошло его учение и отсюда, из кадетов, два года назад, он был послан в заграничную армию. На углу одной из дальних линий и набережной Невы он завидел почернелый забор и ветхую крышу домика, с давних пор принадлежавшего вдове лейб-кампанца Настасье Бавыкиной.
Сердце путника сжалось. Сюда по праздничным дням, бездомный, круглый сирота, столько лет сряду, хаживал он из корпуса в гости. Здесь приветная и твердая нравом, бездетная и сердобольная старуха, Настасья Филатовна, прозванием «царицына сказочница», ласкала его, и в нем, бедном кадете, находила утешение в своем одиночестве и сиротстве. Дом ее был в ту зиму, как знал из ее писем офицер, продан за долги, и его хозяйка переехала куда-то на квартиру, не успев ему сообщить нового своего адреса. Офицер остановился у знакомых ворот.
– Вам кого? – спросил его какой-то мещанин, сидевший под навесом соседнего крыльца.
Офицер назвал Бавыкину.
– Рухнул древний, крепкий столб, – сказал мещанин, – и она, властная, сократилась: из домохозяйки жилицей стала… Приходят, знать, последни времена.
– Да куда ж она переехала? Где живет?
– У звездочета какого-то, ученого… Уела ныне нас всех эта анафема – дороговизна… Приступу ни к чему нетути, хоть ложись да помирай… На погорелых, слышно, местах, на Мойке, каменный дом чей-то против Съезжей, а Филатовна во дворе, внизу, в деревянном фатеру снимает – там вывеска портного… Спроси звездочета – всяк тебе там покажет…
Офицер поехал к Синему мосту, а оттуда вправо, берегом Мойки, и остановился против места, где теперь, у пешеходного мостика, помещаются здания Почтамта. Здесь на пустынный и низменный, без набережной и ограды, берег Мойки выходил кирпичный, одноэтажный, похожий на фабрику дом, с высокой трубой. На заборе была вывеска портного. За каменным зданием, в глубине двора, высился обветшалыми стенами другой дом, деревянный, в два яруса, с красною голландскою черепичною крышей. Снизу в верхнюю половину этого дома вела открытая, с площадкой, лестница, навесом для которой служили ветви высокой, в несколько обхватов березы, росшей на дворе у крыльца и, без всякого сомнения, видевшей еще шведов и Первого Петра. Влево, за вторым домом, выглядывал безлистый, обсыпанный снегом сад.
Смеркалось, когда голубая, цвета васильков, тогдашняя общеармейская шинель путника показалась во дворе, где теперь жила Бавыкина. Чуть не потеряв на крыльце истрепанной ветром, с трех углов подвернутой, поярковой шляпы, офицер с тощим чемоданом под мышкой быстро вошел в нижние сени. Он сунул в угол чемодан, шагнул в полуосвещенную комнату направо, оттуда в какую-то «боковушку» налево и, растерявшись, остановился у новой двери. За нею была опять перегородка. В щель этой двери пробивался свет.
«Верно, тут, – подумал гость, оглядываясь и переводя дыхание, – вот удивится!»
– Настасья Филатовна, здравствуйте! – сказал он, постучавшись в дверь.
– Никакой Настасьи Филатовны здесь нетути-с! – отозвался недовольный суровый голос из-за перегородки. – Дессиянс-академии академик тут живет… извините…
«Что же это значит?» – подумал озадаченный гость.
– Академии-дессиянс академик здесь, бог мой! – добавил нетерпеливо голос. – А к жилице, благоволите, из прихожей налево… но ее нет дома.
Офицер поблагодарил, хотел идти.
– Вы же, извините, кто? – послышалось за дверью. – Как сказать, коли возвратится?
– Заграничной армии курьер, генеральс-адъютант прусского губернатора Панина, – ответил офицер.
За перегородкой послышался торопливый шорох. Дверь отворилась. На ее пороге, в халате, показался высокого роста, лет за пятьдесят, плечистый и плотный человек с умным, усталым, в красивых морщинах, лицом, с недоумевающими, добрыми глазами, лысый и с крупными жилистыми руками, из которых в одной была табакерка, в другой перо.
– Из армии? Что вы сказали?.. Из Пруссии?..
– Точно так-с… Нарвского пехотного полка подпоручик, ордонанс Панина, курьером с бумагами.
– Знакомец моей жилицы?
– Так точно-с!
Кроткая, ласковая улыбка осветила строгое лицо академика.
– Слышал о вас, слышал… Нежданный гость – тем приятнее. Она и не подозревает. Сколько о вас гадано, толковано. Милости прошу, зайдите пока ко мне…
– Какие же новости? Утешьте, сударь, подарите, – продолжал хозяин, – бьем немцев? Не правда ли? Крошим ферфлюхтеров?..
– Бить-то били, да теперь отступаем и скоро, надо полагать, вовсе вернемся. О перемирии заговорили.
– Что?.. Отступаем? Перемирие? Да кто ж его предложил?
– С нашей, знать, было стороны.
Табакерка и перо академика полетели на стол.
– Как? Мы? О мире? Да вы шутите? – вскрикнул дебелый, широкий в кости, академик, дрожащими руками оправляя на плечах потертый серый китайчатый халат. – Ах, дерзость! Ах, наглость и стыд! Батюшки! После стольких-то побед!.. Голубчик, молодой вы человек, с дороги озябли… устали… садитесь… Лизхен! Лизавета Андреевна! Леночка! Чаю, самоварчик ему… умываться скорее…
– Bitte, bitte, gleich![1] – отозвался женский голос из соседней комнаты.
– Извините, – поклонился офицер, – ваша жилица, Настасья Филатовна, мне старая благодетельница…
– Знаю, не обидится… Мы с ней почасту толкуем… архива всяких преданий!..
– Где ж она?
– К вечерне, должно, ушла. Переждите: вот, пожалуйте сюда, в комнату моей дочушки, Леночки; но осторожней. Тут у меня, как у крота, переходов да всяких клеток. Каменный дом под фабрику мною строен; а этот с садом уцелел от пожара, – в старину еще, другими наложен. Внизу у нас жильцы и женино хозяйство; наверху ж мой рабочий кабинет, инструменты, электрические батареи, подзорные трубы, реторты да колбы…
В комнату, куда академик ввел гостя, вбежала с полотенцем и со свечой улыбающаяся девочка лет тринадцати, тоненькая, белокурая, в локонах, голубыми глазами и улыбкой похожая на отца. За ней, с тазом и кувшином воды, повторяя снова: «Bitte, bitte», вошла еще красивая, полная, в белом фартуке, чепце и с засученными по локти рукавами, жена хозяина. Все они и самые комнаты, теплые, уютные, казались офицеру такими добрыми, ласковыми.
– Вот вам, голубчик вы мой, мыло и вода! – сказал академик, когда дамы ушли. – Делайте свой туалет без церемоний: а я – простите за любопытство – еще кое о чем вас расспрошу… Так, перемирие? Ах, они окаянные, слепцы…
– Панин хочет поправить дело и прислал рапорт: жалко, армия стремится к бою.
– И что ж? Есть надежда поправить дело?
– Бог весть, как посудят; союзников нынче, сказывают, у Пруссии немало и здесь.
– Рвань поросячья! Каины! Черти особые, их же и крест российский не берет! – шагая по горенке, сердито вскрикнул академик. – Иродовы души! Травка гнусная, фуфарка!..
Он закашлялся и, поборая волнение, остановился у стемневшего окна.
– Бес шел сеять на болото всякие плевелы и дрянь, – сказал он, не оглядываясь, – да и просыпал нечаянно это зелье – фуфарку; ну, из него и родился весь немецкий синклит: сам старый лукавец Фриц, его генерал Гильзен и Циттен, а с ними и наши доморослые колбасники – Бироны, Тауберты, Винцгеймы и вся братия… И их еще не ругать? Вздор! – обернулся и махнул кулаком академик. – Я их ругаю за нелюбовь к кормящей их России, позорно, в глаза, самою сугубою и их же пакостною немецкою бранью. Говорю ж с ними в конференции не иначе, как по-латыни. Не выносит их бунтующая против такой напасти с такого бесстыдства душа.
– Но их сила, господин академик! – произнес офицер. – Не лучше ли иметь с ними волчий зуб да лисий хвост?
– Один волчий зуб, без всякого хвоста! – более и более раздражаясь, крикнул академик. – Не церемонюсь я с несытыми в алчной злобе проходимцами и потому у них не в авантаже… Таков, сударь, моей натуры чин и склад!.. Ах, дерзость! Ах, нескончаемая лютость, поправшая всякий естества закон… Так это правда? Успела голубица мира, успел Гудович доставить масличную ветку в Берлин? Боже-Господи! Уж-ли ж побежденному королю вверять судьбы российской исконной политики? Да этого, друг мой, Россия с ордынских баскаков не видывала…
– Жил я между немцами, – сказал офицер, – извините, хоть и враги наши, а у них хорошо: порядок, науки.
– Да нас-то они ненавидят, не признают. Бить бы тамошних до конца, здешние бы присмирели!.. Ни одобрения к возрастанию родных наук, ни чести по рангу, ни внимания к каторжному, в здешнем крае, ученому труду! Я мозаику, сударь, я стеклянный завод завел, а они – конюхов да сапожников креатуры – жалованье мне завалящими книжками из академической лавки платили. Я открытия делал, оды писал, а с меня, когда я жил в казенном доме, деньги за две убогих горенки высчитывали. Истомили меня, истерзали кляузами… Поневоле другой стал бы пригинаться, слабеть, как иные – не хочу их называть – Лазаря знатным барам петь, на задних лапках за подачкой стоять… Да не буду стоять! не буду подличать!.. Друзья у меня не по знатности – по гению и по усердству наук… И душа моя, сударь, плебейская, поморская… Воспитал ее в соловецких беломорских зыбях студеный, надполярный океан… Оттого-то ветер соленый, морской ходит в ней, бушует почасту…
«Вот человек, открытая, смелая душа!» – подумал офицер, с горячим, почтительным сочувствием глядя на матерого плебея-академика, с распахнутою, могучею грудью, шагавшего перед ним в стареньком китайчатом халате.
– Ох, извините, – сказал тот, остановясь, – вы привезли зело печальные, волнующие вести; не удержишься. А потому, – вдруг добавил он, понижая голос и как-то детски робко оглядываясь на дверь, – если вы в сей момент, как военный походный человек, готовы и расположены, то померекайте тут с вашею старою приятелькой, а через час, через два, за калиткой будет стоять договоренная мной городовая коляска… Дома, в горницах, беседовать по душе тесновато… Я ж проболел и давно не выезжал. Так мы с вами, сударь, коль согласно поедем в герберг к Иберкампфу; сыграем на бильярде, разопьем бутылочку и потолкуем обо всем на свободе…
– Не по рангу мне, господин академик… притом же дорога… мои финансы…
– Полно, полно, друг. Давно я, говорю, соблюдал лечебный дигет, ну, и пост; а сегодня вот кстати и жалованье из конференции прислали… Поедем; там, государь мой, устерсы фленские, анкерки токайские, бургонское и особый, скажу вам, новоманерный пунш…
Дверь распахнулась.
– Какой пунш? Кто пунш? – вскинув руками, произнесла на пороге полная, седая, но еще румяная и бодрая, в темной душегрее и в такой же кичке, с калитой и ключами у пояса, шестидесятилетняя старуха. Это и была свет-матушка, древний, властный столб, Настасья Филатовна.
Она взглянула на офицера, отступила.
– Вася, ой, да стой же… что это?.. Василек, голубчик ты мой! – вскрикнула и повисла на шее гостя старуха.
Смуглые, обветренные щеки офицера дрогнули. Он горячо припал к Филатовне, с радостными слезами безмолвно обнимавшей нежданного гостя.
– Ох, милый, вот так утешил, – сказала она, – одначе, стой… Так и есть, не стыдно ли? Не село, не пало, а уж и за компанство, за пунш… Да и вы, ваше высокородие, – хоть и хозяин мой… Стыдно! Вот я супружнице вашей все отлепортую.
– Долг гостеприимства, сударыня, – ответил, глядя на офицера, академик.
– Гостеприимства! А ты? – ласково обратилась к гостю, по уходе хозяина, старуха. – Ну-ка, испиватель пуншей, кадет, рассмотрю, каков ты нынче стал.
Бавыкина обвела его свечой.
– Сердечный мой, радостный! Едва тебя спознала! Вот она, походная-то доля, как возмужал! Ну, ангел мой Васенька, пойдем же в мою конуру, – не своя теперь, чужая…
Они прошли в сени, за которыми Бавыкина снимала две комнаты.
– Вася! Соколик мой! – сказала, припав опять к гостю, старуха. – Повидала я тебя, а не чаяла более… Не такою ты оставил вдову сударя Анисима Поликарпыча… Дуб оголелый ныне я… облетели все листочки, ветром ошарпало их, сдуло… Не в этакой узкости и тесноте суждено было век доживать. Ах! И где-то, Вася, те счастливые да шумные старые годы?
Вдова Анисима Поликарпыча – кто не знал общей печальницы и утешницы? – самой государыне Елисавете Петровне угодила, бессонные ночи ей грешным рабьим языком коротала. Сильно скучала иной раз ласковая царица, и хаживали ее утешать из предместьев да с базаров бабы-цокотухи, умелые, бедовые на язык. Хаживала и лейб-кампанша Настасья. Сидит, бывало, ее величество в кофте да платочке поверх русых, пудреных волос и спрашивает гостью:
– Отчего ты, Филатовна, темна будто становишься?
– Старею, матушка, запустила себя, ласковая; прежде пачкалась белилами, брови марала, румянилась… Ныне все бросила…
– Румяниться не надо, – говорит царица, – а брови марай… Ну, сядь же, соври про разбойников или про какие иные дела.
– Казни, всевластная, не в мочь; вся душенька во мне трепехчется…
– Отчего ж она у тебя трепехчется? – смеется государыня.
– Как иду к тебе, милостивая, будто на исповедь, а вышла, точно у причастия была…
И припадет Настасья к постели царицы, ножки, юпочку ее целует, до утра ей тараторит.
– В чем счастье, Филатовна?
– В силе, матушка государыня, в знатности да в деньгах. По деньгам и молебны служат.
– А горе в чем?
– Без денег, всемилостивая.
– Да ты, нешто, ведьма, жадна?
– Жадна, ох, жадна и все, пресветлая, что пожалуешь, возьму… Деньга – ох! – она ведь и попа купит, и Бога обманет…
Весело царице.
– Вот, было в старые годы… – начнет Филатовна и говорит про все, что видела и слышала на свете, на долгом веку.
Фавориты ее побаивались, и сам канцлер Бестужев, в праздники, посылал ей подарки – муки, меду, пудовых белуг и осетров. И хоть недолго Филатовна пожила за вдовцом, сержантом лейб-кампании, зато всласть, в полную волю. Анисим Поликарпыч нередко загуливал и буянил, но уважал Настю и тоже побаивался, а по смерти отказал ей дом на Острову у Невы. Падчерицу она пристроила за повара графа Разумовского, но вскоре ее схоронила и осталась круглой сиротой. Зато кто ее не знал? Совет ли дать, навестить ли в горе, похлопотать ли за кого – ее было дело. Не только светские, духовные ее уважали… Церкви Андрея поп взял ее к себе кумой. Дом, хозяйство Филатовны славились в околотке. Сама она стряпала, окна и полы мыла, без очков на старости лет шила бисером, золотом, копала огород и доила коров. И не раз сама государыня Елисавета Петровна лично удостаивала ее заездом к ней – малины тарелку откушать, прямо с кустов, либо выпить из холодильни стакан свежего, неснятого молока. И деньги водились у Филатовны. Они-то ее и погубили. Отдавала она их тайком богатеньким господам в рост. Но попутал бес. Одна знакомка дала совет. Погналась Бавыкина за большим барышом, ссудила немалый куш известному гвардейскому моту и всю казну потеряла. Хотела извернуться молчком; поплакала, погоревала и заложила свой участок банкиру Фюреру, но не выдержала срочных платежей, и дом ее со двором были проданы в начале той зимы с молотка.
Таков-то безлистый, оголелый на ветру дуб стоял теперь перед залетным гостем.
– Ну, да что тут, садись, соколик, – сказала Бавыкина офицеру.
Они сели.
– Не те времена, Вася; все ушло, все улетело, как почила наша пресветлая благодетельница… Что сберегла добра, рухлядишки, все перевезла сюда… Остальное – разобрали люди.
– Ничего! Даст бог, поправитесь; вот я приехал – подумаем…
– Поздно, друг сердечный, поправляться да думать. Другим, видно, черед настал. Вот, к грекёне к одной в никанорши зовут, за хозяйством глядеть; приходится внаймы на старости лет… Все прахом пошло… А я мыслила о тебе, тебе сберегала… Ну, да вой, не вой, на то и велика рыба, чтоб мелких-то живьем глотать… Поведай лучше о себе.
Офицер вздохнул. Речь не слушалась. Два года разлуки немало унесли молодых ожиданий, веры в счастье, надежд.
– В карты, Вася, по-былому, извини, играешь? – спросила, взглянув на него, старуха. – Да ты не сердись: дело говорю.
– Что вы, помилуйте, – ответил гость, – жалованье какое! А тут, сами знаете, походы, контужен был, – до того ли?.. Притом…
Офицер хотел еще что-то сказать; слова ускользали с языка. По лицу прошло облако. Глаза смотрели рассеянно, куда-то далеко. У губ обозначилась сердитая, угрюмая складка.
Бавыкина покачала головой.
– Ужли и там не забыл? – спросила она.
– Вот пустяки, охота вам…
– Да ты, вьюн, не финти; говори, в резонт спрашиваю.
Офицер встал, оправил волосы. Точно отгоняя тяжелую мысль, он провел рукой по лицу, подумал и снова молча присел к столу.
«Так, так, из-за нее, – мыслила тем временем старуха, – из-за Поликсены ты и приехал, чуть смог вырваться оттоль… Знаю тебя! От гордости молчишь – а сам бы кинулся, готов просить: голубушка, родная, здорова ли она, жива ль?»
Офицер, сгорбившись, молчал. Филатовна не выдержала.
– Не закусишь ли с дороги? Молочка, сбитню не согреть ли?
Гость отказался.
«Ну, бог с ним, сердечным, усталость, знать, одолела».
Старуха постлала ему постель в собственной спальне, дала ему огарок свечи, а расспрос о сердечных его делах отложила до другого раза: «всяк божий день не без завтрашнего».
Офицер разделся, достал из чемодана святцы и образок, поставил его в углу на столе, раскрыл святцы, рассеянным взором прочел несколько страниц, перевел глаза к темному окну и долго молился, кладя земные поклоны и прося у Бога нового терпения и новых сил.
«Родина, дорогая родина! – мыслил он. – Вот она наконец, и я опять среди нее… Храм Соломна!.. Далеко, кажется, до него… На чем-то они теперь стоят, чего держатся? Осветил ли их хоть малость свет истинной жизни, свет разума и вышней братской любви? Или все тот же этот край, хмурный, неприветный, запустелый и веющий холодом?..»
– Что? Лег спать? – перегодя, спросил Бавыкину, встретясь с нею в общих сенях, академик.
– Спит, – нехотя ответила Филатовна, – еще бы! Намаялся сердечный: столько дён сломя голову скакал. А вам, сударь, что до него?
– Да я так, новостей он привез, и любопытство расспросить.
– Ну, только, уж извините, это завтра…
– А как бишь, не упомнил, фамилия этого вашего гостя?
– Родом малороссиянец, и имя ему Василий Яковлевич Мирович… Сызмальства… Да что! Спокойной ночи, сударь… Только опять же советую, хоть вы и хозяин, – не держите долго огня… Все-то у вас бумаги да книжки… пожар еще, упаси господи, не напроворили б… и то вот на погорелом дворище построились…
«Ишь козырь, доброобычайная старица, как распекает! – улыбнулся академик, с потупленной головой вновь пробираясь в свои горницы. – Да оно и лучше! И здоровью легче. Вот печень намедни как было опять разгулялась! И дел, по правде, не оберешься. Мозаику кончать, о метеорах писать… Баста!.. Скудель тесная – существа предел!.. Прощай, былые годы!.. Mens sana in corpore sano»[2].
– Настасья Филатовна, кто, скажите, ваш хозяин? – спросил Мирович из спальни, уже впотьмах. – Я и забыл осведомиться.
– И этот тоже! Да что с вами поделалось?.. Точно сговорились! Пара он тебе, что ли? Коллежский советник – почитай, бригадир… Спать пора! Индо напугал.
Василий Яковлевич Мирович крепко заснул. Мир давно забытых картин охватил его. Ему грезились давние, детские и отроческие годы, угрюмая Сибирь, потом украинский тихий хутор, старый заповедный лес и пчелы, бедность и горести некогда богатой и знатной, потом гонимой судьбою, разоренной обедневшей семьи.







