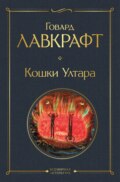Говард Филлипс Лавкрафт
Таящийся у порога
Пришелец оставил на полу следы – отпечатки мокрых ступней. Но боже, какие это были следы! Судя по ним, у ночного гостя были чудовищно широкие стопы, а ногти на пальцах ног отросли на такую длину, что, загибаясь вниз, оставили зарубки перед отпечатками ступней. На том месте, где он стоял, склонившись над бумагами, осталось большое мокрое пятно. По всему помещению витал такой жуткий мускусный смрад, что я зашатался и едва не упал в обморок, несмотря на то что давно уже воспринимал это зловоние как непременный атрибут занимаемого мною дома.
Прислонившись к стене, я некоторое время приходил в себя, одновременно пытаясь найти мало-мальски правдоподобное объяснение происшедшему. В конце концов я решил, что в кабинет наведался кто-то из соседей – наведался с недоброй целью, очевидно замыслив что-то против ненавистного ему особняка. Но почему этот некто был мокрым, как будто он вылез из бассейна, и зачем ему понадобилось хватать со стола бумаги? А оставленные на полу странные следы?.. В общем, объяснение у меня вышло довольно неубедительным, но что еще я мог предположить?
Что касается бумаг, то кое-какие из них действительно исчезли со стола – к счастью, как раз те, которые я уже успел просмотреть и сложил в отдельную стопку. Я не мог понять, кому и зачем вдруг вздумалось прокрасться ночью в дом и прихватить с собой эти документы. Допустим, злоумышленник заинтересовался домом Шарьера с корыстной целью – например, желая отсудить его себе; но ведь эти бумаги не имели никакой ценности с юридической точки зрения, ибо представляли собой всего-навсего научные заметки о долголетии крокодилов, аллигаторов и прочих подобных им тварей. Одержимость, с которой покойный доктор изучал вопрос долголетия рептилий, уже не составляла для меня тайны, однако если он и открыл какие-то секреты выдающейся продолжительности жизни пресмыкающихся, то ничто в бумагах не указывало на это. Впрочем, дважды или трижды мне попадались довольно туманные упоминания о неких «операциях» по продлению жизни, но, над кем они проводились, мне установить не удалось.
Продолжив разбирать бумаги, исписанные одним и тем же – видимо, докторским – почерком, я познакомился с несколько странным ответвлением его научных поисков: то была подборка материалов о неких загадочных мифических существах, одно из которых именовалось Ктулху, а другое – Дагон. Очевидно, они были морскими божествами, происходившими из неизвестной мне древней мифологии; наряду с ними в рукописях упоминалось о глубоководных существах (или людях-амфибиях?), которые обитали в морских глубинах и были, по всей вероятности, жрецами – служителями культа Ктулху и Дагона. Эти «глубоководные», насколько я понял, тоже отличались завидным долголетием.
Среди исписанных листков я нашел фотографии, на одной из которых была запечатлена статуя некой на редкость отвратительной земноводной твари, грубо высеченная из огромного монолита. Фото было снабжено пометкой: «Вост. побережье Хива-Оа, Маркизские о-ва. Объект поклонения?» На втором снимке я увидел столб с тотемом североамериканских индейцев, обитавших на Западном побережье; тотем был выполнен примерно в той же манере, что и статуя с островов, а взятое за его основу животное тоже было земноводным или пресмыкающимся. Это изображение сопровождалось надписью: «Тотем инд. плем. квакиутл. Пролив Куацино. Такой же т. воздв. индейцами плем. тлингит». Похоже было, что в стремлении достичь своей вожделенной цели доктор Шарьер глубоко изучил древние колдовские обряды и первобытные религиозные верования.
Что это была за цель, я понял довольно скоро. Проблема долголетия являлась для него не теоретическим, но чисто практическим вопросом – он желал продлить свою собственную жизнь. Некоторые намеки, содержавшиеся в рукописях доктора, позволяли предположить, что он преуспел в своих самых безумных дерзаниях, и это вызвало в моей душе новый приступ тревоги – я опять вспомнил о загадочной личности Шарьера-первого, волею судьбы тоже хирурга, последние годы жизни и смерть которого были окутаны столь же непроницаемой завесой тайны, как рождение и юность Шарьера-второго, скончавшегося в Провиденсе в 1927 году.
Хотя события прошедшей ночи не слишком меня напугали, я все же счел за благо не искушать судьбу и приобрел в лавке подержанных вещей уже далеко не новый, но вполне надежный и отличавшийся мощным боем «люгер». Другой моей покупкой стал фонарь с отражателем – он давал яркий свет и в то же время, в отличие от старой лампы, не слепил глаза. Если ночным визитером был кто-то из соседей, рассуждал я, то наверняка похищенные бумаги только раздразнят его аппетит, и рано или поздно он предпримет повторное вторжение. На этот случай я и запасся оружием и новым фонарем, готовый открыть огонь по мародеру, если он снова заберется в дом и, будучи застигнут мною на месте преступления, попытается удрать. Впрочем, я искренне надеялся, что до стрельбы дело не дойдет.
На следующую ночь я возобновил изучение книг и бумаг доктора Шарьера. Многие из книг были датированы XVII–XVIII веками, из чего я заключил, что они достались Шарьеру от его далеких предков. Несколько книг на французском языке представляли собой перевод с английского и принадлежали перу Р. Уайзмена – того самого, у которого обучался живший в XVII веке молодой Жан-Франсуа Шарьер. Налицо была связь между Шарьером-первым – парижским учеником Уайзмена – и Шарьером-вторым, скончавшимся в Провиденсе, штат Род-Айленд, три года тому назад.
Вообще же эта библиотека представляла собой довольно причудливую мешанину из самых разнообразных изданий на многих языках – от французского до арабского. Названия большинства из них ничего мне не говорили, хотя я неплохо владею французским и чуть-чуть знаком с другими романскими языками. Например, тогда я не имел ни малейшего представления, что скрывается под таким заглавием, как «Unaussprechlichen Kulten» фон Юнцта, хотя и подозревал, что оно перекликается с названием книги графа д’Эрлетта «Cultes des Goules», поскольку оба издания стояли рядом на книжной полке. При этом книги по зоологии соседствовали с увесистыми томами, посвященными древним культурам. Томов этих было великое множество, я только перечислю некоторые из них: «Исследование связи культур народов Полинезии и индейцев Южной Америки, в частности Перу», «Пнакотические рукописи», «De Furtivis Literarum Notis» Джанбаттисты делла Порты, «Криптография» Тикнесса, «Daemonolatreia» Ремигиуса, «Эра ящеров» Бэнфорта… Были здесь подшивки старых газет «Трэнскрипт», издававшейся в Эйлсбери, штат Массачусетс, аркхемской «Газетт» и многих других. Что же касается книг, то некоторые из них, без преувеличения, являлись изданиями огромной ценности. Судите сами: самая поздняя была датирована 1820-м, а самая ранняя – 1670 годом! Все они были изрядно зачитаны, но в целом сохранились неплохо, принимая в расчет их весьма солидный возраст.
Впрочем, тогда я не уделил библиотеке Шарьера достаточного внимания, действуя по пословице, согласно которой избыток знаний о всяких запретных вещах вредит человеку куда больше, нежели их недостаток. Я, однако, успел обнаружить среди древних фолиантов нечто напоминавшее на первый взгляд толстый научный журнал, но при более детальном рассмотрении оказавшееся тетрадью для записей, которые, судя по датам, относились к периоду времени, явно выходившему за рамки лет, прожитых Шарьером-вторым. Тем не менее все записи несомненно были сделаны рукой покойного хирурга: несмотря на более чем почтенный возраст первых страниц в сравнении с последними, почерк на всех был одинаков – мелкие крючковатые буквы, теснящиеся одна к другой в ровные, плотные строки. Записи эти представляли собой своеобразную хронологическую регистрацию явлений, связанных с излюбленной темой доктора и, насколько я мог судить, бравших свое начало с очень давних времен. Некоторые тексты сопровождались небрежно выполненными рисунками, производившими тем не менее довольно сильное впечатление, – похожее чувство мы испытываем, глядя на наскальные рисунки первобытных художников.
На первой же странице этой рукописи я увидел запись следующего содержания: «1851. Аркхем. Азеф Гоуд, гл.». Она относилась к иллюстрации, на которой был изображен этот самый Азеф Гоуд, омерзительный жабоподобный тип с безобразно широким ртом, отвислыми складками губ и полуприкрытыми кожистой пленкой глазами, едва видневшимися из-под тяжелых надбровий. Глядя на эту физиономию, я невольно представил себе, как ее обладатель сидит на корточках, плотно припав к земле, – настолько напоминал он земноводное. Рисунок занимал большую часть страницы, а сопровождавший его текст представлял собой комментарии человека, столкнувшегося с этим необычным явлением – едва ли во плоти и крови, но, скорее всего, при изучении документов какого-нибудь малоизвестного архива (кстати, не могло ли сокращение «гл.» расшифровываться как «глубоководные», упоминание о которых встретилось мне ранее?). Безусловно, находки такого рода утверждали доктора Шарьера в его вере, что между некоторыми людьми и представителями амфибий и рептилий существует некая родственная связь, которая может быть прослежена на подобных примерах.
Я обратился к другим записям, однако после первого прочтения они показались мне малопонятными и почти бессмысленными (хотя, может статься, этого и добивался их составитель?). Чтобы не быть голословным, приведу вам хотя бы следующие образцы:
«1857. Сент-Огастин. Генри Бишоп. Кожа чешуйчатая, но не как у рыб. По слухам, 107 лет от роду. Процесса старения организма не наблюдается. Острота всех пяти чувств. Происхождение точно не установлено; вероятно, что предки занимались торговлей с полинезийцами.
1861. Чарлстон. Семья Балаш. Ороговевшие руки. Двойная челюсть. Одинаковые стигматы у всех членов семьи. Антон: 117 лет; Анна: 109. Испытывают сильное беспокойство вдали от водной среды.
1863. Инсмут. Семьи Марш, Уэйт, Элиот, Гилмен. Капитан Абед Марш: торговец в Полинезии, женат на полинезийке, физиогномические характеристики сходны с ф. х. Азефа Гоуда. Очень скрытный образ жизни. Женщины редко показываются на улицах. По ночам много купаются – целыми семьями заплывают на риф Дьявола. Ярко выраженное родство с гл. Постоянное передвижение между Инсмутом и Понапе. Тайные религиозные обряды.
1871. Джед Прайс, „человек-аллигатор“ в цирковом шоу. Появляется в бассейне с аллигаторами. Вытянутая вперед челюсть, заостренные зубы; не смог определить, от природы или заточены специально».
Другие записи в найденной мною тетради были выдержаны примерно в том же ключе. Их география впечатляла своей обширностью – Канада, Мексика, Западное побережье США. Заметки эти явились для меня фоном, на котором вдруг неожиданно четко обозначилась фигура человека, одержимого бредовой идеей доказать, казалось бы, недоказуемое – прямую связь долголетия отдельных представителей рода человеческого с их генетической близостью к земноводным или пресмыкающимся.
Приведенные в записях факты я рассматривал всего лишь как надуманно утрированные описания физических дефектов людей, но доктор под тяжестью этих собранных им «свидетельств» окончательно утвердился в своей странной, зловещей вере. Однако за пределы чистой догадки его выносило не часто. На мой взгляд, больше всего его интересовала взаимосвязь между примерами, которые он с таким тщанием собрал в своей тетради, и связь эту он искал в трех направлениях. Наиболее тривиальным из них мне показалась мифология негритянского культа вуду. Второе направление охватывало древнеегипетскую культуру с ее поклонением отдельным видам животных. Третьей и, судя по записям доктора, наиболее значимой сферой поисков была совершенно незнакомая мне доселе мифология, старая как мир, если не старше. Фигурировавшие в ней Старшие Боги вели жесточайшую непримиримую войну с Великими Древними, носившими имена Ктулху, Хастур, Йог-Сотот, Шуб-Ниггурат и Ньярлатхотеп. Им поклонялись шантаки, глубоководные, народ чо-чо, снежные люди и другие существа, иные из которых стояли на ступенях эволюционной лестницы, ведущей к зарождению современных людей, а другие представляли собой чудовищные мутации доисторического человека или вовсе не имели никакого отношения к человеческому роду. Все это было, конечно же, безумно интересно, но о какой-либо прочной связи между собранными доктором Шарьером «свидетельствами» родства отдельных людей-долгожителей с рептилиями и упомянутыми древними мифологиями говорить не приходилось, притом что в легендах вуду и Древнего Египта действительно имелись туманные аллюзии, связанные с рептилиями, а мифология Ктулху целиком основывалась на культе невероятно древних видов земноводных и пресмыкающихся, без сомнения возникших в одно время с тираннозаврами, бронтозаврами, мегалозаврами и другими рептилиями мезозойской эры, а стало быть, намного раньше сегодняшних крокодилов и гавиалов.
Помимо этих интригующих заметок я обнаружил некие диаграммы, которые при более детальном рассмотрении оказались схемами весьма и весьма странных хирургических операций, природа которых к тому времени еще оставалась загадкой для меня. Тогда я мог лишь с большой долей вероятности утверждать, что схемы эти скопированы из двух древних книг – из труда Людвига Принна «De Vermis Mysteriis» и еще одного фолианта, название которого я не смог даже прочесть. Что же до самих операций, то они вызвали у меня приступ сильнейшего отвращения – настолько суть их была противна самой человеческой природе. Например, одна из них состояла в нанесении на кожу множества надрезов с целью ее растяжения («для обеспечения роста», как пояснялось в сопроводительном тексте), а другая представляла собой перекрестное иссечение основания позвоночника с целью «вытяжения хвостовой кости». Эти дьявольские диаграммы вызвали в моей душе неподдельный ужас, но я продолжал внимательно рассматривать их, ибо они, несомненно, были одним из направлений зловещей деятельности доктора Шарьера и могли многое объяснить мне – например, его патологическое затворничество, которое являлось совершенно необходимым условием для сохранения в тайне его безумных экспериментов, иначе он стал бы посмешищем в глазах своих ученых коллег.
Многие бумаги содержали пространные ссылки на различные события, причем манера изложения не оставляла никаких сомнений в том, что описанные случаи произошли с самим рассказчиком. Все они были датированы не позднее чем 1850 годом; иногда на документе вместо года было обозначено десятилетие. Я вновь распознал характерный почерк доктора, и это – исключая, разумеется, возможность того, что Шарьер просто переписал своей рукой чужие заметки, – явилось для меня почти неопровержимым доказательством ошибочности моих предположений относительно его возраста. Было совершенно очевидно, что он умер отнюдь не в восьмидесятилетнем, но в куда как более преклонном возрасте, и уже от одной этой мысли мне стало не по себе – я в очередной раз вспомнил о жившем в XVII веке предшественнике покойного хирурга.
Здесь можно было подвести кое-какие итоги. В соответствии с моими выводами гипотеза доктора Шарьера, в которую он столь фанатично уверовал, заключалась в том, что с помощью особых хирургических операций и неких таинственных ритуалов можно было значительно – на сто пятьдесят и даже двести лет – удлинить короткую человеческую жизнь, то есть сделать ее равной по продолжительности веку крокодилов, ящериц и прочих ползучих гадов. Необходимым условием для этого являлся период своеобразного полубессознательного оцепенения, проводимый в каком-нибудь сыром, темном месте, где шло вызревание иного уже организма и обретение им новых физиологических характеристик. По завершении означенного периода подопытный индивидуум вновь возвращался к жизни, однако глубокие внешние и внутренние изменения, явившиеся результатом операции, сопутствовавших ей колдовских обрядов и анабиоза, вынуждали его вести качественно иной, отличный от прежнего, образ жизни. Для подтверждения этой гипотезы доктор Шарьер собрал обширную коллекцию сказок, легенд и мифов, но наиболее впечатляющим доказательством своей правоты он, безусловно, считал подборку упоминаний о людях-мутантах, живших в последние двести девяносто лет – нет, даже двести девяносто один год, если быть точным. Уточнение этой внушительной цифры оказалось вовсе не бесполезным, ибо некоторое время спустя я с замиранием сердца обнаружил, что именно столько времени – двести девяносто один год – пролегло между датами рождения Шарьера-первого и смерти Шарьера-второго.
Размышляя над гипотезой доктора Шарьера, я проникся невольным уважением к ее необычности и дерзновенности. В то же время нельзя было не отметить, что ей явно недоставало строгого научного подхода и сколько-нибудь убедительных доказательств – все эти намеки, недомолвки и устрашающие предположения вполне могли сойти для досужего любителя страшных историй, но вряд ли были способны пробудить искренний интерес у настоящего ученого, опирающегося на факты и реальные законы бытия, а не на мистику.
С каждым днем я все глубже и глубже погружался в пучину этой безумной теории; и не случись однажды событие, речь о котором пойдет ниже, я преспокойно остался бы в доме на Бенефит-стрит еще бог весть на какой срок и продолжал бы свои изыскания. Но я навсегда покинул это жуткое обиталище и тем самым бросил его на произвол судьбы, ибо последний отпрыск рода Шарьер – сейчас я знаю это точно – никогда больше не явится в Провиденс с притязаниями на дом, который будет передан городским властям и разрушен до основания.
В тот день, рассматривая «находки» доктора Шарьера, я вдруг ощутил на себе чей-то пристальный взгляд – такую защитную реакцию организма некоторые любят называть «шестым чувством». Соблазн обернуться был велик, но я пересилил себя; открыв крышку часов, я поймал на ее зеркальную поверхность отражение находившегося позади меня окна и с содроганием увидел размытые очертания чудовищного подобия человеческой физиономии. В испуге я тут же повернулся лицом к окну, но в оконном проеме не было никого и ничего – лишь какая-то тень мелькнула и исчезла в зарослях старого кустарника. А потом… Боже, я до сих пор не могу понять, действительно ли я видел тогда ту высокую, странно согнутую фигуру, проковылявшую неуклюжей походкой в темноту сада. Во всяком случае, в тот момент у меня достало разума не преследовать ее. «Эта тварь явится сюда еще раз, кем бы она ни была», – решил я.
Мне оставалось полагаться только на свое терпение. В ожидании повторного появления неуловимого ночного пришельца я напряженно размышлял над тем, откуда он мог взяться, и прокрутил у себя в голове имена всех обитателей Провиденса, у которых дом на Бенефит-стрит уже давно не вызывал ничего, кроме глухой ненависти. Вполне возможно, что они хотели запугать меня и тем самым заставить убраться прочь из особняка Шарьера – не ведая, видимо, о том, что дом снят мною лишь на короткое время. Предположение, что в кабинете хранилось нечто представляющее для них значительный интерес, я вынужден был отбросить – у воров была уйма времени для того, чтобы растащить все находившееся в доме имущество за три года после смерти доктора, когда особняк стоял совершенно пустым. В общем, тогда я так и не пришел к какому-то определенному выводу. Даже весьма необычный облик моего ночного гостя не навел меня на верную догадку – это был как раз тот случай, когда дилетант мог бы иметь преимущество перед профессионалом, который привык доверять только фактам и никогда не давать воли своей фантазии.
Сидя в кромешной тьме, я как никогда остро ощущал ауру этого дома. Даже сама темнота казалась одушевленной, но как непередаваемо далека была эта жизнь от Провиденса с его повседневной будничной суетой! Помимо мускусной вони, характерной для вольеров с рептилиями в зоопарках, я отчетливо различал запах гниющего дерева и пропитанного сыростью известняка, из которого были сложены стены погреба. Это был дух тлена – всесильное время наконец-то основательно взялось за старинный особняк. К этому духу примешивался запах животного мускуса, витавший в темных помещениях дома, – поначалу слабый, но далее усиливавшийся с каждой минутой.
Мое напряженное ожидание длилось уже больше часа. За все это время я не услышал ни единого постороннего шума.
И вдруг тягостную тишину нарушил какой-то слабый, непонятный звук. Чем-то он напоминал отрывистый рык аллигатора, но я не осмелился довериться своему вконец расстроенному воображению и решил, что это просто скрип дверных петель. Как бы то ни было, кто-то действительно вторгся в мои владения, и это не прошло для меня незамеченным. Но следующий звук буквально потряс меня – это был шелест бумаг в кабинете. Таинственный визитер каким-то непостижимым образом прокрался туда у меня под носом и преспокойно рылся в документах! Столь самоуверенное, если не сказать наглое, поведение незваного гостя подвигло меня на решительные действия, и, выхватив из кармана фонарь, я направил яркий луч света на стол, откуда доносилось шуршание листов.
Первые несколько секунд я просто отказывался верить своим глазам, ибо стоявшее у стола существо не было человеком – это была омерзительная пародия на него, какой-то мутант, гуманоид-рептилия. От растерянности и страха я совсем потерял голову и, слепо повинуясь инстинкту самосохранения, выхватил пистолет и четырежды выстрелил в монстра. Я стрелял практически в упор, и ни одна из четырех пуль не прошла мимо цели.
Я до сих пор не устаю благодарить Всевышнего за то, что память моя сохранила лишь смутные, фрагментарные воспоминания о дальнейших событиях. Страшный грохот… исчезновение чудовища… свет фонаря… преследование… Пустившись в погоню, я убедился в точности своих выстрелов – от стола в кабинете к окну вели кровавые следы. Оконное стекло было высажено вместе с рамой. Сколь бы ни был ночной пришелец быстр и силен, я тяжело ранил его, и это значительно уменьшало его шансы на спасение; к тому же блестевшие в свете фонаря кровавые следы и густая мускусная вонь выдавали направление, в котором он убегал от меня.
Следы уводили меня вглубь сада, и в конце концов я обнаружил, что стою у залитого кровью колодезного сруба. Темная утроба колодца показалась мне сначала совершенно недоступной, но затем, приглядевшись, я увидел внутри закрепленную на стене лестницу с какими-то необычными ступеньками. Осторожно нащупав ногой верхнюю из них и ухватившись руками за окровавленный край сруба, я начал спуск в колодец. Моя решимость подкреплялась обилием пролитой крови на траве у колодца – из этого я заключил, что преследуемый мною монстр смертельно ранен и не может представлять для меня серьезной опасности.
Боже, зачем я полез тогда в этот колодец? Почему я не повернулся и не убежал прочь от этого адского подземелья и от этого проклятого дома? Но в то время разуму моему не суждено было взять верх над безрассудным любопытством: заинтригованный страшным обличьем застигнутого мною в кабинете чудовища, я продолжал спускаться в темную шахту колодца, с каждой секундой приближаясь к поблескивавшей внизу воде. Ступеньки, однако, не доходили до нее – они обрывались у сделанного в стене отверстия, которое оказалось входом в прорытый параллельно поверхности земли туннель. Держа в одной руке зажженный фонарь, а в другой пистолет, я с трудом протиснулся в зловонный зев подземного хода и ползком двинулся вперед. Довольно скоро я увидел, что туннель завершался подобием небольшого грота – человек нормального роста уместился бы в нем, разве что стоя на коленях. Луч света выхватил стоявший там продолговатый ящик, и я вздрогнул, мгновенно распознав направление туннеля – он вел прямиком к могиле доктора Шарьера в старом саду, а ящик был, конечно же, гробом.
Но отступать было уже поздно.
Невозможно описать простыми словами тот смрад, которым было пропитано это узкое пространство. В туннеле тошнотворно воняло характерным запахом рептилий; вонь эта была настолько плотной, что, казалось, создавала механическое препятствие для моего продвижения вперед. Кровавый след доходил до самого края гроба, крышка которого была откинута в сторону. Сгорая от желания увидеть поверженного врага, я стал на колени перед гробом и направил свет фонаря внутрь…
Дорого заплатил бы я за то, чтобы моя память не сохранила увиденной тогда картины! Но, увы, это жуткое зрелище отныне и навсегда запечатлелось в моем мозгу – распростертое во чреве полуистлевшего гроба существо, которое только что испустило дух. Облик убитой мною твари был непередаваемо страшен: передо мной лежал получеловек-полуящерица, уродливое подобие того, что являлось некогда человеком. Одежды, покрывавшие тело моей жертвы, были разорваны и перекручены, будучи не в силах сдержать натиск подвергшейся чудовищным мутациям плоти. Кожа на суставах ороговела, ладони и босые ступни были плоскими, очень широкими и завершались огромными когтями. В безмолвном ужасе уставился я на хвостовидный отросток, торчавший из основания позвоночника, на вытянутую крокодилью челюсть с сохранившимся на ней жалким пучком бороды…
Сомнений быть не могло: передо мной лежал не кто иной, как доктор Жан-Франсуа Шарьер, впервые очутившийся в этом адском склепе еще в 1927 году, когда он погрузился здесь в каталептическое оцепенение, ожидая своего часа, чтобы восстать из гроба и вернуться в новом чудовищном обличье в мир живых; доктор Жан-Франсуа Шарьер, хирург, рожденный в Байонне в 1636 году и «умерший» в Провиденсе в 1927-м. Теперь я знал, что за наследника, о котором упоминалось в его завещании, он выдавал самого себя, воскресшего в новом качестве после совершения давным-давно забытых демонических обрядов, древностью своей превосходящих человечество и возникших еще в ту пору, когда Земля была совсем юным порождением Космоса и являла на свет огромных, неведомых нам тварей, которые жили, плодились и умирали на ней.