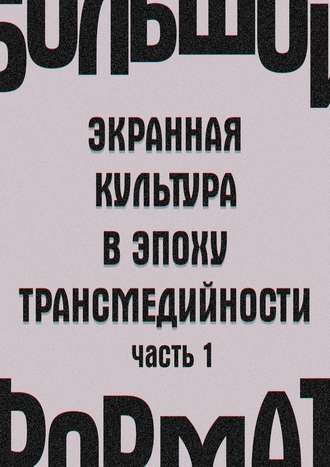
Государственный институт искусствознания
Большой формат: экранная культура в эпоху трансмедийности. Часть 1

Спектакль «Горе от ума» (2015), ТЮЗ (Нижний Новгород). Реж. – Виктор Шрайман. Художник – Наталья Симакова. Балетмейстер – Асия Горбачева
Отдельный жанр «малой формы» представляют собой моралистические заключения басен Крылова. С ними происходит примерно такой же процесс, как и рождение грибоедовских афоризмов, автономизирующихся из текста его комедии: вычленения из жанра малой формы (басни) микрожанра «моралите», начинающего жить самостоятельной жизнью – вне контекста басен Крылова и нравственной атмосферы конца XVIII в. и начала XIX в. Однако стоит оговорить причудливость этого процесса: иногда от крыловской нравоучительной сентенции остается лишь одна строка; иногда афоризмом становится строчки (или строчка) самой басни… Причины происходящей в каждом таком случае редукции или инверсии необъяснимы.
Приведу примеры самых кратких производных от крыловской басенной эпопеи (ведь 9 книг басен – это, несомненно, целостный цикл, – фактически единый текст, тематически раздробленный и проблемно заостренный). «Сыр выпал – с ним была плутовка такова»; «А Ларчик просто открывался»; «У сильного всегда бессильный виноват»; «Избави, Бог и нас от этаких судей»; «Ай, Моська! Знать она сильна…»; «Да только воз и ныне там»; «Услужливый дурак опаснее врага»; «Пусть сохнет, – говорит Свинья»; «Не плюй в колодезь…»; «Кукушка хвалит Петуха». Если все басни Крылова, взятые в целом, – это противоречивый и жестокий образ Русского мира, то вырванные из его контекста афоризмы – это нравственно-философские сентенции общечеловеческого Разума, служащие «ключом» к решению различных проблемных ситуаций.
Да и поэтические афоризмы Тютчева (вроде: «Блажен кто посетил…», «Мысль изреченная есть ложь» или «Природа – сфинкс…», или «В Россию можно только верить») если и не воспринимались читателями буквально, то всегда претендовали на откровение объективной истины, изрекаемой поэтом-философом. Впрочем, большинство столь же афористических стихотворений русских поэтов XIX в., например, Фета («Шепот, робкое дыханье…» и т.п.), никогда не трактовались иначе, нежели субъективные движения души или индивидуальный взгляд на мир (как и положено воспринимать лирику).
На европейском Западе в XIX в. появляются в качестве «большой» литературной формы целые циклы романов – «Человеческая комедия» О. де Бальзака (состоявшая из более чем 90 произведений различного объема и разных жанров, но преимущественно романов) и 20-титомный цикл «Ругон—Маккары» Эмиля Золя, – цикл, который сам автор называл «роман-река». В этом случае целое творчество одного или другого мастера тяготело к воплощению уникальной, «сверхбольшой» формы. Как правило, циклы романов остались в обоих случаях незавершенными, а многие задуманные его части остались незаконченными или даже ненаписанными. Однако подобные «пробелы» в структуре целого нисколько не умаляли самого этого целого и не мешали его восприятию в целом. Это означает, что «большая форма» в принципе больше суммы своих частей, и это определяется вовсе не размером словесного текста, а грандиозностью художественного замысла.
В русской литературе вершиной в создании большой литературной формы стал многотомный роман Л. Толстого «Война и мир», с которым никто из писателей не мог, да и не хотел состязаться в масштабе обобщений и объеме текста. Сам Толстой в своем творчестве постоянно варьировал приемы создания «большой формы»: здесь и трилогия «Детство. Отрочество. Юность», формирующая «большую форму» вокруг личности становящегося героя; здесь и «Анна Каренина», сделавшая предметом «большой формы» запутанный клубок семейных и гендерных проблем. Наконец, в «Воскресении» Толстой попытался соединить перипетии совести и права, духовного возрождения и религиозных исканий, национального обновления и общечеловеческого самосовершенствования.
В то же время необходимо отметить, что Л. Толстой во всем своем творчестве стремился «подтянуть» произведения «малой формы» к параметрам «большой». Например, заметны усилия писателя по трансформации формы в сторону ее смысловой и идейной гиперболизации в «Севастопольских рассказах», «Смерти Ивана Ильича», «Крейцеровой сонате», «Хаджи-Мурате». Речь идет в этом случае не о расширении объема авторских текстов, не об умножении системы образов и сюжетных ситуаций, а о насыщении их «предельными», «последними» вопросами человеческого бытия, имеющими общечеловеческий нравственно-философский, религиозно-психологический и абстрактно-гуманистический смысл, вольно или невольно укрупняющий звучание и значение литературного творчества Толстого и его философии в историческом контексте отечественной и мировой культуры.
Другой путь превращения произведений «малой формы» в феномены «большой формы», предпринятый Л. Н. Толстым, – это написание «Народных рассказов». Простые по стилю (даже тяготеющие к примитивизму), эти рассказы носили характер нравоописательный и дидактический. С одной стороны, они были так просты, как будто были рождены в самой народной среде, вышли из фольклора или были сочинены выходцами из крестьянской среды (что отчасти так и было на самом деле); с другой стороны, эти рассказы нередко были адаптацией библейских сюжетов и содержали в себе сильный потенциал нравственно-религиозных обобщений в духе толстовской интерпретации христианства. Собранные воедино в соответствующем сборнике и идейно-тематически «сопрягаясь» между собой, эти рассказы складывались в панораму русской народной жизни, как бы спроецированную на христианские образцы поведения и святости.
В то же время представленные как единый авторский текст, эта цепочка автономных текстов представала в целом как проповедь, объединенная боговдохновенной авторской позицией, его нравственно-религиозным и дидактическим пафосом, а в качестве иллюстративного подтверждения сопровождалась конкретными житейскими примерами – вроде евангельских притч. В каком-то смысле возрождалась модель новеллистического сборника, наподобие «Декамерона». Такова же идея толстовского «Круга чтения» – рекомендательного сборника избранных чужих текстов. Но общая семантика «большой формы» изменилась.
Нечто похожее получалось и в позднем творчестве Н. Лескова. Отдельные рассказы либо собирались в циклы («Праведники» или рассказы для детей), либо «стягивались» в единое повествование большой формы («Соборяне», «Захудалый род»), тем самым границы между хроникой и собранием сказов последовательно размывались. «Большая форма» представала как сумма «малых» форм, которые – самим своим соединением в логическую «цепочку» (своего рода «серию») порождали новое, обобщающее содержание, концептуально завершающее подчас случайный «набор» частных текстов.
Кстати, первые опыты подобной циклизации в истории русской литературы можно было наблюдать уже в первой половине XIX в. У Пушкина – «Повести Белкина», «Маленькие трагедии»; у Гоголя – «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород», «Петербургские повести»; у Тургенева – «Записки охотника». В каждом таком цикле логика соединения элементов в целостную структуру была скрыта (или даже отсутствовала, т.е. была имплицитно переадресована гипотетическому читателю), а концептуальная основа надтекстового единства не отображалась даже в названии цикла, имитируя случайность выборки сюжетов и персонажей. В дальнейшем модель литературного цикла вольно или невольно распространялась и на произведения «большой формы», которые тем самым становились произведениями «еще большей» формы.
Так, 6 романов Тургенева представлялись его современникам «большим циклом», в котором получали социально-историческое и психологическое развитие темы, герои, ситуации, сюжеты и идеи, уже однажды найденные автором: «Рудин» – «Дворянское гнездо» – «Накануне» – «Отцы и дети» – «Дым» и «Новь». Почти так же со временем воспринималась романная трилогия Гончарова: «Обыкновенная история» – «Обломов» – «Обрыв» [66]. Подобная схема невольно распространялась и на главные произведения «большой формы» Л. Толстого, которые выстраивались в сознании читающей публики либо как романная трилогия, либо как тетралогия (включая «Детство. Отрочество. Юность»). Все это означало, что деление литературных произведений на относящиеся к «большой» или к «малой» форме – весьма условно и относительно; более того, легко представить механизм превращения явлений «малой формы» в явления «большой формы». [67]
По сравнению с Л. Толстым никто из русских писателей-прозаиков XIX в. по-настоящему не работал с «большой формой» (в толстовском смысле). Ни Тургенев, ни Гончаров, ни Достоевский, ни Лесков в русской литературе не смогли преодолеть магии толстовского «большого стиля», хотя подспудно боролись с его влиянием на свое творчество и в целом на литературу. Ни один не испытал искушения «гигантоманией», хотя и «Братья Карамазовы», и «Обрыв», и «Новь», и лесковские романы, несомненно, принадлежат к явлениям «большой формы», хотя и довольно далекой от толстовских параметров «эпического размера». Однако какие-то общие принципы большой формы наблюдались и в них: временная протяженность сюжета, обилие персонажей, прямо не связанных между собой, эпохальность и эпичность поднимаемых проблем, социальная и психологическая емкость повествования, стремление к концептуальным обобщениям философского, социально-политического и нравственно-религиозного порядка.
Демонстративное отталкивание от подобных критериев «большой формы» привело А. Чехова к преобладанию в его творчестве исключительно «малых форм», отличающихся высокой плотностью текста, практически неисчерпаемого по смыслу. Чеховская традиция работы с «малыми формами» оказала большое влияние на русскую и мировую литературу в XX и даже на рубеже ХХ и XXI вв. Однако по сути это означало такое же размывание границ между «большой» и «малой» формой, различия между которыми становились все более и более условными, а их чередование – все более «случайностным» [68]. Только процесс «размывания границ» у Чехова начинался со стороны «малой формы», изнутри себя инициировавшей формальный «рост» текста.
Чеховский рассказ по глубине содержания, по социальной и психологической проблемности, по емкости деталей, приобретавших многозначный символический смысл, оказался сопоставимым с традиционным «большим» романом, но при этом был лишен тематической «избыточности» толстовского повествования и стилистического многословия. Потенциально «большая форма» в рассказах Чехова была как бы «зашифрована» в самой их «малости», которая нуждалась в читательском «развертывании» «малой формы» в своем воображении. Этому способствовали и воссоздание в «малых формах» целостности «потока жизни», и моделирование «поля напряжения», определяемого оппозициями «отобранное – неотобранное, «случайное – существенное» [69].
Зато в своей драматургии Чехов реализовал другой принцип диалектики «малой» и «большой» форм. Множество «микроэлементов» чеховской драматургии (отдельные мизансцены, монологи и диалоги персонажей, отдельные многозначительные реплики, перипетии межличностных отношений, основной сюжетный «вектор» и т.п.) незаметно для зрителя и читателя обобщаются и концептуализируются – вплоть до символического названия пьесы («Иванов», «Чайка», «Дядя Ваня», «Вишневый сад»), а все 5 (или 4) главные пьесы Чехова соединяются в общую картину жизни российской интеллигенции, представленную в нескольких проблемно-тематических «срезах» или в различных дискурсах. Но этот принцип интертекстуальности (а фактически – гипертекстуальности) может быть вполне распространен и на представленную в различных объемах и в тематически различной комбинаторике совокупности рассказов Чехова, репрезентирующей в разных аспектах и приложениях российскую и общечеловеческую жизнь на рубеже XIX – ХХ вв. и, таким образом, являющейся единым, хотя и сложно организованным текстом «большой формы».
Пространство смысловой неопределенности
В ХХ в. контрасты «большой» и «малой» литературной форм продолжают сохраняться, но приобретают новые структурные и смысловые особенности, так или иначе связанные с модернистскими, авангардистскими и постмодернистскими практиками. Все эти культурные практики, так или иначе, тяготеют к формированию пространства смысловой неопределенности, которое особенно последовательно размывает границы между большой и малой формами в искусстве (и культуре) и вносит много нового в представления о современной художественной (или околохудожественной) форме.
Пространство смысловой неопределенности (энтропии) возникает, как правило, в результате действия тех или иных деструктивных процессов, и это напряженное, кризисное состояние культуры не может сохраняться долго. Обращение к феномену смысловой неопределенности в художественных или околохудожественных произведениях обычно связано с какими-то переломными моментами в развитии сюжета, возникает при передаче тревожного ожидания накануне наступления новой исторической эпохи или нового этапа в жизни героев и нередко используется в произведениях большой формы в качестве интригующей паузы перед внезапным и драматичным развитием событий.
Впрочем, смысловая неопределенность – феномен, постоянно встречающийся в культуре, человеческой жизни и истории. При всей кажущейся «пустоте» этого понятия, на первый взгляд, обладающего «нулевым» (или «никаким») содержанием, – это показатель скрытого напряжения событийности и познаваемости, взятых в совокупности или в отдельности. Можно сказать и по-иному: «смысловая неопределенность» – это своеобразный хронотоп «ожидания» – с одной стороны, пространства-времени грядущих событий, непредсказуемых, а потому тревожных для его субъектов, а, с другой, – переживания самой «неизвестности», к встрече с которой в пространстве-времени невозможно подготовиться – в силу отсутствия какой-либо достоверной информации о возможных или неизбежных переменах в окружающей или воображаемой реальности.
Смысловая неопределенность в художественной культуре (в том числе в литературных и экранных текстах) служит выражению растерянности или многомерного поиска определенного смысла или порядка, т.е. равносильна переживанию хаоса – при невозможности его преодолеть. Замечательные примеры поэтических текстов, воссоздающих ситуацию смысловой неопределенности, – у Пушкина, Тютчева, Блока, Мандельштама, Хармса, Бодлера, Аполлинера, Кафки, Беккета, Бродского, Пригова, Рубинштейна… В текстах малой формы смысловая неопределенность передает коллизии внутреннего мира личности, ее переживание противоречивости или абсурдности бытия, ее сомнения относительно способности справиться самой со сложностью мира.
Но особенно содержательна смысловая неопределенность в прозаических произведениях большой романической формы, где соответствующие смысловые лакуны обычно предваряют непредсказуемое развитие событий: решающий сюжетный поворот или кардинальное изменение жизненных обстоятельств и следственно – совершение героями резких, неожиданных поступков. Все это – радикальные средства усиления динамизма повествования и фабульного развития художественного целого. Соответствующее значение имеют эпизоды смысловой неопределенности и в произведениях экранного искусства большой формы – многосерийных фильмах и сериалах, подобные эпизоды обычно располагаются «на стыках» серий, знаменуя смену культурных кодов.
Смысловая неопределенность в истории (и в исторических романах, фильмах, пьесах) – это ситуация, предшествующая любым историческим поворотам, порождаемая стечением взаимоисключающих тенденций развития и нарастанием социокультурной дезорганизации, возникающими на сломе социальных и культурно-исторических парадигм. Подобные исторические повороты чреваты возникновением бунтов и смуты, революций и гражданских войн или инициацией трудных и рискованных реформ, или становлением затяжного застоя (в экономике и политике, государственном строе, социальных отношениях и ценностных ориентациях). Для художественного и подобного ему творчества в этой области – здесь огромное поле нерешенных проблем.
Смысловая неопределенность в религии и религиозном сознании (а также в связи с отображением соответствующей проблематики в искусстве) – это в одних случаях – встреча с непознаваемым, сверхъестественным, трансцендентным (откровением, чудом, пророчеством, «вестничеством» и т.п.); в других – кризис веры, проявляющийся в росте скептицизма и критики церковной догматики, ценностно-смыслового плюрализма в отношении ритуалов и обрядов, богослужебных текстов, распространении ересей и альтернативных учений, секуляризации культуры, в религиозном расколе и межконфессиональных войнах.
Смысловая неопределенность в повседневной жизни человека (и ее изображении в искусстве) обычно связана с кризисом, вызванным противоречивыми обстоятельствами, неразрешимыми конфликтами, исчерпанностью душевных сил, и приводит к фрустрации, нарастанию страха, чувству одиночества, бегству от реальности и др. подобным эксцессам. Однако для сильной, активной и творческой личности ситуация пространственно-временной неопределенности оказывается полем расширенных возможностей самореализации, служит «толчком» («детонатором») для рождения новых инициатив и проектов, открытий и решений, ведущих к возникновению толерантности к неопределенности и ее преодолению в личном или общем плане.
К какой бы версии смысловой неопределенности мы ни обращались, – в целом это пограничное состояние культуры, чреватое дальнейшим непредсказуемым развитием. В смысловой неопределенности, несущей в себе драматизм нереализованной противоречивой напряженности, заключен в свернутом, сжатом виде «сгусток» социокультурной энергии, который имеет шанс в следующий за данным момент развернуться практически в любом направлении и превратиться в какую-нибудь ценностно-смысловую «определенность» – одну из множества возможных и всегда неожиданную. Различные сценарии подобного развития содержатся в «дремлющем» виде в пространстве неопределенности, образуя его невидимую структуру. В смысловой неопределенности имплицитно заключен механизм потенциального культурного взрыва – со всеми вытекающими из него культурно-историческими последствиями. Поэтому так важно изучать феномен смысловой неопределенности в историческом контексте культуры.
Любая человеческая деятельность связана с ограничением неопределенности; ее цель – «превращение неопределенности в частичную определенность», «преобразование энтропии во что-то более упорядоченное, структурирование» [70]. Собственно, в этом состоит смысл исторических поворотов, направленных на преодоление социокультурно-исторической энтропии, на выход из ситуации смысловой неопределенности.
Современный французский философ Ален Бадью ввел в научный обиход понятие «готовность к событию» как особенность стратегии человека или общества, готовых к ситуации неопределенности. «„Быть готовым к событию“ – значит быть в субъективном расположении, позволяющем признать новую возможность. <…> Быть готовым к событию – значит быть в таком состоянии духа, в котором порядок мира, господствующие силы не обладают абсолютным контролем над возможностями» [71]. Человек в ситуации смысловой неопределенности фактически находится в процессе интерсобытийности, т.е. в отношении «меж-бытия».
Признание этого означает, что «неопределенность, помимо неприятных эмоций, содержит в себе важный, позитивный потенциал для человека, который может, выработав в себе адекватную позицию по отношению к неопределенности, ощутить присущие ей позитивные возможности» [72]. Сказанное относится и к сообществу, и к большому обществу: ситуация смысловой неопределенности мобилизует ее субъекта, его готовность к ней, затем – его готовность к будущему событию, к предстоящему историческому повороту – возможному, неизбежному, необходимому… И наконец, – к непосредственному участию в историческом или культурном повороте, т.е. к переходу от одного событийного ряда – к другому.
Неисчерпаемое множество культурных смыслов, готовящих исторические и культурные повороты, составляют их многослойный и многозначный культурогенез. В этом противоречивом культурогенезе есть пласты с определенной и неопределенной семантикой, в них действуют различные культурогенные механизмы, моделирующие конструктивную и деструктивную напряженность, дезориентирующие или мобилизующие субъектов того или иного культурно-исторического процесса. Культурогенез истории может носить индивидуальный, локальный, гибридный и глобальный характер, что может иметь для исторических и психологических поворотов (различных уровней обобщения) разные следствия и смысл – социальный и политический, культурный и религиозный, нравственный и эстетический, интеллектуальный и художественный.
Культурные и художественные практики ХХ в. ввели в свой оборот различные версии смысловой неопределенности и включили ее в арсенал своей поэтики и эстетики во всех видах искусства – как в «малой», так и в «большой» форме. Для того, чтобы понять место смысловой неопределености в поэтике большой формы, стоит предпринять обзор некоторых характерных тенденций в искусстве ХХ в.
Во-первых, появляются такие образцы «большой» литературной формы, которые не имели аналогов в предшествующей истории литературы. Это «Улисс» Джеймса Джойса и семитомный цикл «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста [73]. В каждом из этих, по-своему, бесконечных романов используется особая версия смысловой неопределенности – «потока сознания», – мотивируемая извне (у Джойса) и мотивируемая изнутри (у Пруста). В каждом случае цель порождения «большой формы» – не исчерпывающее прочтение произведения каждым читателем, столкнувшимся с ним, а, скорее, – погружение в пространство смыслов, принципиально необозримое и неисчерпаемое, а потому – неопределенное. Каждый сюжетный эпизод, каждое переживание главного персонажа (в любом месте этих романов) есть не более чем произвольный пример той «малой формы», из которой потенциально развертывается «большая» (весь роман или один из романов цикла – у Пруста).
При этом у каждой «малой формы» есть в том или ином типе творчества (Джойса и Пруста) – свой ресурс развития, достаточный для превращения в «большую форму». Для Джойса – это вещный мир западной цивилизации, бесконечно множащийся и расширяющийся, и стоящий за ним глобальный мир международных отношений (политических, коммерческих и любых иных), вызывающий к жизни бессчетное количество образных ассоциаций, дифференцированных для разных персонажей. Для Пруста – это безбрежный мир углубляющейся человеческой памяти, также рождающей множество непредсказуемых ассоциаций – визуальных и аудиальных, осязательных и обонятельных. И Джойс, и Пруст – каждый по-своему – демонстрирует своей аудитории, что нет такой «малой формы», которая не могла бы стать «большой». Всё зависит лишь от средств генерализации форм.
Однако не менее важен и историко-культурный контекст романов Джойса и Пруста. В первом случае – это интертекстуальная апелляция Джойса к гомеровской «Одиссее», и «Улисс» в этом контексте предстает как изощренная аппликация на эпический сюжет Гомера, а вместе с тем и на семантику древнегреческой мифологии, в конечном счете – на идейно-образное наследие всей античной культуры. Это придает «большой форме» «Улисса» масштабное историческое измерение, сопоставимое с вечностью.
Во втором случае – временная неопределенность прустовского повествования, обозначенная автором в самом названии цикла – «В поисках утраченного времени», компенсируется бесчисленными самодовлеющими деталями – приметами и символами определенного времени и определенной культуры, определенного образа жизни, незаметно, но упорно возвращающими читателя через эти ветвящиеся и дробящиеся ассоциации к восстановлению целостного образа этого времени – во всей его возможной (и невозможной) полноте. «Утраченное время» у Пруста обретает способность обретаться заново, возрождаться, двигаться в обратном направлении. «Утраченное время» у М. Пруста оборачивается фактическим бессмертием художника.
С. Эйзенштейн недаром, начиная с 1920-х гг., интересовался опытом «внутренних монологов» (на примере Дж. Джойса), понимая его как «литературный прием упразднения различия между субъектом и объектом в изложении переживаний героя в откристаллизовавшейся форме», как «скольжение из объективного в субъективное и обратно» [74]. Эйзенштейну удается «схватить» самую суть феномена смысловой неопределенности: размывание границ между субъектом и объектом, смысловое «скольжение» между тем и другим (эту характеристику вполне можно отнести и к Прусту). Отмечая, что литература и «киноучасток культуры» «движутся по сродственным путям», С. Эйзенштейн не только подчеркивал «значение Джойса для кино» и его «замечательного „Улисса“», но и значение своего (и чужого) киноопыта для литературы. Он свидетельствовал, что в Париже Джойс, встретившись с ним как кинорежиссером, интересовался его «планами в отношении „внутреннего киномонолога“ гораздо более необъятных возможностей, чем литературный» [75].
Еще один парадоксальный пример диалектики «малой» и «большой» форм в западной культуре ХХ в. – Франц Кафка. Разумеется, речь идет прежде всего о трилогии его романов – «Процесс», «Замок» и «Америка», – каждый из который по-разному не завершен и «открыт» в жизнь, в текучую реальность, окружающую читателей нескольких поколений и самого автора. Именно эта принципиальная незавершенность и открытость романов Кафки не только демонстрирует их причастность к смысловой неопределенности, но и делает эти произведения больше их самих и санкционирует их причастность к «большой форме». В то же время не будем забывать, что все они фрагментарны, а последовательность глав в «Процессе» условна и принадлежит публикаторам, а не автору. «Большая форма» у Кафки дробится на множество «малых форм», имеющих самостоятельное значение. Вообще Кафка – мастер именно «малых форм» – рассказов, новелл, притч, филигранность которых доведена до болезненного совершенства. Собрание этих «малых форм» Кафки уже само по себе представляет единый сложно организованный, причудливый текст, в принципе мало чем отличающийся от текстов его романов, т.е. является своего рода еще одной разновидностью кафкианской «большой формы», обладающей своеобразной неопределенностью – демонстративной бесструктурностью и размытостью (ризомоподобностью), как, впрочем, и каждый из больших романов Кафки и их суммарный гипертекст как своего рода трилогии романов.
Понятие ризомы, введенное в научный и философский оборот Ж. Делёзом и Ф. Гваттари, неслучайно оказалось в центре теоретико-культурологической мысли конца ХХ – начала XXI вв. – особенно когда речь заходит о представлениях о множественности и единстве, дробности и цельности, т.е. сложной организованности современных явлений культуры. Именно благодаря изобретению понятия «ризомы» (за которым, как известно, стоит образ разрастающегося во все стороны «корневища», или «грибницы») и изучению ризомоморфных явлений в обществе и культуре оказалось возможным соединить в одной концепции взаимоисключающие характеристики сложноорганизованного объекта. «Именно в этом смысле самым решительным образом раздробленное произведение может быть также представлено как цельное Произведение или Великий Опус [Grand Opus]» [76], – писали Ж. Делез и Ф. Гваттари.
Опыт «больших» художественных форм ХХ в., рожденных модернизмом и постмодернизмом (и особенно – на грани того и другого), показал, что у «большой формы» есть важный и во многих случаях не учитываемый резерв смыслового расширения – интертекстуальный и гипертекстуальный контекст. Феномен «смерти автора», открытый и объясненный Р. Бартом [77], применительно к проблематике «большой формы» означает, что границы современного произведения искусства (а ретроспективно – любого в принципе произведения) не совпадают с границами его текста, а теряются в безбрежном море ассоциативных и интерпретативных смыслов, которые, как шлейф, «тянутся» за ним.
Если прибегнуть, в соответствии с предшествующими экскурсами этого раздела нашей работы, к литературным примерам, то, помимо уже упомянутых Джойса, Пруста и Кафки, нужно упомянуть поздних модернистов и ранних постмодернистов Т. Манна и Г. Гессе, Л.-Ф. Селина, С. Беккета, экзистенциалистов А. Камю и Ж.-П. Сартра, классиков американского модернизма Э. Хемингуэя и У. Фолкнера, представителей американского постмодернизма К. Воннегута и Дж. Апдайка и даже более традиционных писателей эпохи модернизма – А. Жида, Р. Роллана, Г. Манна, Г. Белля, Э. М. Ремарка и др., почти каждое значительное произведение которых оказывается вписано в сложный интертекст и гипертекст предшествующих и современных им произведений. Именно в той мере, в какой это произведение погружено в культурно-исторический контекст и окружено ценностно-ассоциативным ореолом, оно вырастает в глазах своей аудитории – на разных этапах своей истории – по-разному.
При этом вполне очевидно, что в случае, например, с «Доктором Фаустусом» Т. Манна или «Степным волком» и «Игрой в бисер» Г. Гессе, «Мастером и Маргаритой» М. Булгакова или «Доктором Живаго» Б. Пастернака мы сталкиваемся с культурным контекстом, во много раз превышающим по содержанию и объему, по своей «ризомоморфности» сам текст того или иного романа. Но поскольку во всех этих примерах текст органически сращен с контекстом и связан с ним каждый раз многообразными, взаимно переплетающимися отношениями, которые трудно отменить или игнорировать – даже на минимальном культурном уровне потенциальных реципиентов, – мы имеем дело с произведениями «большой формы», хотя бóльшая часть конструкций этой формы находится за пределами самого литературного текста.
Так, в гипертекст «Доктора Фаустуса» Т. Манна входят и различные версии средневековой легенды о докторе Фаусте, и «Фауст» Гете, и библейские тексты, и Шекспир, и Лоренс Стерн, и философия Ницше, Шопенгауэра и Майстера Экхарта, и произведения Гёльдерлина, Новалиса, и музыка Бетховена, Вагнера, Брамса, Монтеверди, А. Шёнберга… Аналогичным образом можно представить (в гипертекстуальном виде) большую форму в романах Г. Гессе, М. Булгакова («Мастер и Маргарита»), Б. Пастернака («Доктор Живаго»), Вен. Ерофеева («Москва – Петушки»), Дж. Фаулза, М. Павича («Хазарский словарь»), У. Эко «Имя розы») и др. писателей ХХ в.
Стоит обратить внимание на то, что во многих случаях гипертекст литературных произведений ХХ в. интермедиален: наряду с собственно литературными текстами в него входят тексты публицистические и философские, тексты изобразительного и музыкального, театрального и даже циркового искусства. Так, мы – поначалу с удивлением, а затем с пониманием – обнаруживаем в «Степном волке» Г. Гессе множество «неучтенных» персонажей романа: Моцарт, Глюк, Платон, Гёте, Ницше, Шуберт, Бетховен, Вагнер и Брамс, Гендель, Новалис, Фридеман Бах, М. Регер, Будда, Христос, Митра и Кришна… Одни из них только упоминаются героем – Гарри Галлером – в его записках или мерцают в его фантазийном сознании; другие материализуются и беседуют с ним, участвуя в философских спорах и культурных дискуссиях.


