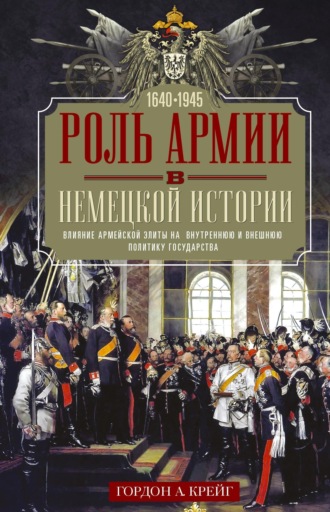
Гордон А. Крейг
Роль армии в немецкой истории. Влияние армейской элиты на внутреннюю и внешнюю политику государства, 1640–1945 гг.
Упадок армии и разрушение государства Фридрихов, 1786-1807
Коротко упоминая об основных слабостях государства Фридриха, следует с ходу добавить, что и его крушение, и его возвышение носили преимущественно военный характер. Те немецкие авторы, которые склонны объяснять все свои военные поражения переходом на сторону противника гражданских лиц, отчасти распространяют подобное толкование и на поражение 1806 года56. «В 1806 году, – пишет один из них, – в поражении в большей степени повинно гражданское население, чем власти государства или армия». Тем не менее теория удара в спину не более верна для объяснения неудачи прусского оружия против Наполеона, чем для событий 1918 года. Прусская армия потерпела сокрушительное поражение в 1806 году, а факторами, приведшими ее к поражению на поле боя, явились недостатки организации, обучения и командования, ставшие очевидными еще с 1763 года.
Упадок армии, одержавшей такие выдающиеся победы в Семилетней войне, можно проследить от самого Фридриха Великого, и даже Трейчке, один из его величайших поклонников, вынужден признать, что Фридрих оставил армию «в худшем состоянии, чем то, в котором он принял ее, вступив на престол»57. Например, мало сомнений в том, что он до опасной степени размыл кантональную систему. Хотя иногда Фридрих был готов признать, что местные солдаты сражались в битвах Пруссии лучше, чем иностранные наемники, он всегда чувствовал, что его подданные лучше служат государству в качестве налогоплательщиков и товаропроизводителей, нежели в качестве солдат. В то время как в армии Фридриха Вильгельма I коренных жителей было в два раза больше, чем иностранцев, Фридрих намеренно изменил это соотношение. Он считал, что призванные на военную службу кантонисты никогда не должны превышать 3 процента от всего мужского населения, и, даже если это означало, что некоторые полки будут полностью состоять из иностранцев, это было предпочтительнее, чем ставить под угрозу экономическую мощь страны. На последних этапах Семилетней войны Фридрих прибегал к насильственному набору военнопленных и подданных оккупированных государств, а не к увеличению численности местных контингентов, и в своем завещании 1768 года он прямо заявил, что «полезных трудолюбивых людей необходимо беречь как зеницу ока, а рекрутов в военное время следует набирать в своей стране только тогда, когда вынуждает самая горькая нужда»58.
С точки зрения военной целесообразности первой потребностью после 1763 года должна была быть тщательно спланированная политика восполнения потерь, понесенных армией за последние семь лет. Такая политика, вероятно, могла основываться на разумном расширении кантональной системы, увеличении числа крестьян-призывников или даже на углублении системы, дабы охватить более широкие слои населения. Однако озабоченность Фридриха проблемой восстановления экономики заставила его отказаться от всех подобных решений. Обычные освобождения от несения службы не только сохранились, но их количество увеличилось. В некоторых областях страны все население было специально освобождено от военной службы, например в Бреслау и других районах Силезии59. В целом воинская повинность в недавно приобретенных провинциях была сведена к минимуму, дабы предотвратить эмиграцию населения, а свобода от военной службы применялась как побуждение для потенциальных иммигрантов в прусские земли. Короче говоря, в период, когда прусское население и территория росли, кантональная система не приспосабливалась к изменившимся условиям, а правительство стремилось компенсировать неизбежные нехватки в призыве, заполняя квоты иностранными наемниками.
Несмотря на некоторую профессиональную критику кантональной системы, преемники принципы Фридриха поддержали. Кантональные регламенты от февраля 1792 года фактически выражали гордость за организацию прусского государства, где «кроме самой могущественной и грозной армии, расцветают все искусства мира, где принуждение к воинской повинности максимально смягчено, а многие классы подданных практически не затронуты»60. Всеобщая воинская повинность оставалась фикцией на протяжении всего периода между войнами, количество наемников неуклонно росло, пока в 1804 году они не составили почти половину всей армии61, и зависимость от иностранной живой силы была больше, чем когда-либо с первых лет правления Фридриха Вильгельма I. Некоторые офицеры признавали, что увеличение числа иностранцев внесло в армию элемент ненадежности. Между 1802 и 1806 годами обсуждались различные планы пополнения существующего военного ведомства путем организации милиции, которая могла бы служить активным резервом и силой внутренней обороны во время войны, и во всех этих случаях – а в особенности в планах, предложенных в 1803 и 1804 годах Кнесебеком и Курбье, – определенный акцент делался на важности увеличения местного компонента в полках62. Но эти планы так и не были реализованы до тех пор, пока не стало слишком поздно, и главной причиной этого было нежелание отменять существующие льготы или расширять воинскую повинность.
Между тем практика отпуска местных на большую часть года продолжалась и расширялась. Ради сокращения штата военных и из соображений общей экономии Фридрих Великий сделал ежегодный период маневров, в течение которого армия должна была находиться в полном составе, короче, чем это было при его предшественнике. Фридрих Вильгельм II и Фридрих Вильгельм III пошли еще дальше, иногда ограничивая королевские маневры всего четырьмя неделями, обучая новобранцев в течение первого года их службы всего десять недель и предоставляя длительные отпуска не только кантонистам, но и местным профессионалам63. То, что это должно было иметь пагубные последствия для эффективности и дисциплины, понятно. Основная часть армии практически постоянно была занята деятельностью, далекой от военного искусства. Тем временем гарнизоны по большей части были укомплектованы иностранными наемниками, многие из которых приехали с женами и детьми и были вынуждены, ввиду крайне низкой оплаты, подрабатывать в городах на черных работах64. Описания гарнизонной жизни конца XVIII века совершенно ясно показывают, что в таких условиях нельзя было поддерживать ни упорядоченный режим, ни обучение, а драки и неустройство иностранных профессионалов, безусловно, снизили уважение горожан к армии и способствовали злорадству, с которым они отреагировали на поражение 1806 года.
Это общее ухудшение затронуло не только рядовой состав, но и хваленый офицерский корпус65. Цвет офицерского корпуса Фридриха Великого погиб в Семилетней войне. Жесткое исключение Фридрихом буржуазных офицеров из армии после 1763 года не только лишило армию талантливых и опытных офицеров, но и наложило на местное дворянство военное бремя, которое оно не могло вытянуть в одиночку. Конечным результатом этого явилось то, что присваивать офицерские звания приходилось иностранцам благородного происхождения, и, хотя таким образом на прусскую службу поступили многие выдающиеся офицеры, в том числе пожалованный в дворяне до своего вступления в прусскую армию в 1801 году Шарнхорст, среди пришедших было немало, как выразился Трейчке, «авантюристов сомнительного пошиба»66.
Офицерский корпус, при Фридрихе Вильгельме I ставший преимущественно национальным по составу, теперь был менее однороден и имел еще меньшую связь, чем раньше, с поддерживавшим его населением.
Однако гораздо более серьезной проблемой был очень низкий образовательный уровень офицерского корпуса. Разумеется, в этом не было ничего нового. Образовательный тон прусской армии был задан Фридрихом Вильгельмом I и старым Дессауэром, при чьем руководстве, как писал один наблюдатель, «генерал не считался необразованным, даже если он едва мог расписаться. Способного на больше обзывали педантом, чернильной душой и писакой»67.
В последующий период отмечалось незначительное улучшение. На самом деле проблема усугублялась склонностью юнкерских семей посылать сыновей в армию в том возрасте, когда им с большей пользой следовало заниматься приобретением элементарных азов математики68. Эта практика поощрялась острой необходимостью замены офицеров после 1763 года, но ее основной причиной, вероятно, было чувство части местной знати, что старшинство в звании важнее культурных достижений69. Какова бы ни была причина, результаты были плачевными, и младшие армейские чины заполняли невоспитанные и неотесанные юноши, не лишенные доблести, но которым не хватало ума, чтобы сделать ее эффективной. Реформа кадетских училищ, проведенная майором фон Рюхелем в 1790-х годах, и учреждение четырех высших военных академий между 1763 и 1806 годами служили признанием этого положения и стремились его исправить. Однако выпускников последних учебных заведений было немного, и они составляли неадекватную малую долю в офицерском корпусе, который, как минимум в званиях ниже майора, отличался бездонным и высокомерным невежеством70.
Если безбородая молодость была отличительной чертой низших чинов офицерского корпуса, то на должностях высшего командного состава властвовал возраст. В период после Фридриха Великого буквально казалось, что в Пруссии старые солдаты никогда не умирают. К 1806 году из 142 генералов прусской армии четверо были старше 80 лет, 13 – старше 70 и 62 – старше 60 лет, а 25 % полковых и батальонных командиров тоже перевалили за 60 лет71. Конечно, в самом по себе возрасте как таковом нет ничего предосудительного, и отмечалось, что командиры, победившие в сражениях 1866 и 1870 годов, во многих случаях были ровесниками тех, кто проиграл сражения 1806 года72. Но возраст, сопровождаемый непреклонным консерватизмом, может быть опасен, и именно в этом смысле годы мешали эффективности прусской армии. Многие из высших офицеров армии Фридриха Вильгельма II и Фридриха Вильгельма III во время войн Фридриха Великого были младшими офицерами, и благоговение перед методами Фридриха сочеталось у них с упорным нежеланием признать, что методы ведения войны могут измениться. Поэтому они были почти абсолютно слепы и, разумеется, невосприимчивы к новшествам, внедряемым за границей.
Именно во Франции, вполне ожидаемо вызвавшей особую озабоченность у прусских солдат, в период между Семилетней войной и началом нового века был достигнут наиболее заметный военный прогресс. Уже в 1760 году маршал де Бройль и герцог де Шуазель экспериментировали с новыми тактическими формами и закладывали основу для реорганизации старой массовой армии в самостоятельные и автономные подразделения, состоявшие из всех родов войск и способные на автономный маневр и бой. Одновременно с этим реформы Грибоваля произвели революцию в боевых действиях артиллерии, в частности внедрение унифицированных запасных частей, повышение точности стрельбы и уменьшение веса орудий. В последующие годы в этом направлении был достигнут дальнейший прогресс, но еще более важные изменения произошли в результате глубокой политической революции, начавшейся в 1789 году. Разрушение старого режима и предоставление основных прав всем гражданам немедленно повлияло на структуру французской армии. Они сделали возможным создание подлинно национальной армии, которая, поскольку ее рядовые составы состояли из граждан, преданных национальному делу, была свободна от жестких ограничений войны XVIII века. Французам больше не нужно было концентрировать свои силы в тесном строю на поле боя, запрещая самостоятельные маневры, чтобы это не привело к массовому дезертирству. Французские тиралъеры наступали растянутым строем, сражались, стреляли и укрывались поодиночке, вследствие чего армия неизмеримо выигрывала в тактической гибкости. Более того, войскам можно было доверить добывание для себя продовольствия, и теперь можно было освободить французские части от громоздких обозов снабжения и зависимости от складов, которые ограничивали мобильность армий старого образца. Это освобождение от тирании логистики, в сочетании с новой тактикой и усовершенствованной дивизионной организацией, ввело в Европу совершенно новый вид ведения войны – тип молниеносной войны, мастером которой Наполеон показал себя в итальянской кампании 1800 года73.
Эти изменения не остались незамеченными в Пруссии.
Вскоре после смерти Фридриха Великого артиллерист Темпльхофф и гражданский публицист Георг Генрих фон Беренхорст предупреждали об опасностях слепого следования принципам Фридриха74, а ученик Беренхорста, Дитрих Генрих фон Бюлов, осознавал, хотя и несколько ограниченно, важность как французской массовой мобилизации в целом, так и гибкости операций Наполеона75. Военное общество, официально созданное в 1802 году и состоявшее из многих выдающихся офицеров, читало доклады и проводило дискуссии о военных нововведениях во Франции, и главный вдохновитель этой группы, Шарнхорст, активно работал над внедрением в прусскую армию дивизий из всех родов войск и созданием народного ополчения в качестве резерва76. В 1803 году барон Карл Фридрих фон дем Кнезебек разработал далекоидущий план реформы прусской армии, подчеркнув тот факт, что война теперь стала делом национальным и необходимо предпринять попытки создать подлинно национальную армию, а в 1804 году генерал фон Курбьер призвал к созданию кадровой системы, которая облегчила бы мобилизацию во время войны77.
Существование этих и других предложений по реформе, несомненно, доказывает, что перед 1806 годом прусская армия не была полностью лишена интеллектуальной жизнеспособности. Однако фактом остается то, что ни один из предложенных планов реформ не был реализован вовремя и не принес пользы. Французский опыт был не слишком убедителен для приближенных к королю военных советников, а наибольшим уважением пользовались военные теории Зальдрена, Вентурини и Массенбаха, которые изображали войну как вопрос продуманного маневра и математических расчетов, подчеркивавших важность старой плац-дисциплины и продолжавших восхвалять линейную тактику и косые атаки, прославленные Фридрихом78. Старый фельдмаршал фон Меллендорф, герой Семилетней войны, был склонен встречать все предложения реформ словами: «Это абсолютно выше моего понимания»79.
Его влияние и влияние других, ему подобных, сыграло важную роль в отклонении предложений Кнезебека и Курбьера. Против сопротивления этой старой гвардии реформаторы мало продвинулись. Был достигнут некоторый прогресс в облегчении груза багажа, который армия была вынуждена таскать с собой в своих походах; были некоторые незначительные улучшения в боеприпасах; но необходимость тактических реформ или политических изменений, которые сделали бы их возможными, не признавалась. Даже хорошо зарекомендовавшая себя дивизионная организация не была введена до тех пор, пока прусская армия не двинулась к Йене, и, следовательно, это только усилило неразбериху в этом сражении.
Наконец, чтобы завершить этот перечень изъянов прусской военной организации, необходимо упомянуть об административной сложности и путанице, характерных для армейского управления. Со времен правления Фридриха Вильгельма I имел место неуклонный процесс бюрократизации, и к концу XVIII века в армии существовало пять практически равноправных и автономных органов: военный департамент Генерального директората, губернаторы гарнизонов, генеральные инспекторы, так называемая Высшая военная коллегия (Oberkriegskollegium) и Генерал-адъютантура80. Военный департамент, через который Фридрих Вильгельм I осуществлял свою власть в административных вопросах, в последующий период лишился большей части реальной власти. Начальники крупных гарнизонов были практически независимы от его контроля, как и генеральные инспекторы, которым с 1763 года дозволялось осуществлять надзор за набором солдат. Высшая военная коллегия была создана в 1787 году якобы для контроля и координации различных конкурирующих между собой ведомств и для того, чтобы снова поставить все военные дела под центральное руководство. Однако с самого начала вопросы, влияющие на командование и военные операции, были оставлены на усмотрение короля, а отношения между новым органом и командующими генералами для удобства оставались расплывчатыми81. В действительности Высшая военная коллегия оказалась неспособной координировать даже чисто административные функции армии. Ее авторитет вечно оспаривался военным департаментом, а его позиции постепенно подрывались Генерал-адъютантурой.
Этот последний орган, из которого предстояло вырасти всемогущему Военному кабинету XIX века, зародился в первые годы правления Фридриха Вильгельма I. Первоначально это была небольшая группа офицеров, служивших личными помощниками короля и занимавшихся его военной корреспонденцией. В списке офицерского состава 1741 года, например, королевская свита описывается как состоящая из четырех генерал-адъютантов в звании полковника и пяти флигель-адъютантов в звании майора82, но их количество и звания время от времени менялись. Из-за своего доступа к государю адъютанты, если они были одаренными и энергичными людьми, имели возможность оказывать значительное влияние, и при Фридрихе Вильгельме II и Фридрихе Вильгельме III так и произошло. Действительно, в 1787 году, когда была учреждена Высшая военная коллегия, Фридрих Вильгельм II одновременно сделал генерал-адъютанта от инфантерии полковника фон Гейзау своим каналом, по которому все военные дела доводились до его сведения и через который его приказы сообщались другим ведомствам83. Взяв на вооружение эту власть – так называемое право доклада, – Гейзау, его преемник подполковник фон Манштейн и генерал-адъютант кавалерии Бишофсвердер играли очень активную роль не только в вопросах, касающихся вооруженных сил, но и в политике84. В области собственно военной они постепенно ослабляли положение Высшей военной коллегии, ибо этот орган мог излагать свои взгляды государю только через адъютантов. Кроме того, они усугубляли общую административную неразбериху в армии и государстве в целом, поскольку все конфликтующие ведомства, в том числе и гражданские министры, соперничали за их благосклонность, а сами адъютанты были не прочь натравить одних на других ради сохранения и усиления своего влияния85.
В результате этого бюрократического соперничества единственное относительно обнадеживающее административное событие того периода – попытка создать эффективный Генеральный штаб – оказалось гораздо менее успешным, чем могло бы быть86. Некоторые из функций, которые мы связываем с работой Генерального штаба, со времен Великого курфюрста выполнялись генерал-квартирмейстер-ским штабом, но только в самом конце XVIII века этому вопросу уделили серьезное внимание. Тем не менее в 1800 году генерал Лекок из штаба генерал-квартирмейстера попытался дать более системное описание того, какими должны быть обязанности штаба, а в следующем году к той же задаче приложил свой недюжинный ум полковник фон Массенбах. В двух длинных меморандумах Массенбах настаивал на том, чтобы штаб генерал-квартирмейстера был реорганизован в три бригады, каждой из которых поручалось бы оперативное изучение данного района, чтобы штаб в целом готовил военные планы на все возможные непредвиденные обстоятельства, чтобы он проводил регулярные штабные учения для ознакомления своих членов с проблемами на местности, чтобы он собирал сведения о внешней обстановке и силах противника, чтобы его члены чередовали службу в штабе и службу в воинских частях и, наконец, чтобы начальник штаба генерал-квартирмейстера имел прямой доступ к королю и право выражать свое мнение по военным вопросам87.
С самого начала эти планы оспаривались другими военными ведомствами. Фельдмаршал фон Меллендорф, глава Высшей военной коллегии, опасался, что подготовка военных планов приведет к измене, которая поможет потенциальным врагам. Генерал фон Застров считал, что ведомство, которое вознамерится развивать в офицерах «фельдмаршальские таланты», попросту поощрит неподчинение. Генерал-майор фон Кокритц, глава Генерал-адъютантуры, выступил против планов Массенбаха из общих соображений, опасаясь, видимо, что планируемая организация ослабит его собственную власть88. Штаб генерал-квартирмейстера был фактически реорганизован в примерном соответствии с идеями Массенбаха в 1803 году, он начал свою новую деятельность, встреченный враждебностью других ведомств и обладая еще кое-какими недостатками, ослабившими его эффективность. Его новому начальнику, генерал-лейтенанту фон Гейзау, одновременно было поручено руководство инженерным корпусом и военным департаментом Высшей военной коллегии, это умножение функций усугубило и без того фантастическую сложность военного управления. Начальники трех бригад штаба – генерал-майор фон Фуль, сам Массенбах и Шарнхорст – были людьми, чьи представления о стратегии и тактике находились в безнадежном противоречии, а кроме того, они были несовместимы по темпераменту89. Новая организация теперь стала называться Генеральным штабом, однако никто не имел ясного представления о его функциях или полномочиях.
Хотя после 1800 года отмеченные выше недостатки и злоупотребления не ускользнули от внимания военных реформаторов, истинные масштабы упадка, затронувшего вооруженные силы с 1763 года, так и не были осознаны. Аура непобедимости, окружавшая армию в результате побед Фридриха, в последующие годы полностью не рассеялась. Даже разочаровывающие кампании 1792–1795 годов, которые могли бы, по мнению проницательного критика, выявить тревожные недостатки дисциплины и командования90, по-видимому, не поколебали убежденности рядового офицера в том, что при любом реальном столкновении прусская армия непобедима. Безусловно, по мере того как правительство, все более раздраженное претензиями Наполеона и французскими нарушениями целостности прусской территории, подходило к войне 1805 года, солдаты не сомневались, что смогут поставить корсиканца на место. Правда, некоторые приближенные к королю генералы, и в особенности Массенбах, были против войны с Францией, однако позиция Массенбаха определялась скорее политическими пристрастиями, чем военными соображениями, ибо он ненавидел англичан и русских и мечтал о франко-прусском крестовом походе против последних91. За этим исключением, следует отметить, что прусская партия войны в 1805 году носила преимущественно армейский характер и, кроме того, возглавлялась тем реформаторским элементом, который должен был лучше всего осознавать неспособность Пруссии вести крупную кампанию. В то время как младшие офицеры берлинских гарнизонов точили шпаги на ступенях французского посольства92, четыре человека, такие как Шарнхорст, Рюхель и Блюхер, использовали все свое влияние в высших эшелонах власти, чтобы убедить короля в необходимости войны93. Возможно, они не обладали возвышенной верой безымянного полковника, сожалевшего, что его «парням» приходится носить сабли и мушкеты, ведь, чтобы прогнать с прусской территории «французских псов», им хватит дубин94, тем не менее, когда король в 1806 году окончательно решился на войну с Францией, они были уверены в победе.
Эта уверенность жестоко развеялась. Позже Бойен напишет о событиях 1806 года, что «было немного кампаний, в которых такие многочисленные и часто такие непонятные промахи накладывались друг на друга»95. Дипломатическая подготовка к войне была смехотворно плохой. В 1805 году, когда и австрийцы, и русские выступили против Наполеона, прусское правительство колебалось до тех пор, пока не упустило наилучшую возможность для действий, в августе 1806 году оно вступило в войну с нейтральной Австрией, а Россия не могла предоставить силы поддержки. Мобилизация на войну была беспорядочной и неполной, не было предпринято никаких попыток мобилизовать силы Восточной Пруссии, и против французской армии численностью 160 000 человек пруссаки отправили на поле боя всего 128 000 человек. Эти силы возглавил престарелый герцог Брауншвейгский, уклончивая нерешительность которого в кампаниях 1792–1795 годов не предвещала энергичного командования, ясный стратегический план у него отсутствовал, как и понимание важности штабной работы, он мало использовал таланты Шарнхорста, назначенного в его штаб в качестве начальника штаба. Однако эффективное командование было бы невозможно и при более одаренном военачальнике, чем герцог Брауншвейгский, поскольку административная неразбериха, терзавшая армию в мирное время, последовала за ней на поле боя. Какое-либо единое управление войной стало невозможным из-за прибытия в сентябре в штаб армии короля, и с этого времени война велась заседаниями комитетов, на которых энергия полевых командиров тратилась на бессмысленные дебаты с членами армейского штаба, королевской свитой, советниками кабинета и генерал-адъютантами, которые теперь заняли положение личного Генерального штаба короля.
Эти затяжные дискуссии полностью подарили инициативу Наполеону и все еще продолжались, когда его армии прошли через Тюрингский Лес и 10 октября разгромили прусский авангард в Заальфельде. Это поражение вызвало ужас в прусском штабе, и герцог Брауншвейгский, понимая, что его левый фланг находился под угрозой, решил отступить, чтобы защитить свои коммуникации. Это решение сделало невозможным сосредоточение прусских сил, которое еще могло предотвратить катастрофу. В результате, двигаясь с обескуражившей прусское командование быстротой, Наполеон навязал бой армии, состоящей из разрозненных и некоординированных частей. Сам император напал на корпус Гогенлоэ в Йене и, обладая большим численным превосходством и господством на возвышенности, одержал победу. Одновременно Даву бросился на фланг герцога Брауншвейгского у Ауэрштедта и, имея в своем распоряжении всего 26 000 человек, нанес решительное поражение почти вдвое превосходящим силам, во многом из-за нежелания генерала фон Калькройта без четких приказов задействовать свой резерв в 12 000 человек. Рано утром 14 октября прусские гренадеры мужественно противостояли смертоносному огню французских тиралеров, заслужив безграничное восхищение Наполеона, но к полудню боевой дух начал давать сбои. В Ауэрштедте герцог Брауншвейгский, пытаясь сплотить сильно пошатнувшуюся дивизию, был ранен в оба глаза и вынесен умирающим с поля боя, эта потеря усугубила растущее падение морального духа. Началось общее отступление, которое к вечеру переросло в бегство, поскольку беглецы обоих сражений хаотично бросились в сторону крепости Магдебург96.
Последующие события составляют одну из наименее славных глав в прусских военных анналах, поскольку воля к дальнейшему сопротивлению, похоже, умерла в Йене и Ауэрштедте, и лишь немногие командиры пытались сплотить свои силы для нового противостояния. Шарнхорст, в суматохе сражения отстраненный от своего поста в королевском штабе, присоединился к корпусу Блюхера в качестве начальника штаба, в то время как гусарский офицер упорно пробивался, используя спасенную им от разгрома артиллерию и поддержку егерей Йорка, через Гарц в сторону Мекленбурга, отвлекая французские силы, которые в противном случае могли бы ворваться в Восточную Пруссию. Но Блюхер и Шарнхорст вели бой практически в одиночку, и даже они, из-за отсутствия продовольствия и боеприпасов, были вынуждены сдаться французам в окрестностях Любека. В остальном крах прусской армии был полным и позорным. В Магдебурге генерал фон Клейст и двадцать три других генерала с 24-тысячным войском под их командованием капитулировали без боя, коменданты крепостей Эрфурт, Хамельн, Шпандау, Кюстрин и Штеттин сделали то же самое. Гогенлоэ, прорвавшись с 12 000 человек из Йены в Пренцлау, где он был практически в безопасности, сложил оружие по совету своего начальника штаба Массенбаха. Продемонстрировав недостаток таланта, офицерский корпус, казалось, намеревался доказать несостоятельность и в отношении доблести.
После захвата французскими войсками западных провинций Фридриха Вильгельма III он удалился в Восточную Пруссию и попытался в союзе с русскими вернуть потерянное. Однако кампания 1807 года отмечена преимущественно массой дебатов, подобных тем, что предшествовали Йене и Ауэрштадту, а прусский и русский штабы так и не смогли договориться о стратегическом плане. В феврале снова отличился Шарнхорст, когда, командуя ничтожно малым остатком прусской армии, лишил авангард Наполеона победы при Прейсиш-Эйлау. Однако союзные силы не смогли воспользоваться возможностью, предоставленной этим временным срывом планов императора, и бездействовали, в то время как Наполеон подтянул свои основные силы97. В июне французы начали крупное наступление и 14-го оттеснили главные русские силы к Фридланду. После этого царь Александр не решался на дальнейшее сопротивление и поспешил заключить мир с корсиканцем, мало заботясь о чувствах своего отчаявшегося союзника.
Брошенный на произвол судьбы Фридрих Вильгельм III встретился с Наполеоном 9 июля в Тильзите, и ему сообщили условия. Если он и ожидал мягкого отношения, то не дождался. Короче говоря, короля попросили смириться с потерей примерно половины территории и подданных, обещать платить большую дань своему противнику и содержать крупную оккупационную армию, а поскольку боеспособных воинских подразделений у него больше не было, ему не оставалось ничего другого, кроме как согласиться. Условия были совершенно сокрушительными, и они заключали в себе разрушение старого прусского государства. Тем не менее это не следует приписывать мстительности французского императора. В действительности Пруссия, созданная усилиями своей армии и ставшая крупной державой, теперь была разбита неспособностью этой армии приспособиться к изменяющимся методам ведения войны и нежеланием ее правителей задействовать невостребованную энергию прусского народа.


