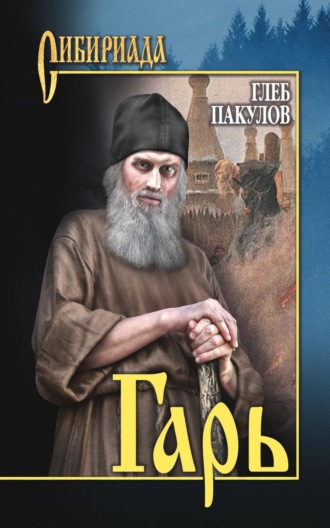
Глеб Пакулов
Гарь
Патриарх слушал его и все более гнул непокорную шею. Глазами поблекшей сини, будто их опахнуло инеем, исподлобья, мёрзло, водил по лицу государя. И царь смешался, сронил недосказанное перед набычившимся «собинным другом».
– Зачатое долго носить – мертвого родить! – жестко, как вколачивал гвозди, выговорил Никон. – Гиблое место махом проскакивают, горькое единым дыхом пьют! Так ведь в народе-то говорят.
– Но, святитель, и другая присказка в народе живёт: слушай, сосенка, о чём бор шумит, – опять тихо, с намёком предостерёг государь. – Всяк знает, что решил Стоглавый собор сто лет назад: «Кто не крестится двумя персты, как предки наши спокон века, тот да будет проклят…» Как втолочь простецам, что грешили иерархи наши, узаконивая правило еретическое? Не поймут! Дитяти и те знают – первые святые русские Борис и Глеб, Александр, по прозвищу Невский, Донской Димитрий знаменовались двумя перстами. И преподобный Сергий Радонежский ими же воинство русское благословлял на поле Куликово. И на иконах они так знаменуются. Сам Господь Вседержитель на них то же показует, а людие созданы по Его образу и подобию.
Перебирая вздутыми в суставах пальцами граненые четки, Никон мрачно кивал, шевеля отвисшей губой и сдвинув союзно густые брови. Царь умолк, вопрошающе глядя на патриарха. И Никон заговорил, вразумляя:
– Надобно различать перстосложения. Вот молебное. – Он свёл три пальца вместе. – А вот благословляющее: большой палец пригибаем к безымянному, малый оттопырен. Так только Господь и святые Его благословляют. Потому у греков крестное знамение молебное тремя персты. А мы на Руси вроде бы всем миром опреподобились – себя и все вокруг двумя перстами святим, обольстясь лукавым суемудрием. Грешно так дальше поступать.
– Я-то разумею, различаю и приемлю такое, – заметно робея, со смутной тревогой в сердце, проговорил Алексей Михайлович. – Может, и приспело время для державы нашей стать воедину с греческой церковью… А как Русь православная примет, как отзовётся, как до всякой души достучаться?
Грозно глядя на него, Никон учительски отчеканил:
– Сказано: толците – и вам отверзится!
Государь разволновался. Полное лицо в темно-каштановом окладе волос и бородки растерянно обмякло, побледнело творожной отжимью, карие глаза, будто вишенки из снега, смятенно и вопрошающе пялились на патриарха. Ему вьяве чудилось, что в этот миг, рядом где-то, скрежещет и вот-вот рассадится железная цепь, что, злобно радуясь скорой свободе, кто-то ужасный, обезумев, рвется со стоном и скорготнёй зубовной на широкую волю. Каков он обличьем – неявлено и неизреченно, власть и сила – незнаема. И спасенье от него в Никоне, в его каменной, необоримой воле.
Алексей Михайлович оперся на подлокотники кресла, расслабленно выжался из него, встал, и его мотнуло, как пьяного. В легком домашнем зипуне зеленого атласа с рукавами в серебряной объяри, в частом насаде жемчужных пуговок, кои ручьились от шеи до колен, стоял перепуганным отроком пред очами грозного отца – все видящим наперед властным домоводителем. Никон тоже ворохнулся в кресле дородным туловом, всплыл над столом чёрным медведем. В клобуке с воскрыльями, опершись на посох, глядел мимо государя в узорчатое окно, слепое от прильнувшей к слюде темноты, сам тёмный, перехлестнутый по груди золотыми цепями наперсного креста и Богородичной панагии.
Он предугадывал, чего будет стоить ему и Руси затеянная ломка привычных обрядов, что изменить их в сознании народа значило оскорбить веками освященные предания о всех святых, в Русской земле просиявших, грубо надломив духовную твердь – унизить древлее благочестие. Решиться на такое мог тот, кому неведом был дух и склад понятий русских, а Никон был плоть от плоти своего народа, не как чуждые всему русскому греческие иерархи. Но на них-то, не будучи «творцом мысленным», а дерзким скородеятелем, опирался патриарх, чая поддержку безмерному властолюбию своему.
– Надобе созвать Поместный собор, да со вселенскими патриархами, – глядя на окно и как бы убеждая кого, притаившегося там, в темноте, вздохнув, заговорил Никон… – Одному мне не подтолкнуть Россию к свету истинному. Волен будет и собор разделить со мною тягость задуманного. Не всуе тревожусь я. Говаривал давне пустыножитель Антиохийский: «Ступивший на ложную тропинку пролагает по ней дорогу грядущему поколению». И мы, грешные, который уж век топчем дорогу ту. Пора сворачивать на стезю верную. Крут будет сворот наш и многоборчен, но надо, надо ломиться к свету государств просвещённых.
– Э-э-эх! – долгим выдохом восстонал Алексей Михайлович. – Может, погодим с собором-то. Дуги гнуть не гораздо уменья, надобе и терпенье.
Никон поворотился к нему, кивнул, соглашаясь.
– Знатная поговорка, – подтвердил он. – А я скажу другую, сын мой. Она в точию о Руси нонешней: с одной стороны горе, с другой – море, с третьей – болота да мох, а с четвертой – ох!.. Храни тебя Боже, государь.
Алексей Михайлович подставился под благословение, заметил, что Никон щепотью обнес ему грудь, и, чуть замешкав, ткнулся губами в руку патриарха.
После ухода государя к Никону напросился Иоаким – архимандрит Чудова монастыря. Поведал о явлении к ним старца, неведомо откуда и обличьем дивного. Дряхл весьма, а языком, что рычагом ворочает, страх слушать. В коих летах – не сгадаешь, сам не помнит. Но оченно древен, простые смертные по столь не живут. А уж как в келье монаха Саввы обрёлся – ни умом, ни поглядом не сгадано. Никтожеся не упомнил, не зрел, чтоб в ворота обители монастырской посошком торкал. Ночью они всенепременно на засовах дубяных.
– Тебя, государь великий, к себе звать велит, а сюда никак нейдет, – тараща глаза и прикрывая рот ладошкой шептал Иоаким. – Аще и посланьице тебе со мной наладил. Говорит – так надобно. Каво с ним делать велишь?
– Со старцем?
– С посланьицем, святитель?
– И где оно?
– Да вот же, вот! – Иоаким сунул руку в пазуху, извлёк и подал Никону ременную лестовку-чётки с бобышками для счёта молитв, связанную узлом-удавкой.
– Мудрено сие, – разглядывая ее, усмехнулся патриарх. – Что за притча, пошто узел?
Архимандрит приподнял плечи, шевельнул локотками, мол, нет понятия. Никон, досадуя, отмахнулся от него, пошел к двери.
По Соборной площади и улочкам шагал к Чудову широко, вея полами черной мантии, не замечая кланяющихся встречных. Тщедушный Иоаким, с желтым, костяным лицом, – рот нараспашку, язык на плечо – еле поспевал за похожим на огромного ворона патриархом. Невыразимая тоска нудила душу Никона, подгоняла глянуть на того, кто своим явлением принёс ее, неизвестимую и досадную. Он и калитку монастыря, и двор промахал бегло, будто боялся не застать пришельца и остаться жить с неразгаданной тревогой. Только у низкой двери в келью слепца монаха Саввы перевёл дух. За спиной хрипел от удушья Иоаким, настойчиво протискивался ко входу.
– Не надо тя. – Никон посохом отгрёб его в сторону.
Оконце в келье было отпахнуто. Припоздненно и сонно пришептывал прижившийся при монастыре соловей, на маленьком столике длинно и копотно горела свеча, было прохладно и сыро, как в промозглый день на погосте. В боковушке кельи сидел на чурочке, подперев посошком маленькую головку, седой как лунь старец в длинной и белой рубахе с пояском из лыка, в белых портках и берестяных лаптях. Длинная борода снежной застругой висла до острых колен. Дитячьим личиком, подкрашенным бледным румянцем, он казался Никону одряхлевшим херувимом. И патриарх не посмел благословить его, так было ясно видно – старец уже не нужит об этом. И Никон молча стоял перед ним, как над заметёнными снегом живыми ещё мощами.
Старец нескоро поднял голову с посошка, шевелил усами, собирал немощные силы выговорить что-то и не мог. Но необъяснимо живо под сугробами бровей незабудками в весенних оттаинках мудро и мощно светились его глаза. Глядя на лестовку в руках Никона, он нежданно звучно предсказал:
– Тако удавишь ты веру древлюю!
Никон откинулся, как от оплеухи, выронил связанные узлом четки. Жаром обдало его, и тут же холодом, будто лютой стужей пахнуло от сугробного старца. И поплыл в страхе туманьем, слыша вскруженной головой:
– Не унять те качание мира, токмо усугубишь. Ведай же: ангелы днесь навестили меня. Один мутный, другой ясный. Тёмен был ликом ясный. Мутный – светился. И понужал меня: «Поспешай почить в Бозе своем, старче, есть еще время малое душу спасти, пока не захлопнулись врата к Вышнему. Наше настаёт время!» И рассмеялся мутный. А ясный прикрыл лице свое крылом и заплакал: «Увы! Увы! Выпросил сатана у Господа светлую Русь за грехи ее мнози и скоро всю окровянит ю!»
Старец желтой косточкой искривленного пальца потянулся к Никону.
Патриарх попятился.
– Т-ты… кто?! – всхрапнув от ужаса, удавленно выкрикнул он. – Меня мнишь антихристом?!
Старец с пристальной грустинкой в глазах качнул головой.
– Не-е-ет, – как пропел он и устало завесил глаза бровями. – Ты токмо шиш антихристов, но волю его содеешь.
Никон обронил голову и, до ломоты в скулах сжав зубы, замычал, возя по груди пышной бородой. Золотой наперсный крест то уныривал в нее рыбкой, то выныривал, слепя старца синими брызгами дорогих каменьев, и старец голубой влажью ослезненных их высверками глаз скорбно глядел на патриарха.
Никон исподлобья пометал глазами и только теперь в затемненном углу кельи заметил монаха Савву, в страхе прильнувшего бледной щекой к холодной печи. Округлив рот и блукая бельмами, слепец слушал ожутивший его разговор. Патриарх куснул губу, она хрустнула, и теплая струйка осолонила губы. Он тылом ладони отер их, тупо уставился на испачканную руку, потом так же тупо на ведуна, шагнул было к двери, но остановился, будто кто осадил его, и низко поклонился старцу.
– Кто… ты… не ведаю, – чужим, рваным от сипоты голосом, прохрипел он, – но не статься по вредным словам твоим, скорее подохнет сатана!
– Он и не хворал еще, – шепнул старец и вновь опустил, приладил бороду на посошок. – Пожди до вечера – наешься печева.
Никон задом толкнул дверь и выпятился из кельи. Прикрыл дверь тихонечко, как прикрывают, когда в доме беда или покойник. Поджидавшему его Иоакиму мрачно кивнул.
– Подслухом стоял? – зашептал, приблизя лицо. – Молчи! Вижу – слышал. А Савву отсели куда подальше, знаю его – мала ворона, да рот широк.
– Ноньче и отправлю, – угодливо закланялся архимандрит. – Очми не видит, а ушми чуток. В Спасо-Каменный ушлю. Там келья гроб – и дверью хлоп. Вот каво мне со старцем деять?.. Да нешто поет? Старец?
Иоаким выструнился лучком, придвинул ухо к двери, но и так было слышно херувимски чистое: «Отверзу уста моя-я». Патриарх сдавил пятерней плечо архимандрита, нацелился в грудь пальцем.
– Тс-с! – пригрозил. – Закончит катавасию, узнай, откуда и куда бредёт. Да с лаской, с обиходом. От кого чают, того и величают. И сплавь скоро.
– Тако, тако, святитель, – отшепнулся Иоаким. – Сплавлю. Под пеплом жару не видать, а все опасно. Куда ушлю – сам забуду.
Никон кивнул и огрузлым шагом пошел из монастыря. Услужливые монахи встретили у выхода с суконными носилками, но он не сел в них, как всегда бывало, ткнул посохом в проём Фроловской башни – туда мне – и пошел, и растворился в чёрном створе ворот.
Они не запирались на ночь, лишь перегораживались рогатками. Возле них кучкой толпилась стража – стрельцы и наемные рейтары – балагурили, покуривая немецкие трубочки. Увидев внезапно явившегося патриарха одного и ночью, что удивило их и напугало, стрельцы разбежались по караульням, пряча в рукавах кафтанов сорящие искрами горячие трубки. Немцы-рейтары остались, вежливо кланяясь, развели рогатки. Никон никак не обратил на них внимания, двинулся по мосту через прокопанный вдоль кремлёвской стены ров, загаженный отбросами, с вялотекущей в нем Неглинной и ступил на «Пожар» – Красную площадь, всю заставленную торговыми рядами и лавками. В ночи они не были видны, но густым, настоявшимся запахом большого торжища выдавали себя. Жабря ноздрями, Никон вдыхал давне знакомый, терпкий дух и ему представлялось – стоит на берегу Волги, а плывущие мимо дощаники, сплотки и барки опахивают его вонько кислой кожей, смолью дегтя, копченой и солёной рыбой, даже дымом кострища, разложенного на сосновом, янтарном плоту.
Вроде и не было перед ним большого города, но он, невидимый, жил в ночи. Жил сторожкой тишиной, смутными шорохами. Справа по Васильевскому спуску притушёванно выглядывал Покровский собор в витых бессерменских чалмах, ниже едва угадывались Варварка и Китай-город. В кромешной тьме только аглицкое посольство являло себя желтоватыми заплатками узких окон, да кое-где тусклыми светлячками блудили по улкам фонари редких прохожих.
Патриарх пошел наискосок через площадь к Казанской, «что на торгу», церкви. Она мало-мальски была освещена, шла поздняя служба, и ему занетерпелось повидать протопопа и друга Ивана Неронова. Уж дней пяток не казал глаз. А тянуло к нему – неуступчивому в суждениях, часто вспыльчивому, но всегда рассудительному настоятелю.
Почти одногодки, они легко понимали друг друга, а встреча со старцем так и нудила истолковать его безумные речи. И не исповедоваться шел: патриаршья исповедь – перед Богом. Шел, влекомый нужой, что разговор с Нероновым, сочувствие или дельный совет снимет с души окаянное помрачение от недоброй встречи.
Никон не был робким человеком: долго и зло тёрла его многоборческая жизнь-служба. И теперь, пробираясь сквозь ряды и заслыша придавленный вопль: «Ре-е-жут!», никак не оторопнул. Редкие стукотки сторожевых колотушек теперь, после крика, сполошно зачастили, и звук их быстро покатился в сторону грабежа или убийства. Гомон скоро утих, увяз в густой тьме. Однако другое неуютство почувствовал спиной, остановился.
– Кто ты там, человече? – спросил твердо и строго.
– Никитка я, Зюзин сын, – отозвался молодой голос. – Твоего, государь, Патриаршего приказа подьячий.
Никон знал его, усердного переписчика с редким по красоте и четкости почерком.
– Не пятни, подь ко мне, – вглядываясь, приказал он. – Тя Иоаким сюда наладил?
– Сам я. От кума бреду, вижу – святейший патриарх в рядах ходит. Спугался я. Нешто так мочно, государь?
– Никак в темноте видишь? – подивился Никон, чувствуя благодарение к юноше.
– Дак все вижу, владыка святый! – с простоватой хвастецой подтвердил Зюзин. – С детства у меня этак-то. От Бога, бают.
– Ну, коли свет в очах, побудь вожем. – Патриарх взял его под руку, любезно тиснул. – В Казанскую побредём.
Зюзин вел уверенно, но и осторожно, радуясь нечаянной встрече с самим патриархом всея Руси. «Это знак свыше, – ликовал он. – Силы неизреченные так устрояют ему, захудалому сыну боярскому, очутиться рядом с ним в нужный час».
И, сдерживая благодарные рыдания, шел, выводя патриарха из египетской тьмы, представляя себя ветхозаветным Моисеем. И Никон в глуби сердечной радовался нечаянному поводырю, искал ласковых слов.
– Вскоре начнем устроять на Руси Иерусалим, – заговорил он и ощутил, как напрягся локоть молодца. – Новый! С таким же, точь-в-точию великим храмом. Сам на леса первые кирпичи на горбу понесу. И тебя возьму на такое богоугодное старание. В дальних годах, отроче, детям своим и внукам сказывать станешь, что с патриархом в самом начале Божьего делания стоял. С этой ночи служить тебе при мне, в Крестовой. Доволен ли?
– Святейший! – шепнул Зюзин, не сдержался, всхлипнул и ногами заплел. Никон крепко сдавил его локоть, чем привел в успокоение.
– По обету, Богу данному, станем каменного дела трудниками, – уже как бы сам ведя юношу, высказывал Никон о давно и тайно задуманном строительстве. Темь ли глухая действовала, или добросердный юноша, неук в жизненной хитровязи, приоткрыл дверцу в вечно настороженную, недоверчивую душу Никона, растопил ледок скрытности.
– Митрополитом будучи, много храмов построил, но такого храма Воскресения Господня на Руси еще нет. Но будет. Будет в нём и темница Христова, и Голгофа, а окрест сад Гефсиманский, река Иордан, озеро Геннисаретское. Ты реку Истру видал?
Оробевший Зюзин только встряхивал головой, слыша невообразимое.
– Вот Истра и есть наш Иордан. Там же быть Назарету, горе Фавору, месту Скудельничью. Новый Иерусалим! Сподобимся?.. И не отвечай. Сам всего наперед до конца не вижу… А вот и Казанская.
Он выпростал руку. Зюзин остался стоять с открытым ртом и, отставя локоть, будто подбоченился. До этого плотно устланное тучами небо проглянуло в частые прорехи перемигами звёзд и стало развидняться. Строгий, в полнеба, силуэт Казанской, как выкроенный, чернел над подошедшими. Линялой бабочкой попархивал в нём тусклый огонек, нехотя маня поздних гостей, да и он скоро пропал, но появился опять уже на паперти. Вышедший из церкви человек держал фонарь у груди, и стало видно – Неронов. Настоятель последним на краткий час перед заутреней покидал Казанскую.
Он не удивился приходу патриарха в столь поздний час, пообвык к ночным набродам друга. Крестно обмахнули друг друга широкими рукавами, обнялись. Зюзину было велено ждать во дворе, под звездами: ночь теплая, парная, пусть пообвыкает быть под рукой всечасно.
Пошли к дому настоятеля, темнеющему тут же в углу ограды. По крыльцу вошли в слабо освещенную лампадами переднюю. Несколько странников и просителей тихо, как мыши, сидели по лавкам. Узрев вошедших, все разом, как трава под косой, повалились на пол.
– Пождите, – повелел им Неронов.
Прошли в домашнюю моленную, поклонились образам, сели за грубый, без скатерти, скоблёный стол. Сидели лицом к лицу. Никон безмолвствовал долго, прикидывал, с чего начать разговор о старце. Из-за него и пришел к Неронову, однако сомневался сокрушенным сердцем – надо ли Ивана посвящать в такое. Припомнилась и пословица: «Знала б наседка, узнает и соседка». Уж больно личное придётся открыть протопопу, а оно илом со дна омута взбаламутилось речами старца. А и не осядет до ясной светлости, ежели промолчать, не слить с души муть досадную. Гнетет она, ох, как гнетет и травит. Ишь, чего сказанул калик перехожий – «шиш антихристов».
Вежливой тенью проплыл служка-монах, мягонько уставил на середину стола медный подсвечник с тремя желтыми свечами и так же, призраком, оттёк в низкую боковую дверь. И Никон заговорил не о том, с чем шел к Неронову.
– Ну, что там, Иване? – облокотясь и смяв бороду кулаками, начал он вяло. – Как справщики? Не ленятся? Пошто долго листов готовых не шлют? Сколь дён мы не виделись?
– Дён с пяток, – вздохнул Неронов. – Я одно в Андреевском монастыре толкусь, церкву забросил, не обессудь. А справщики?.. Скажу – ловки киевские братья-монаси. Федор Ртищев лихо ими заправляет. Или они им. А уж с каким веселием гораздым наши книги денно и ношно шиньгают и черкают! А давность ли Федор из посольства римского воротясь говаривал, что папа их не глава церкви, что и греки не источник веры, а если и были источником, то давно пересох он. Сами от жажды страждут. Чем же им мир православный напоять? Ну, не досадно ли тебе рвением их огречить церковь русскую? Каких перемен нам готовят? Я тебя, Никита, как друга давнего прошу – остуди их резвость огульную. Времена нынче шатки, поберегли бы шапки.
– Ты бы не шатался, Иван! Государи русские давно до нас с тобой подступались к делу сему. Мы завершим его, время приспело. – Никон поднял голову, потёр лоб. – Не надобна нам разноголосица с единоверными греками. От этого зло и шатание в миру православном. Не встревал бы с помехами, а помогал сверять да править с древних и верных книг. Эва сколь их Суханов привез! Правьте смело. Греха в том не вижу.
– А я вижу! – взвил голос Неронов. – Книги наши правят по служебникам польского печатания. Тож с немецких, а пуще по требнику пана Петра Могилы! Сухановские списки вовсе не сличают. А Федька Ртищев токмо губы поджимает, што красна девка. А уж до символов веры добрались. Ворчат над ними и рвут на части, яко псы! Ты пошто им дозволил так-то?.. Плевелы ереси по Руси сеют без боязни! Я в своре той сговор сатанинский чаю!
– Не взбраживай кипятком, Иване. – Никон ухватил руку протопопа, прижал к столешнице. Промельком дальней зарницы высветило в мозгу – уж не посетил ли загадочный старец и Неронова? Но мысль эта только промигнула и пропала. Заговорил, как оправдываясь:
– Ведь не плоше меня знаешь – поприжились издревле плевелы эти в наших служебниках. Вот их-то и изводят толково и опрятно. Я же слежу, листы чту со пристрастием. Кое-что возвращаю, но… Намедни в ризнице Иосифовой прибираясь, обрёл саккос патриарха греческого, святого Фотия. Чуешь – святого!.. Саккосу сотни лет, а на нем символ веры изображенный с нашим разнится. Вышито: «Его же царствию не будет конца». А мы у себя чтём: «Его же царствию несть конца». Ну, как не выправить?
– И не надо выправлять! – Неронов выдернул руку из-под ладони патриарха. – Ведь по их мудрованию – конец есть, но боятся его и успокаивают – «не будет». Пошто врут и двойничают? Мы-то знаем – царствию Божьему несть конца! Несть! Стало быть, нету!
– Не бурли, говорю! – прикрикнул патриарх. – Надоело с тобой по пустякам сущим рядиться. Ревёшь трубой иерихонской. Весь сыр-бор из-за одного слова.
– Убиенное в слове да оживет в духе! – не сдавался протопоп.
Нет, не налаживался разговор на нужное, да и Неронов, как никогда, расфыркался. Так и сказал ему:
– Уймись и не фыркай, урос.
– Не конь я, чтоб фыркать! – тут же взвился протопоп. – Речь имею человечью. Дивлюсь, не берешь в толк ее. А давно ли мы, други твои, в патриархи тя подвинули? Мнили – не дашь лихомани латинской корни пущать в земле отчей, а они роются в нашей поране червями гнусными. Такое в самозванщину было, да народ смёл нечисть. Радовались – всё! Пронесло заразу, ан нет! Ты ее самовластно возлюбил, назад ташшишь! Нешто с хвоста хомут напяливают, нешто землю вверх лемехами орают? Сам многожды говаривал, что де малороссы и греки давно сронили истинную веру и крепости нравов у них нет!
Корчили Никона слова протопопа. Было, говаривал много и всякого, да новое время по-новому метёт, не видит сам, что ли? А как хотел иметь в Иване близкого и сговорчивого помощника, а он эво как упёрт в самом малом. А ведь и начитан, и умён, и годами горазд, а все ж дурак. Нешто ослеп и не углядывает – сам государь милостив к справщикам, ездит к ним часто, поправления чтёт и не видит в них ереси. Отнюдь – подгоняет: скоренько, да скоренько. Чего уж, дядьку своего, Бориса Морозова, обязал всеучастно жаловать киевлян. А боярин строг. Где уж там корни еретические пущать: бдит неусыпно, сам греческий и латинский знает, не то что бестолочи упрямые, кои едва-едва по псалтире бредут, как в потемках, а туда же – латинским да греческим брегуют… Эва как распылался! Вроде степным палом несёт его.
Неронова и впрямь «несло»:
– Отчего Голосов, добрый отрок, не восхотел пойла латинского хлебать и бресть в поводу на убой душевный? Уразумел, что вытворяют над отчими служебниками, ужаснулся и сбёг, чтоб с пути истинного не сверзили.
– Ну и ну-у! – усмехнулся Никон. – Не выучась и лаптя не сковыряешь. А сей отрок твой – лентяй. Его учили читать да писать, а ему, оболтусу, токмо бы петь и плясать. И не убег он, а в потылицу турнули.
– Оно бы так, да не так, – упрямился Неронов. – Ведь и другие ученики бунтуют и брегуют, а их носом в книги чужемысленные тычут – жуй негожее, а природный язык не чти! И еще скажу о старшем справщике Епифании Славинецком, о его шептаниях и чудачествах о имени Господа нашего Исуса Христа. Рыгает гнусное, мол, надобе писать Иисус, что де в первой букве есть имя Отца Его Иосифа-плотника, а далее уж имя самого Господа. Ну не вред ли и соблазн сатанинский? Отца Небесного земным подменять? От таких новин в людях шатание и злоба. Поопаслись бы. Народ, он терпит, терпит, а как по слюнке плюнет – уж и море.
– Уймись! – отмахнулся Никон. – Страшно с тобой. Как вепрь, озлился. Вона и щетину на загривке гребнем вздыбил. Не признаю тебя, а любил.
– И ты мне очужел, – глухо, нехотя признался Неронов. – Вот полаяли, насорили воз, а с чем пожаловал ко мне впоздне, я не утолок в голове своей дурной.
– Утолчешь. Всему свой срок.
Никон встал, навалился на посох, подперся им. Смотрел на протопопа, сжав зубы, с неприязнью, колко.
– По слюнке? – переспросил. – А уж и море?.. – И, не ожидая ответа, пригрозил: – Не баламуть людишек, протопоп, знай место. И к справщикам отныне – ни ногой. Сам усмотрю, или донесут, что хаживаешь – жди гнева царского. И моего, великого государя-патриарха, осуда крепкого. Аль запамятовал, как за гордыню твою и мысль высокую ссылали тя в Карельский монастырь? Ныне и пуще обестолковел, прешь супротив рожна.
Не благословил и руки не подал. Устало, осадисто протопал к двери, толкнул ее посохом. Дверь медленно отошла, и патриарх вышел в приёмную. Пусто было в ней: слышный ли отсюда громкий ор протопопа спугнул просителей, или усердный Зюзин выпер их на волю. Вот он стоит у выхода на крыльцо, пламенея в свете двух напольных поставцев лохматой своей головой.
«Рыжий да красный – человек опасный», – вспомнилось Никону, однако, проходя мимо, дружелюбно похлопал молодца по плечу.
Было утро, было почти светло. Туманная предрассветная издымь робко таилась кое-где в закоулках, но с востока алой горбиной выпирала сочная заря, предвещая благолепный день. Могучая взлобина Боровицкого холма, будто красным кушаком, обмотнулась кремлевской стеной. Из-за неё и там и тут бледно намалеванными ликами с фресок выглядывали купола и маковки многих церквей. Одна Ивановская колокольня выметнулась над ними. Чудилось – привстал на носки Иван Великий и, первым обмакнув в полымь солнечную державную главу свою, хвастливо сверкал-обсеивал Кремль и Москву златопыльным дождем.
На площади в рядах и лавках начинали копошиться купцы. Избыв ночную сторожкость, лениво и сонно перебрехивались псы. И вот, как спросонья, как бы зевая с протягом, восстонали колокольни. Патриарх различал их голоса, особенно любого ему «Ревуна, великопостного голодаря».
Он остановился и, жмурясь на солнечный сноп Ивана Великого, осенил себя троекратным знамением.
– Вот и заутрени пора, – обласканный добрым утром, звоном малиновым, унесшим ночное раздражение и страх, облегченно вздохнул он.
Пав на колени, Зюзин торопко и прилежно крестился, обронивая до земли яркую голову.
«Ишь какой, впрямь святоша, – улыбнулся Никон. – Токмо во святых рыжих нет, не припомню рыжих».
– Какого прихода ты, отрок? – ласково вопросил он. – Меня далее не провожай. Один пойду.
И пошел, оставя посреди Пожара озадаченного, но радостного вниманием патриарха Зюзина. И в спину владыке подьячий запоздало, шепотом прошелестел:
– Зачатьевского прихода я. У Анны, что на краю.
Чуткий на ухо патриарх расслышал, отмахнул посохом в сторону Китай-города.
– Так поспешай к заутрени! – приказал. – Нынче же позову.
Службу Никон отстоял как простой прихожанин в ближнем Чудовом монастыре у Фроловской башни. Ничего необычного в этом не было. Часто посещал церкви по всей Москве, иногда сам отслуживал обедни. Но в нынешнее утро стоял службу в Чудовом по другой причине: надобно стало повидать Иоакима. Однако архимандрита на заутрене не усмотрел. Отстоял службу до конца и поспешил к себе в патриаршие палаты.
Едва ступил в сени – навстречу Иоаким: сухокостное лицо со впадинами худобы на щеках вовсе заострилось топориком, бороду скосило набок, и, видно было, отняло язык. Он еле шоркал сапогами навстречь патриарху, пустоглазо уставясь на него, и рыбиной, выброшенной на песок, хлопал белогубым ртом. Никон, дивясь, бурил его встревоженным взглядом. Видя, как Иоаким, все более горбясь, наваливается на посох, виснет на нём то ли от страха под взором патриарха, то ли от непомерной устали и вот-вот свалится на пол черным вытряхнутым кулём, Никон подал ему руку.
Иоаким сцапал ее двумя ладонями, посох из-под него скользнул в сторону, брякнул об дубовые кирпичи настила сеней и заскользил по ним, качая отполированными рогами. Прильнув ртом к длани патриарха и отчаянно обжав ее своими холодными, как жабьи, руками архимандрит устоял. Скорченного его, подпихивая посохом и подпирая животом, Никон подтолкал к скамье, усадил и сел рядом.
Ныли ноги от стояния на заутрени, гудела голова, умаянная за ночь всякой всячиной. Посох архимандрита лежал у скамьи брошенной, ненужной палкой. Никон подтянул его ногой в красносафьяновом сапоге с высоким каблуком, натужно нагнулся, поднял, сунул Иоакиму. Архимандрит прижал двурогий посох к груди и, обретши его, поборол немоту и немочь.
– Пропал старец-то, – шепнул, поднимая на патриарха безумные, в синюшных впадинах глаза. – Пропал, как вылетел. Али ишшо как.
– Как «ещё как»? – Никон нагнул к нему ухо. – Истаял, или каво там?
Иоаким безмолвствовал. Патриарх с вывертом, как гусь, ущипнул его за бок.
– Ни лужицы! – ойкнув, выкрикнул архимандрит. – Я в келью к нему прибрел, думал в дорогу наладить, да едва дверку приотворил – хладом мя обдало, яко ветр над головой шумнул.
– Ну, обдало! – тормошил Никон. – Выдуло старца, ли чо ли?.. Да окстись ты, в себя вернись!
– Кстюсь, кстюсь! – Бледные пальцы Иоакима оплясывали грудь. – Не обрёлся старец в келье. Токмо Савва нежитью на скамье торчком сидит, яко до колен дровяной, одно лаптями шаволит и тако вякает: «Быти мору великому после гроз сухих». И глядит в меня бельмами, а в бельмах зрачки, как паучки, лохматятся. Отродясь у него их не видывал!
– Из ума вытряхнулся, или…
– Или, или, владыка, – вновь до шепота опал голосом архимандрит. – Весь он другой какой-то. Сменился.
Опустив веки, Никон думал о чем-то. Привалясь к его плечу вскруженной невидалью головой дышал, выстанывая, Иоаким.
– Говоришь, сменился? – приоткрыв один глаз, переспросил патриарх. – Это ништо-о. Вошь и та шкурку сменяет.
Встал, помог подняться архимандриту, свел его с крыльца.
– Ступай, Савву увози, – приказал.
И долго смотрел вслед Иоакиму, как тот, ссутулясь, с посохом под мышкой, черной мышью семенил через безлюдную еще Соборную площадь.
Проводил архимандрита, взошел по высокому крыльцу в сени Крестовой палаты, выстроенной еще патриархом Иосифом, постоял пред написанным на стене ликом Спаса «Недреманное око». Муть и смута душевная от встречи со старцем и долгим спором с Нероновым так и не покидали Никона. Тянуло прилечь, да знал – ни на волос не склеит сон очи: столько тревог надвинулось, не до сна стало. Вот и теперь, глядя в широкие вопрошающие глаза Спаса и мысленно обращаясь к нему с извечной просьбой: Христе Боже наш, помилуй мя, грешного, – он в то же время просчитывал в уме суетное: выкопаны ли рвы и сколько вбито свай, довольно ли привезено кирпичей на пустующее цареборисовское дворище, подаренное ему царем для большего простора и устроения на нем Патриаршего ведомства. А вбито пока пятьсот свай, да завезено сто сорок одна тысяча кирпичей, да тысяча бочек извести с тремя тысячами коробов песку. Мало сего.



