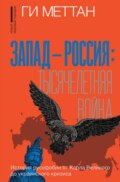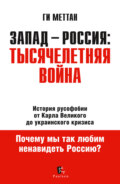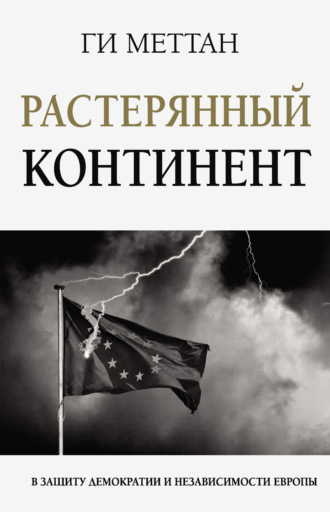
Ги Меттан
Растерянный континент. В защиту демократии и независимости Европы
Наполеон: вторая провалившаяся попытка насильственно объединить Европу
В конце XVIII века Великая французская революция потеснила старые монархии, которым пришлось урезать свои амбиции, и проложила путь новым экспериментам. Очередной проект объединения континента взял на себя Наполеон. Целью французского императора было возрождение империи ради собственной выгоды. И для достижения этой цели он воспользовался мощью «мягкой силы» Французской революции. Опираясь на многообещающие идеи революции, он стал проповедовать принцип гражданственности в противовес подчинению монархам и распространять новый Гражданский кодекс по всей Европе.
Идеи, рожденные Французской революцией, – свобода, равенство, братство – распространялись по Европе в темпе побед французских войск, совсем как сегодня демократия и права человека следуют повсюду за американскими армейскими «Хаммерами». С этой точки зрения Наполеон преуспел, по крайней мере поначалу, в том, что дал Европе глотнуть свежего воздуха, – до такой степени, что 13 октября 1806 года Гегель, решив, что под его окнами в городе Йена проехал сам император, воскликнул: «Я видел императора – великую душу вселенной, когда он направлялся из города на разведку. Поистине потрясающее ощущение: видеть, как такой человек прямо здесь, верхом на лошади, правит судьбами мира»[14].
Но вскоре Гегель был разочарован, и вся Европа вместе с ним. Проект Наполеона больше смахивал на тиранию, чем на освобождение угнетенных. Оказавшись не в состоянии убедить англичан и русских ни словом, ни силой, его недолгое правление закончилось поражением.
Какой бы краткой ни была революционная, а затем наполеоновская эпопея, она оставила Европе ощутимое и очень неоднозначное наследие. С одной стороны, она посеяла семена свободы, равенства и братства среди многих европейских наций. Суверенитет, прежде воплощаемый монархами по божественному праву, она перенесла на уровень народа. Наполеон выстроил и направил революционные принципы в собственных интересах, но провел это через свои знаменитые кодексы: Гражданский, Торговый и Уголовный. Таким образом, экономическое право и правоохранительная система в целом были полностью модернизированы. Но в то же время и революция, и наполеоновская империя посеяли в Европе семена национализма.
Вслед за вихрем революции и наполеоновскими походами пришел Священный Союз. Он не был проектом по объединению континента, поскольку ставил своей целью не построение единой вертикали власти, а скорее разделение управления территорией таким образом, чтобы каждый участник Союза сам распоряжался своим развитием, не опасаясь народных протестов. Эта попытка управления посредством консультаций оказалась довольно успешной, так как обеспечила почти столетие относительного мира на континенте. Благодаря этому механизму, а также «европейскому концерту», сложившемуся после 1848 года, европейские государства избегали уничтожения друг друга и разрешали свои конфликты путем переговоров на высшем уровне или, когда это было невозможно, ведя локальные войны (Крымская война 1853–1856 гг., итальянские войны за независимость, австро-прусская война 1866 г., франко-прусская война 1870 г.).
Следует отметить, что это была первая попытка европейского правления, созданного на консервативной, если не сказать реакционной, основе, и она показала, что консервативные силы тоже способны иметь свое видение будущего Европы. Так что построение Европы не является прерогативой лишь так называемых прогрессивных сил…
Гитлер и Сталин: объединение ценой крови и слёз
Так же как в случае Наполеона, две последние попытки, предшествовавшие образованию Евросоюза, возникли при особых обстоятельствах. Обе осуществлялись силой оружия и посредством диктаторских режимов, олицетворяемых Гитлером и Сталиным. Примечательно, что оба режима, при всех их различиях, были современными гибридами древнегреческих тираний: подобно им, нацизм и коммунизм были основаны на мобилизации народных масс.
При наших либерально-демократических режимах считается неприличным упоминать имена этих двух деятелей. Тем не менее с точки зрения историографии надо признать, что оба выдвигали последовательные и масштабные общеевропейские проекты.
Гитлер впервые упомянул «Новый порядок Европы» (Neuordnung Europas) еще в 1938 году на встрече с Муссолини, а затем в 1940 г. на встрече с Петеном. Официально он объявил о нем в 1941 году в своем выступлении во Дворце спорта в Берлине: «Я уверен, что 1941-й станет историческим годом великого нового порядка Европы»[15]. Как следовало из нацистской пропаганды, речь шла о создании новой экономически объединенной Европы наподобие Великой восточноазиатской сферы взаимного процветания, возглавляемой правительством императорской Японии; в этот блок вошла бы вся Европа, за исключением евреев и советских «юдо-большевиков». Истинной целью было объединение континента во главе с Германией. Этот крайне рестриктивный замысел тем не менее нашел поддержку среди многих французских интеллектуалов и пацифистов, таких, как Дрие Ла Рошель, который в период между войнами поддерживал идею Соединенных Штатов Европы и сотрудничал с нацистской Германией после оккупации Франции в июне 1940 года.
Таким образом, до поворотного момента в ходе войны в 1943 году размышления и предложения об объединенной Европе появлялись одно за другим под зазывными заголовками, которые могли бы принадлежать перу нынешних сторонников объединения: «Настало время объединиться» (Морис Ламбиллотт, 1940 г.), «Рационализация континентальной экономики» (Жорж Лафон, 1941 г.), «Экономический порядок новой Европы» (Вальтер Функ, 1941 г.), «Конец препятствиям на пути к Европейскому союзу» (Луи Ле Фур, 1941 г.), «Доклад об общеевропейском методе» (Анри де Ман, 1942 г.), «Интеграция Восточной Европы» (Антон Зишка, 1942 г.), «Великое пространство и новый порядок в мировой экономике» (Фердинанд Фрид, 1942 г.), «Завтрашний день европейской Конституции» (издание «Франкфуртер Цайтунг», 1942 г.). Все эти публикации подчеркивали значение, которое нацисты придавали своему проекту по новому европейскому порядку и который пропагандировали в мощных наглядных кампаниях и в многочисленных публичных и радиодебатах.
Как отметил Бернар Брюнето, проект Гитлера, несмотря на всю его жестокость, принудительные реквизиции и работы (Service du travail obligatoire, STO – англ.: Служба обязательного труда), был далек от того, чтобы «сводиться к вопросу оппортунизма или чисто фашистской ангажированности. Его замысел поддерживали искренние сторонники объединения Европы, которые верили, что продолжают политическую борьбу, которую многие из них начали в 20-е годы.
Это были пацифисты, мечтавшие покончить с государственным суверенитетом; технические специалисты, верившие в преимущества экономического правительства; социалисты в поисках последней созидательной утопии. Все они были жертвами иллюзии, заставившей их поверить в преданность Гитлера интересам Европы и не замечать окружавших их чудовищных преступлений его нового порядка. […] Интеллектуалы-европеисты режима Виши продолжали размышлять, как во времена Бриана, над условиями создания политической и экономической федерации. Их терминология порой ставила в тупик: “община общин”, “надконтинентальный орган управления”, “единая федеральная валюта”»[16]. А может быть, планы на будущее Европы, зарождавшиеся во время оккупации, были всего лишь тревожной предысторией к нашей сегодняшней демократической европейской действительности?
Интеллектуалы и энтузиасты-корпоративисты, близкие к Виши, которых стали цитировать после войны, как, например, Андре Зигфрида («Глубокое единство «западной цивилизации»»[17]) и особенно экономиста Франсуа Перру («Федеральная власть и единая валюта»[18]), многие из которых посещали Школу подготовки кадров в Урьяже, сблизились с Жаном Монне и стали вдохновителями не только послевоенной мысли, но и самой концепции Европейского проекта. Об этом пишут в своих работах Бернар Брюнето и Антонин Коэн[19].
Они подчеркивают, что рождение европейской общности из Сопротивления было далеко от официальной исторической версии. Напротив, оно обязано идеологам корпоративизма, которые восхищались итальянским и немецким корпоративизмом периода до 1940 г. и таким образом оказали влияние на строительство Европы. Отмечается, что идея о том, чтобы рыночной экономикой управлял некий наднациональный орган без контроля со стороны парламента, как это было предложено Жаном Монне и Робером Шуманом 9 мая 1950 года, вытекает из третьего варианта концепции экономики и политики, а это и не капитализм, и не социализм. Поэтому учредительный акт европейского строительства выступает в ином свете и выглядит уже не как начальная стадия, а как завершающая. Здесь, кстати, следует отметить, что две крупнейшие работы Франсуа Перру, которые оказались удалены из его официальной библиографии, были опубликованы в 1938 году под заглавием «Капитализм и рабочая коммуна» (Capitalisme et communauté de travail) и в 1942 году под заглавием «Сообщество» (Communauté). Термин закрепился и даже официальным названием объединенной Европы вплоть до Маастрихтского договора.
Следует соблюдать осторожность и не путать вишистский режим с нацистским, а Урьяж с Виши, поскольку Школа была закрыта по приказу Лаваля 1 января 1943 года, и некоторые из ее слушателей сделали правильный выбор и присоединились к Сопротивлению. Так или иначе, в течение первых лет оккупации многие из будущих основателей Европейского сообщества симпатизировали Национальной революции, эмблемой которой был Петен, и корпоративизму, который воспринимался не только как экономическая, но и политическая, и антипарламентская доктрина. Разве Робер Шуман, «отец-основатель Европы», вместе с Жаном Монне не голосовал за полные полномочия маршала Петена 10 июля 1940 года и не принял пост замминистра в его первом правительстве? Все они опасались социализма и коммунизма, что привело их к мысли о сильном государстве, которое было бы ответственно за возрождение общества и разрешало бы споры между противоборствующими классами, что является главным отличием демократического режима.
Христианские убеждения, находившиеся под сильным влиянием Эммануэля Мунье и его персонализма, также объясняют, почему после войны упомянутые деятели принадлежали к широким рядам христиан-демократов, тех самых, что проложили дорогу Европейскому экономическому сообществу, вдохновленные либерализмом 1950-х годов, и не видели никакой иной формулы для Европы. Начиная с Конрада Аденауэра и Вальтера Хальштейна, дипломата и первого председателя Еврокомиссии с 1958 по 1967 гг., и до Жака Делора (не забывая при этом итальянца Де Гаспери, бельгийца Поля-Анри Спаака или французов Робера Шумана и Жана Монне) большинство лиц, подписавших первые европейские договоры, в тот или иной момент своей жизни были сторонниками третьего, корпоративистского варианта развития континента – где-то между социализмом и капитализмом, фашизмом и парламентаризмом, – прежде чем встали под христианско-демократические знамена.
Коммунизм: равенство любой ценой
Что касается коммунизма, то он действовал снизу, с низших классов. Его задача состояла в завоевании мира через создание «нового человека», а не нового порядка в Европе, который проповедовали высшие классы и расовая и культурная элиты, уверенные в своем превосходстве. С самого начала основоположники коммунизма Маркс и Энгельс вознесли свои амбиции и мечты на глобальный, планетарный уровень. Как континент с самым высокоразвитым капиталистическим обществом, Европа должна была послужить проводником идей пролетарской революции. Однако вопреки теории Маркса революция произошла не в странах с самой стабильной экономикой и с самыми значительными социальными противоречиями – Германии, Великобритании или даже Франции, а в отстающей от них в этом России.
Вопреки всему, наперекор марксистам или капиталистам, коммунизм пустил корни именно здесь. Несмотря на жесточайшую гражданскую войну, подпитывавшуюся силами извне (от Франции и Великобритании до США), которые отправляли свои контингенты для борьбы с большевистским режимом, Россия все еще была полуфеодальной страной. После победы над интервенцией и по завершении Гражданской войны, в 1921 году остро встал вопрос о восстановлении разрушенной экономики, и вскоре разгорелись дебаты между сторонниками идеи мировой революции во главе с Троцким и единомышленниками Сталина, убежденными в том, что революцию нужно укрепить и развить изнутри, прежде чем экспортировать ее urbi et orbi. К тому же рассчитывать на гипотетический крах капитализма в Европе или США не приходилось.
После провала восстания спартакистов в Берлине и Белы Куна в Венгрии в Советской республике поняли, что мировая революция произойдет еще нескоро и что для страны безопасней рассчитывать на собственные силы и строить социализм «в отдельно взятой стране». Однако большевики никогда полностью не отказывались от пролетарского интернационализма: Коминформ и Коминтерн оставались главными составляющими их мировой политики.
Известно, чем закончилась история о европейском коммунизме со всеми его союзами и контрсоюзами, его Интернационалами и братоубийственными сражениями. Что бы мы ни думали о коммунизме, факт остается фактом: он прочно держал позиции на протяжении почти семидесяти лет в России, пятидесяти лет в Восточной Европе, а в Китае – будущем мировом лидере – продолжает работать по сей день. Поэтому с этой точки зрения сталинская Европа, по крайней мере ее восточная часть, продержалась столько же, сколько и территории, захваченные Карлом Великим, Наполеоном и Гитлером, вместе взятые. И об этом не стоит забывать, даже если это противоречит традиционной логике, принятой в сегодняшней Европе, сформированной капитализмом и либеральной демократией, которые стараются во что бы то ни стало положить конец коммунизму. Кстати, следует заметить, что Сталин никогда не «завоевывал» Восточную Европу или страны Балтии путем военной агрессии. Он занял три прибалтийские республики – бывшие царские территории – по Договору о ненападении между Германией и Советским Союзом от 1939 года. Кроме того, Мюнхенское соглашение 1938 года поставили Сталина перед дилеммой, когда Франция и Великобритания отказались договариваться с ним. Именно с этих позиций он напал на Финляндию, союзницу нацистской Германии, когда ее пушки стали угрожать Ленинграду.
Подписавшие Мюнхенское соглашение стороны даже не пытались скрывать то, что сегодняшняя европейская историография предпочитает игнорировать: Мюнхенское соглашение заключало в себе гораздо больше, чем просто передачу Гитлеру Судетской области. Оно было рассчитано на то, чтобы склонить Гитлера первым напасть на Советскую Россию и отвлечь его внимание от Франции и Великобритании, что Гитлер и намеревался сделать сразу после Мюнхена. Но пакт Молотова – Риббентропа в 1939 году вынудил его передумать в последнюю минуту и повременить с нападением на Советский Союз. Как для Востока, так и для Запада было жизненно важно избежать принятия на себя первого удара Германии. Ход войны показал, что эти опасения были не напрасны.
Что касается советского контроля над Восточной Европой, то он стал прямым следствием поражения Германии после вторжения ее в СССР в июне 1941 года и на конференциях стран-победителей: Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской. Советская сторона всегда неукоснительно соблюдала условия подписанных договоров, даже после того, как Запад развязал холодную войну. Лучшим доказательством того стал тот факт, что Сталин никак не отреагировал на гражданскую войну в Греции. Она была раздута англичанами и американцами: они отказались соглашаться с тем, что освобожденной Грецией будут править члены коммунистического Сопротивления, которые, как и югославские партизаны, самостоятельно сокрушили нацистов и потому были совершенно легитимны. Потерпев поражение в 1949 году, бойцы коммунистического сопротивления были депортированы в лагеря, которые по жестокости могли поспорить с нацистскими лагерями. Таким образом, на протяжении почти пяти десятилетий у Восточной Европы и России был общий рынок, а также общий идеологический и военный блок, которые были совершенно симметричны их западным вариантам: Варшавский договор против НАТО, СЭВ против ЕЭС, коммунизм против капитализма, коллективная собственность против частной. Не так важно, что впоследствии восточный блок распался под давлением западной модели, ведь точно так же потерпели неудачу Карл Великий, Фридрих Барбаросса, Карл V, Наполеон и Гитлер. Исторический эксперимент продолжительностью в семьдесят лет нельзя сбрасывать со счетов, несмотря на все его сложности.
Ненависть, которую усилия по созданию объединенной коммунистической Европы вызвали в национал-консервативных элитах Восточной Европы, находящихся сегодня у власти, и в либерально-демократических кругах Запада, – не повод для уклонения от ключевого вопроса: почему этой системе удалось продержаться в Европе так долго и почему она пришлась по душе такой огромной массе людей как на Востоке, так и на Западе, пока не распалась при Михаиле Горбачеве? Что бы теперь ни думали, этот эксперимент оставил глубокий след, свои нравы, обычаи, свою ностальгию, и все они когда-нибудь еще вернутся. Как и в случае с Австро-Венгерской империей, хоть и в другом формате, исход коммунизма из Восточной Европы в то время был облегчением для новых независимых государств и либеральной элиты Западной Европы. И все же больше чем четверть века спустя все еще ощущается некое чувство пустоты, сожаления, утраты.
Политика и квантовая механика подчиняются одним и тем же законам: материя прочнее антиматерии. Но Вселенная становится осиротевшей из-за того, что утратила, из-за того, что уже не видно человеческому глазу. Без этой утраченной части она была бы другой. И Вселенная хранит ее следы в своих глубинах и в законах, которые ею управляют. И эта «темная материя» продолжает оказывать влияние на человечество.
Несостоятельность тактики «железной руки»
Какие уроки можно извлечь из этой череды нереализованных попыток, неудач и частичных успехов? Историки утверждают, что империя Каролингов развалилась вследствие династических раздоров. Точно так же Карл V, которому постоянно не хватало денег, несмотря на американское золото, проиграл свою битву за Европу, потому что в решающий момент у него не хватило средств, чтобы заплатить своим войскам. Еще говорят, что, если бы маршал Груши прибыл вовремя, Наполеон победил бы в битве при Ватерлоо. Во всех этих аргументах есть доля истины. Но их нужно воспринимать лишь как отрывочные суждения, которые не представляют всей полноты картины. Отдельные конкретные причины того или иного события, словно глаза насекомых: они дают частичные, разрозненные и даже полезные сведения, но закрывают общий обзор. Так что все нужно рассматривать на более высоком уровне.
Урок номер один: наихудший способ объединить Европу – с помощью силы. Безжалостные захватчики вроде Наполеона или Гитлера не смогли продержаться более пятнадцати лет, хотя у них за спиной стояли мощные армии и идеология. Они противопоставили себя европейским народам в целом: Наполеон пытался насадить идеалы Просвещения при помощи штыков, Гитлер проповедовал свою теорию превосходства арийской расы над «недочеловеками» посредством газовых камер. Это доказывает, что такие неумолимые, но более прозорливые завоеватели, как Карл Великий и Сталин, действовали эффективнее и потому удерживали власть дольше. От Пипина Короткого до Верденского договора 843 года империя Каролингов господствовала в Европе на протяжении почти целого века благодаря продуманной политике приобретений, консолидации и альянсов, особенно с Ватиканом. При советском режиме массовые чистки привели ко многим жертвам среди тщательно отобранных и верных стране и партии «классовых элементов». Как Каролинги, так и коммунисты параллельно разработали новый и эффективный метод управления: первые – опираясь на Церковь, священнослужителей, монахов и аббатов; вторые, наоборот, – борясь с Церковью и создавая новое поколение гражданских руководителей-атеистов.
И те, и другие придавали большое значение образованию, грамотности, культуре и пропаганде. Каролинги распространяли письменное слово при помощи «каролинского минускула», создавали школы, всячески поддерживали католическую теологию и литургию, которые противостояли доминирующей ортодоксальной греко-восточной культуре того времени. Объекты их искусства и культуры отличались особой яркостью: среди них манускрипты с раскрашенными иллюстрациями, мозаики, изделия из золота. Они упорядочили свою бухгалтерию и валюту.
На ранней стадии советский режим делал то же самое. Он принес грамотность в необразованные массы, поддерживал развитие кинематографа, музыки и живописи. Насаждал новую «теологию» истории развития человечества – исторический материализм, – которая нашла отклик у миллионов эксплуатируемых при царском режиме пролетариев и безземельных крестьян.
Наконец и большевики, и Каролинги провели экономические и социальные реформы, которые повысили благосостояние многих слоев населения. Империя Каролингов восстановила торговлю между Северной и Южной Европой через альпийские перевалы, формируя некий общий рынок между народами, которые никогда прежде не имели экономических отношений. Со своей стороны большевики меньше чем за два поколения подняли Россию с уровня средневековья, провели индустриализацию и электрификацию. Они даже сумели опередить своих американских соперников в освоении космоса.
Подобные достижения объясняют, почему этим системам удалось просуществовать относительно долго: они не воспринимались как однозначно отрицательные. Они развалились под давлением внутренних и симметрично противоположных факторов. В случае империи Каролингов внешняя угроза сыграла второстепенную роль и стала скорее следствием, а не причиной ее распада. Давление со стороны «варваров» существовало всегда, но им никогда не удавалось разрушить империю, которая была чрезвычайно стабильной и единой, иными словами, хорошо управляемой. Арабские захватчики из Андалусии не смогли победить Карла Мартелла в 732 году, а их преемники затаились.
Следовательно, причина распада империи была внутренней и, выражаясь современным языком, сводилась она к следующему: империя Каролингов страдала от серьезных и пагубных ошибок в руководстве. Наследование трона всегда было слабым звеном монархических систем, которые каждый раз начинали пробуксовывать, когда дело доходило до введения четких и приемлемых для всех правил. Кризис легитимности – вечная угроза.
Братоубийственные войны и распри, обусловленные неэффективным управлением, ослабили и в конечном итоге одолели империю, что не удалось ни норманнам, ни сарацинам. Напротив, сильные государственные структуры, будь то монархические или демократические, обычно переживают посредственных правителей (конечно, если период посредственности не продолжается слишком долго…).
Что касается развала Советского Союза, то его причиной были не институциональные проблемы, наоборот, система государственного управления в СССР была гипертрофирована. Падение коммунистического режима было вызвано неумением обеспечить материальное благосостояние и достойный уровень жизни граждан, хотя именно эти условия были предусмотрены марксистской доктриной. Растущая пропасть между государственной идеологией и реальностью начиная с 60-х годов дискредитировала режим в глазах народа куда больше, чем сталинские репрессии и депортации, лишения и голод в период индустриализации, война с нацистской Германией, унесшая 26 миллионов жизней или диссидентский «самиздат» семидесятых.