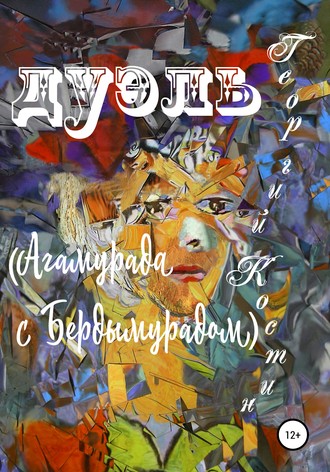
Георгий Костин
Дуэль Агамурада с Бердымурадом
Часть первая
Детство, перешедшее в юность
1
Как-то быстро и незаметно наступила осень. Солнце пожелтело, сделалось мягким и нежным. Небо очистилось от въедливой белой пыли, поголубело, стало красивым и радостным. Воздух остыл до упоительной прохлады, приобрел плотский пьянящий вкус, пропитавшись изыском стойких озерных запахов.
С протяжной сладко-тягучей истомой закричали щурки, кружащиеся в поднебесье. Медленно, чуть колышась, словно прозрачная медуза в морской воде, проскользнула рядом в сочном воздухе длинная белая паутинка. Опять резко на короткий миг наступила милая, шуршащая сама по себе тишина. Сердце сладко заныло. Внутри груди и живота разлилась томительная нега, а загорелые до черноты плечи густо покрылись до локтей тугими мурашками, будто им стало зябко. Сережа непроизвольно широко улыбнулся, и будь он сейчас ребенком, непременно засмеялся бы беспричинным звонким счастливым смехом.
Больше других времен года Сережа обожал осень. Ему казалось, будто осенью время останавливается. И почему-то до невыразимой печали было жалко этого останавливающегося времени. Но вместе тем было неописуемо сладко переживать его в своем нежно щемящем сердце. Время для него всегда было чем-то большим, живым и текущим. Он всегда ощущал себя как бы внутри его. Оно имело для него осязаемые, хотя и едва уловимые плоть, цвет и запах. Причудливо переплетаясь между собой в завораживающих узорах, плоть, цвет и запах времени постоянно менялись в зависимости от того, какое солнце было на небе. Летнее или зимнее; дневное, или его не было вообще, а земля была густо и многозначительно окутала бархатистым матово-белым, отраженным луною светом…
Течение времени Сережа воспринимал, как течение самой Жизни. Он чувствовал себя во времени, будто находился в утробе матери. И мгновения несказанного счастья, каковые когда-либо переживал, были связаны у него с ощущением времени. В такие мгновения хрупкие фибры его души вдруг доверчиво распахивались и становились крохотными парусами, в к. И тогда его внутренняя жизнь текла вровень с внешней жизнью. А его внутреннее время растворялось во внешнем времени. Ощущение самого себя в нем притуплялось, но зато возрастало несказанно, становясь острее и явственнее, ощущение внешнего мира. И тогда его жизнь как бы перетекала вся в жизнь внешнюю, и сама становилась внешней жизнью. А он, Сережа, начинал чувствовать то, что в обычном состоянии чувствовать никак не мог. Все вокруг него каким-то сказочным образом оживало. Каждая случайная валяющаяся на дороге сухая веточка или запыленный камешек гладкой гальки – приобретали таинственную многозначительность и глубинный жизненный смысл. А растения: кусты и деревья, даже высохшие травы – радостно узнавали его, пришедшего к ним в гости, приветливо улыбались ему и как-то завораживающе сладко нежно заговаривали с ним на своем милом бессловесном неторопливом языке…
Особенно завораживающе сладко переживать подобное было в детском возрасте. Вспоминая о детстве, Сережа понимал, что жил тогда в милой яркой и жизнерадостной сказке. Где все друг друга любят и относятся друг к другу с радостью: и люди, и домашние вещи, и деревья, и камни, и даже пылинки с букашками-таракашками. Когда каждую вещь как по мановению волшебной палочки можно было превращать во что угодно. К примеру, длинный ивовый прут – в норовистого коня, чтобы умчаться на нем, фыркающем и нетерпеливо бьющим копытом землю, куда угодно. Когда можно было любую штуковину реального мира втянуть в свою детскую игру и играть с ней до упоительного самозабвения.
Но все же самые яркие, самые сладкие до опьянения детские переживания Сережи было связаны с отцом. Сереже было лет пять. Он по обыкновению играл, возясь на полу, около вечернего обеденного стола, над которым тускло горела электрическая лампочка, чуть выглядывающая из-под матового квадратного стеклянного плафона. Он томительно ожидал, когда отец закончит обстоятельный и по обыкновению молчаливый ужин. И наступит, наконец, тот вожделенный миг, когда отец, оглушающее громыхая тяжелым табуретом, медленно поднимется из-за стола, и вдруг как бы ненароком сделает лицо заговорщика, и невообразимо долго застынет в неподвижности, излучая таинственную многозначительность. Так повторялось из вечера в вечер, и Сережа загодя знал, что сейчас за всем этим последует. У него от нетерпения порою даже вспыхивала судорога под ложечкой. Но это его нетерпение было тоже сладостной мукой, что откажись отец мучить его, а сразу приступал к самому главному, то Сережа, пожалуй, и обиделся бы на него.
Во время этой паузы стояла ошеломляющая тишина. Было слышно даже как лязгают в руках матери, задевая друг о дружку, вязальные спицы. Как жужжит, выписывая неровные круги вокруг плафона, одинокая муха, будто заблудившийся во вселенной тоскливый астероид. И конечно, уже в этой паузе Сережа проваливался в свое любимое состояние. Когда тело его изнутри, из-под самой ложечки, начинало напористо деревенеть, а кожа на плечах и лопатках стягивалась, покрываясь тугими мурашками неописуемого блаженства. Сережа остро чувствовал при этом, что в такое же точно состояние погружаются и его друзья, ежели они гостили у него в это время. Вадик, держа в ладонях крохотную гоночную машину, поворачивал лицо к Сережиному отцу и, непосредственно медленно открывая рот, застывал, как восковая кукла. Выпученные глаза его, вспыхнув, загорались нетерпеливым ликованием. Никитка, он похитрее, старался не показывать виду и продолжал водить по полу туда-сюда гоночную машину. Но уже беззвучно и без прежнего азарта. Потому как предательские мурашки бесцеремонно и властно стягивали и его кожу не только на лопатках, но и на ногах: на бедрах и икрах; и даже на пальцах рук, приподняв дыбом крохотные волоски.
В это же состояние сладкого оцепенения, казалось, погружались и все находящиеся в комнате вещи. Круглый обеденный стол с толстыми ножками, подогнутыми, будто в коленях, от непроизвольно вспыхнувшей сладости. Матерый огромный и грузный от собственной мудрой важности книжный шкаф. Глубоко задумавшийся, словно философ, держащий указательный палец у лба, широкий застеленный потертым шерстяным пледом диван. Разве что только тугими мурашками не покрывались их оживающие деревянные части тела… И только мать по обыкновению не замечала этой многозначительной паузы. Она продолжала, никого и ничего вокруг себя не видя, споро орудовать поблескивающими вязальными спицами, словно фехтовалась ими сама с собой. И при этом как обычно. исступленно шевелила влажными покусанными губами.
А потом нарочито долго смачно потягивался, задиристо сверкая колючими карими глазами и широко растягивая обветренные губы в счастливой родительской улыбке. Медленно склоняя голову набок, бросал на сына одним левым глазом заговорщический взгляд. И тягучим мягким музыкальным голосом спрашивал: «Ну, что? А теперь диафильм?» «Дааа»– протяжно отвечал Сережа животом и грудью одновременно, потому как не мог пошевелить открытым от изумления ртом. «Ну, коли, Ваше величество желает посмотреть диафильм, будет вам – диафильм» – Шутливо говаривал отец певучим басом, как бы пробуя уже свой голос на звучание. Уходил, чуть покачиваясь от сладкого родительского счастья и накопившейся за день усталости, в соседнюю комнату. Скоро возвращался, держа в руках массивный диапроектор и картонную коробку из-под медикаментов с шуршащими в ней свернутыми лентами диафильмов. А Сережа один или с друзьями усаживался на полу со скрещенными по-турецки ногами перед голой белой стеной. И ему всякий раз огромным усилием воли приходилось сдерживать себя от преждевременного запуска собственного подробного и несказанно красочного фильма. Фильма, который его воображение непроизвольно проектировало на чистое полотно памяти…
2
Солнце нежное желтое и большое- стойко замерев в зените, приятно жгло плечи. Оно походило сейчас на обстоятельную цветущую корзину подсолнуха, с чуть шевелящимися розовыми лепестками – шелковыми язычками пламени. Сладко и уютно звенела тонким колокольчиковым звоном роящаяся вокруг головы мошкара. К стойким озерным запахам примешались резкие запахи высыхающих на солнце водорослей и сырой донной глины, кое-где выглядывающей небольшими островками из мелкой воды и покрытой, словно проплешинками, длинными подвяленными бурыми водорослями. Становилось мелко. Сережа шел, ступая босыми ногами по толстому пружинистому слою перевитых между собою длинных стеблей рдеста. Не проваливаясь сквозь него, как прежде, а только прижимая его ступнями к глиняному дну и омывая ноги по щиколотку становящейся все теплее и теплее озерной водой. Зато вертикальные отростки рдеста с длинными узкими листочками и толстыми с палец, торчащими как свечки, семенными сережками, осыпающимися от соприкосновения с Сережиными ногами – становились все выше, кустистее и гуще. И теперь доставали колен, апорою, когда Сережа непроизвольно ускорял шаг, чувствительно хлестали по ногам, словно колючие колосья на привольном лугу.
Вскоре вода под ступнями Сережи перестала хлюпать, но длинные и прочные как шпагат стебли рдеста оставались быть мокрыми, а донная глина под ними сырой и вязкой. Сережа равномерно переносил на каждую ногу тяжесть своего тела, глина легко выбрызгивалась сквозь рдестовые стебли и, словно теплое сливочное масло, скользко проступала сквозь пальцы. А когда в чрезмерном количестве налипала на ступни до самых щиколоток, словно обувала ноги в грязевые ботинки и сильно утяжеляла ходьбу, Сережа поочередно широко, словно косой размахивал ногами, сбивая глину с ног о вертикальные торчки рдеста. Стараясь, чтобы стебли с жесткими листьями и шершавыми плодовыми сережками попадали между растопыренными пальцами. Но вот, наконец, донная глина под ногами сделалась тверже, и теперь походила на круто замешенное тесто. Она слегка проседала под ногами, но не проступала сквозь стебли рдеста. Хотя те стали тоньше и реже, и поменяли сплошной бардовый окрас – на светло красный, говорящий о том, что земля под ними – давно без воды, высохла и даже начала растрескиваться. Идти сделалось легче: вертикальные ростки рдеста стали ниже, на них было всего два-три узких листочка и чахлая жесткая плодовая сережка. Он наступал теперь на них сверху, и оставшаяся на ступнях глина под прямыми жгучими солнечными лучами быстро высохла, потрескалась на чешуйки, с загнутыми краями и отшелушилась.
Сережа по обыкновению был задумчив, взгляд его был рассеянным, направлен себе под ноги и на пару метров вперед. Деталей: узких зеленых листочков рдеста, прячущихся в них красноватых стеблей, похожих на длинных упругих червей, и оранжевых плодовых сережек – он теперь не замечал. Зато позвоночником и раскрытыми душевными фибрами отчетливо чувствовал, что все обозримое пространство вокруг него относится к нему доброжелательно. И ему казалось, что он сам сейчас как бы – плоть от плоти огромного обмелевшего водохранилища, по высохшему дну которого целенаправленно шел. На душе у него было комфортно.
– Привет, браконьер! – Вдруг перед ним прозвучал мягкий знакомый с детства слегка картавый голос.
Сережа узнал по голосу своего бедового приятеля детства туркмена Агамурада, которого в поселке все до сих пор звали Агашкой. Ничуть не удивился внезапному появлению друга. Сережа с детства знал, что Агамурад имеет склонность появляться где угодно, и появляться как бы неоткуда и как бы ни в чем ни бывало. Но сейчас Агамурад явно был не один. Сережа сосредоточился. Привычно вспомнил о своем особенном душевном умении, которым овладел в раннем детстве, когда, болея ногами, лежал в неподвижности, и – выучился внутреннему видению. Не поднимая глаз, обратил внутренний взор в сторону Агамурада. Углядел два стоящих у него на пути человеческих силуэта и по обыкновению куражисто засоревновавшись с Агашкой, мол, и мы тоже не лыком шиты, ничуть не сбавил шагу. Разве что только едва заметно раздвинул непроизвольно от нахлынувшей вмиг благости губы и узнал-таки во втором силуэте еще одного своего друга детства. Теперь оставалось только разыграть из себя сомнамбулу, ничего не видящего и не слышащего вокруг. Сделать это было нетрудно: Сережа часто бывал таковым, и все, кто его давно знал, привыкли к нему такому. Вот и теперь его друзья детства подумали, что он, как обычно, спит на ходу и решили потехи ради понаблюдать за ним со стороны. Собрались было даже расступиться, чтобы пропустить его мимо себя. Но Сережа, подходя к ним с опущенными прикрытыми глазами, вдруг, не поднимая глаз, выкинул вперед правую руку в сторону второго человеческого силуэта и обыденным тихим голосом сказал:
– Здорово, Берды.
– Да ты же ни разу не посмотрел на нас! – Изумленно воскликнул Бердымурад, – Как узнал, что я это я? Мы за тобой давно смотрим. Ты ни разу не поднимал голову.
– Так, я же говорил тебе, он браконьер! – Радостно воскликнул Агамурад и, дружески шлепнув Сережу по загорелому плечу, добавил, – Здорово, Серега. Рад тебя видеть, чертяга!
Скуластое лицо Агамурада удовлетворенно расслабилось. Тонкие темные губы слегка сморщили гладкую смуглую кожу. Редкие толстые черные волосики на небритом подбородке слегка подались вперед. Выражение лица его по обыкновению стало излучать довольство матерого мудрого лиса. Черные пышные волосы на голове и торчащие, слегка заостренные кверху уши усилили сходство с лисом. Агамурад был одет в просторную серую холщевую рубашку национального покроя с характерной узорной вышивкой на широком распахнутом вороте. Внизу на нем были заношенные до цвета бледно-голубой пыли джинсы, подранные на коленях и с неровной бахромой на манжетах. В правой руке он держал свою допотопную пятиметровую тяжелую острогу, деревянный, отшлифованный от долгого употребления ладонями, шест которой был обмотан выгоревшим на солнце бельевым шнуром. Частые толщиною в мизинец металлические зубья остроги были, как всегда, тщательно заточены и, словно лезвия финских ножей, самодовольно поблескивали. Левой рукой Агамурад придерживал за черный ствол, словно за палку, лежащее на его узком плече с выпирающими ключицами – старое одноствольное ружье с потертым прикладом.
–На-ка вот. – Сказал он, и, легко подняв за ствол ружье с плеча, протянул его Сереже. – Понеси теперь его ты. И поосторожнее – заряжено: один единственный патрон в патроннике. Будешь секундантом. У нас с ним, – Агамурад показал сощуренными, слегка поблескивающими от игривого лукавства черными глазами в сторону Бердымурада, – сегодня дуэль. Сегодня мы разрешим, наконец, раз и навсегда надоевший мне до чертиков наш с ним спор. Сегодня – я его, или он – меня, или мы – друг друга разом… Так что будешь одновременно и свидетелем: кто – кого…
Взяв ружье за нагревшийся на солнце тяжелый ствол, Сережа также лихо и степенно устроил его у себя на плече, словно это был обыкновенный чабанский посох. Вопросительно глянул проницательным взглядом на Бердымурада, чтобы удостовериться: правду ли говорит Агамурад по поводу дуэли, или же по своему обыкновению опять замысловато шутит. Бердымурад чуть растянул темные полноватые губы. Гладковыбритое до синевы не более чем полчаса назад пространство над верхней губой у него нервно поблескивало капельками пота. Он одновременно приветливо улыбался и Сереже, и словам Агамурада, как шутке. Но было явно видно, что он нервно напряжен изнутри, сосредоточен и даже старается внутренне дистанцироваться от Агамурада, а теперь и от Сережи тоже. Одет он был как-то нелепо для водохранилища: в летний нарядный, можно сказать, праздничный легкий светло-голубой костюм. Под расстегнутым пиджаком на нем была свежевыглаженная хлопчатобумажная рубашка бежевого цвета, а застегнутый жесткий ворот рубашки туго стягивал толстым узлом полосатый оранжево-желтый галстук. На левой стороне груди в районе подмышки оттопыривала пиджак красная потертая кожаная кобура, из которой выглядывала черная рукоятка пистолета. В опущенной левой руке Бердымурад держал черные, начищенные до зеркального блеска туфли, в носочки которых были вставлены сложенные хлопчатобумажные темно-зеленые носки. Выглаженные до отчетливой стрелочки брюки были аккуратно закатаны до колен, обнажая смуглые, но совершенно незагорелые ноги, густо поросшие жесткими черными волосами.
– Толку нету, что ты на него смотришь. – Обращаясь к Сереже, музыкально прокартавил Агамурад. – Все одно будет молчать как партизан. Настырно будет молчать… Упрямый… Вон аж как весь сжался изнутри, и жилы – натянуты, как струны на дутаре… Я ему говорю – расслабься, давай по-людски поговорим… Выпьем чайку в тени под абрикосовым деревом, помолчим, попотеем, понежимся под прохладным ветерком, зажмурившись от сладких дуновений. То есть – сделаем все, что делали наши предки-кочевники, и, глядишь, решение само придет на ум. И тогда поймешь, наконец, что я не браконьер. Точнее, конечно же – Браконьер, но с самой большой буквы. Нечета тем, кто расставляет сети и глушит рыбу динамитом.Последних я бы сам подорвал на динамите, чтобы всплыли кверху брюхом, и хоронить не велел – пусть гниют где-нибудь прибившись к берегу и чтобы их объедали мальки и креветки… Но я же ведь не такой! Я не гублю рыбу! За последние шесть лет всего две рыбешки сорвались с моих зубьев. Да и то я их потом догнал и заколол заново. А ведь он знает, что у меня, порою, рыбешки бывают и – под пятьдесят килограммов. Таких, если им черепушку не пробьешь с первого удара – фиг удержишь, даже если мы все трое будем держать острогу. Шест остроги скорее поломается, чем мы такого сома сумеем вдавить в дно… Раскидает он нас, блин, в стороны, как слепых котят. А ведь сом этот – не мишень в тире, что на виду: целься – не хочу. Его ни фига не видно под трехметровой мутной водой. Да и лежит он на дне, по самые усы зарывшись в ил. Его можно только почувствовать позвоночником. Да, ты Серега, это не хуже моего знаешь. Да и он, Бердышка, тоже – только прикидывается, а сам лучше нас понимает каково взять такого сома. Потому что почувствовать сома – это десятое дело. Хотя ни один в мире вшивый браконьер-сеточник и на такое неспособен… Нужно суметь – сосредоточиться!.. И так сильно и точно ударить острогой через толстую воду сома, чтобы тот и не пошевелился даже. А ведь бьешь всякий раз вроде как наугад… До сих пор, блин буду, удивляюсь, как это у меня получается… Словно не я, а Сам Всевышний бьет моими руками острогой рыбу… Но если так, тогда объяснимо: Он видит сквозь все и умеет тоже все… Но Всевышний не может быть браконьером! Точнее, он, конечно же – браконьер, коли пользуется острогой, но Браконьер – с большой буквы, а потому и не браконьер вовсе…
– Во, во… Ты уже и Всевышнего приплел. Ты еще скажи, что ты – пророк Его…– Напряженно одновременно вежливо и уничижительно улыбнулся Бердымурад. Резко неприязненно отпрянув, сделал шаг назад и непроизвольно потянулся правой рукой к кобуре. Но опомнился, остановил руку и, отыскав нервно подрагивающими пальцами пуговицу на сорочке, принялся её теребить.
– Да при чем тут приплел?! – Вспыхнул Агамурад. Голос его прозвучал тоньше и нервнее, как захлебывающийся колокольчик. Но мигом спохватившись, Агамурад вскинул свободную левую руку к носу и принялся надсадно потирать ноздри, слово предотвращал чих. А через полминуты обычным спокойным мягко журчащим голосом обратился непосредственно к Сереже. – Вот видишь, ни фига не понимает, или прикидывается, как… – Тут он собрался употребить какое-нибудь обидное для Бердымурада сравнение, но сдержался и ровным голосом продолжил – будто не понимает. Я ему какой месяц по-хорошему пытаюсь объяснить, что давно вырос из обычного браконьера, как пятилетний пацанчик из коротких штанишек. Что мое мастерство владения острогой не подпадает под статью, которую он мне всякий раз тыкает под нос. Мое мастерство давно не является варварским способом добычи рыбы, и рыбу я не гублю. Я даже не добываю её по весу больше, чем положено при любительском лове. А если охочусь на крупную рыбу, то никогда больше одной не забиваю. В этом смысле я ничем не отличаюсь от спиннингиста или донника. Разве что моя добыча на порядок гуманнее: я сходу убиваю рыбу, не давая ей что-либо сообразить, а спиннингисты и донники мучают рыбу, вываживая её, утомляя до полусмерти…
– А, по-моему, это ты ни фига не понимаешь, и даже не пытаешься понять. – С нервной дрожью в голосе напористо возразил Бердымурад. Хотя некоторое подобие вежливой улыбки осталось-таки на его лице. Но губы и гладко выбритые щеки побелели. – Ты говоришь мне о Справедливости, а я говорю тебе о Законе. Ты хочешь, чтобы я отнесся к тебе по Справедливости, а я работаю, и деньги за это получаю, чтобы относиться ко всем и к тебе лично по Закону. А в Законе четко прописано, что острога, так же как и сети, вентери, верши – запретные орудия лова. Тебе показать, где это написано? А насчет справедливости? Я разве против неё? Но о справедливости ты говори не со мной, а с Серегой. И я пойму, если он поймет тебя и признает твою правоту. Но тогда он пусть подсуетится, станет депутатом и внесет поправку в этот закон, по которой высшее мастерство владения острогой – не будет является запретным видом ловли рыбы. А я уж, будь уверен, оценю твое мастерство в твою пользу. Я, что ли не вижу, что ты виртуоз? Да я, если на то пошло, лучше, чем кто-либо знаю, что, таких, как ты, может быть больше и нет на свете…
–Да ты сам понимаешь, что говоришь?! – В сердцах воскликнул Агамурад, и его красивые картавые звуки стали перерастать в едва сдерживаемые взвизгивания. – Серега – депутатом? Да с какого рожна ему нужно быть депутатом? И даже если станет он депутатом, и подготовит поправку, то кто ж её примет ради одного человека?! Даже если у него, как у тебя, крыша поедет от этой поправки, и он, забросив все свои дела и личную жизнь, будет добиваться этой поправки… И даже, можно допустить и такой фантастический вариант, соберет экспертов из рыбнадзоров во главе с тобою, то все равно на это уйдет уйма времени… Пока я буду ожидать, когда специально для меня лично будет принят закон, по которому я буду иметь право добывать острогой рыбу, я напрочь потеряю форму. Ты это знаешь не хуже меня: ты вот, если не потренируешься минимум раз в неделю в тире в скоростной стрельбе, то раз и съехал с норматива КМС на норму первого разряда, а то и даже второго… Скажи тогда уж прямо, что просто хочешь убить во мне Браконьера! Но, блин, я тебе уже сколько раз говорил: тогда меня лично убей. Я – Браконьер от Бога, и Браконьерство – моя жизнь, и отнять у меня Браконьерство можно только вместе с моей жизнью.
– Это твои проблемы. – Продолжая вежливо улыбаться, с упрямой неуступчивостью возразил Бердымурад. Голос его нервно подрагивал, а губы и щеки побелели еще сильнее и стали выглядеть, словно припудренные.– У тебя своя правда, у меня – своя. И твоя правда ничуть не лучше моей, впрочем, и не хуже. Я же ведь признаю твою правду, а что же ты не желаешь признать мою?
– Да в чем, блин, твоя правда?! – Вспылил Агамурад, судорожно растопырил пальцы на свободной руке, напряженно пошевелил ими. И резко отряхнул ладонь, словно что-то сбросил с неё.
– Я тебе тысячу раз говорил, моя правда в том, что ты – добываешь рыбу запрещенным способом ловли. Ты – браконьер. И мое дело – поймать и наказать тебя. – С нервными придыханиями ответил Бердымурад. Не сдержавшись, принялся нервно кусать губы и неудержимо хмуриться.
– Ну, ты, блин, заладил! Твоя правда – поймать меня!… – Воскликнул Агамурад и стал дергать судорожно напряженными пальцами возле своих гневно выпученных глаз. – Да ты никогда в жизни не поймаешь меня! Ты только надумаешь пойти ловить меня, а я это уже чувствую. Ты вон давеча пил себе чай, и вдруг тебе моча в голову стукнула: поймать меня!.. Все! И чай не допил, стал, блин, собираться – меня ловить… Все, думаю, сейчас припрется на водохранилище… И приперся ведь… И не лень было тебе пять часов лежать в кустах вон на том дальнем бугру… Все высматривал меня… Скажешь, не было этого что ли?
– Было. – После небольшой паузы признался-таки Бердымурад. – В голосе его прозвучало смущение, будто его застукали за постыдным подростковым занятием. – Но я между прочем, тоже понял, что ты заметил меня. И стал валять дурака на зло мне. Ходишь, по лужам как цапля. Тыкаешь просто так острогу в воду… Ну, я подумал, что ты заметил отблеск от моего бинокля. Следующий раз буду следить за тобой без стекляшек…
– Ага, по биноклю я тебя определил.. – Саркастически деланно рассмеялся Агамурад. Запустил растопыренные нервно дергающиеся пальцы в пышные волосы и стал надсадно чесать голову. – Ты еще скажи, что я по запаху учуял твое дерьмо, которым ты сходил, отойдя на двадцать шагов влево и спустившись в ложбину. Поносом, между прочим, сходил. Живот, между прочим, у тебя схватило… Все твое естество бунтует против тебя самого, блин, а ты…
– Но, если ты такой прозорливый, – не сдержавшись, в голос воскликнул Бердымурад, – что же ты боишься. Что я тебя поймаю?!
– Да не боюсь я, блин, что ты меня поймаешь! – Тоже в голос взвизгнул Агамурад. – Я тебе тысячу раз говорил, что ты мне, намериваясь меня поймать, портишь рыбную ловлю! Мне вместо того, чтобы сосредотачиваться на рыбе, приходится сосредотачиваться на тебе. Ты следишь за мной, чтобы поймать меня. А я вынужден следить за тобой, чтобы ты не поймал меня… И – водить тебя за нос… В этом, конечно же, есть тоже прикол, но это, блин, для меня – онанизм! И получается, что тут уже нет ни твоей, ни моей правды…
– Моя правда тут есть, а вот твоей, раз ты так говоришь, точно нету…– Теперь и Бердымурад повысил голос, его глаза сощурились еще сильнее и зловеще засверкали, словно угольки, отчаянным гневом.
– Брек! Брек! Други мои! – Добродушно засмеявшись, воскликнул Сережа и, легко подняв за ствол ружье с плеча, установил приклад между Бердымурадом и Агамурадом.– Вы что прямо сейчас будете драться? У вас что, прямо здесь место дуэли? И, вообще, я не понял, какое оружие вы выбрали для дуэли? Вы что, на полном серьезе хотите драться?
– Конечно, на полном. – Ответил Агамурад, кусая до побеления нижнюю губу и неприязненно резко тряся ладонью с судорожно растопыренными пальцами. – Ты разве не понял, что мне с ним не ужиться? Он упрямый, как ишак, блин, не хочет идти ни на какие уступки. А я, ты знаешь, да и он не хуже тебя знает, не могу жить без остроги. В ней, как иголке для Кощея Бессмертного – вся моя жизнь. Отнять у меня острогу – значит отнять и саму жизнь. Я же ведь давно сросся с нею, она для меня – словно третья рука, и даже ценнее руки. Потому что с острогою я преображаюсь. Я становлюсь с нею, как бы это сказать поточнее, больше, чем человеком. Я начинаю видеть то, что никто не видит, и слышать то, что никто не слышит. А без остроги даже я это не вижу и не слышу. Для меня острога это ключ в ТУДА, где может быть еще никто из людей никогда и не был. А если и был, то очень и очень давно, что напрочь позабыл ТУДА дорогу. И даже позабыл совсем, что это ТО – есть на самом деле, что ОНО существует… Да я разве, боюсь, Серега, что он у меня острогу отнимет? – Сделаю новую. Или что он отнимет у меня возможность добывать рыбу? – Уж на обед себе и семье всегда смогу наловить рыбы и как-нибудь по-другому. Я боюсь, что он у меня ЭТО отнимет… Что из-за его тупоголовой настырности я разучусь входить ТУДА…
– Никто у тебя ЭТОГО не отнимает. – Нервно дрожащим голосом поправил Агамурада Бердымурад. – Ходи ТУДА сколько тебе угодно, но без остроги. Если ОНО есть, то в него можно ходить по-всякому…
– Вот опять двадцать пять! – Взвизгнул Агамурад. – Да не умею я ходить ТУДА, окромя как с острогой. Если умел, то ходил бы! Да ты-то хоть на себя посмотри. Ты ведь тоже ТУДА ходил. Я знаю это. А как тебе ТУДА ход закрыли, в кого ты теперь превратился? Уж лучше, блин, удавиться, чем жить так, как сейчас живешь ты!
– Да что ты переходишь на личности?! За слова отвечай! – Вскрикнул теперь и Бердымурад. Лицо его вмиг побелело до такой степени, словно на него выплеснули белила, а затем на смертельной белизне выступили красно-кровавые пятна.
– Всё! Всё! Понял! – Громко и требовательно крикнул Сережа. – Хватит! Вопросов больше не имею. Не можете договориться – деритесь! Но расскажите тогда, как хотите драться?
– Мы сначала хотели драться по-настоящему. – Беря себя в руки и тряся растопыренными пальцами, словно стряхивая с них нервное возбуждение, стал говорить Агамурад. И по мере того как он успокаивался, голос его становился все более картавым и музыкальным. – Я – с острогой, он – с пистолетом. На расстоянии десяти метров… На таком расстоянии я пробью его грудную клетку насквозь. И он умрет, не почувствовав даже боли. И он с десяти метров не промахнется в мое сердце. И это правильно: если мы не можем жить вместе, то кто-то из нас должен умереть. Хорошо, что тогда, когда решили драться, у нас не было оружия. А то бы уже поубивали друг друга. Кстати, скорее всего, именно так и окончилась наша дуэль: я успел бы бросить в него острогу, а он, пока острога летела в него, успел выстрелить в меня. То есть это была бы уже не дуэль, а взаимное самоубийство. То же самое было бы и при другом, допустимом, конечно, варианте. Если кто-то из нас замешкался и был бы убит один. В этом случае, второму – тоже не жить, его посадили бы, и может быть, даже расстреляли. И опять никто из нас не выиграл бы…
В ту ночь, когда мы договорились о дуэли, я почти не спал. А под утро (у меня всегда дельные мысли приходят под утро) меня осенило… Зачем нам убивать друг друга, когда мы можем просто посостязаться: кто из нас лучше: а точнее, быстрее и прицельнее – владеет своим оружием. Стрелять и бросать острогу по какой-нибудь нарисованной цели – бесполезно: не определишь, счет будет идти на тысячные доли секунды. И тогда я вспомнил о толстолобике… Я давно его пасу. Знаю доподлинно, весь его маршрут, который он проделывает каждый день по водохранилищу. И могу с точностью до минуты сказать, где и когда он будет находиться. Толстолобик – матерый, килограммов где-то под десять. Прекрасная живая мишень… У толстолобов, ты ведь знаешь, одна замечательная особенность… От неожиданного звука они выпрыгивают из воды метра на полтора… И телепаются в воздухе где-то около секунды…И я тогда предложил Бердышке: а давай, вместо того, чтобы убивать друг друга – посостязаемся. И рассказал ему о толстолобе. Берды, надо отдать ему должное согласился: не совсем, видать, у него крыша съехала. Решили так. Подойдем к месту, где будут проплывать толстолобик. Пальнем из ружья в воздух. Толстолоб выскочит из воды, где-то приблизительно на расстоянии десяти метров от нас. Я брошу в него острогой, а он выстрелит по нему из пистолета. Кто из нас попадет в него (а попасть в выпрыгнувшего из воды толстолоба, сам знаешь, непросто) тот и победит.




