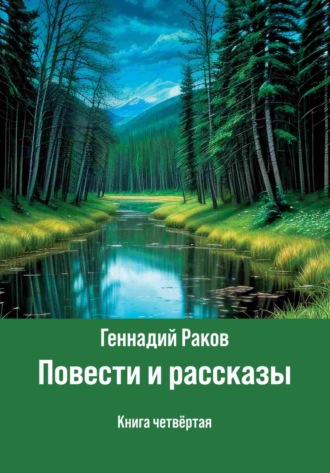
Геннадий Раков
Повести и рассказы. Книга 4
Осень
Неуютно в глухой сибирской деревне поздней осенью. Нет ни зелени, ни солнца, а если и выглянет, то ни тепла от него нет, ни радости: всё так же холодно и сыро.
Хорошо в это время дома заниматься каким-либо хозяйственным делом.
Но жизнь есть жизнь. Чтобы она не остановилась, каждый должен делать ему отведённое.
Вот так и в это хмурое холодное утро по нашей деревне расходились по своим местам работные люди, школьники. Я, ученик второго класса, тоже натянул на ноги кирзовые сапоги. Вышел на улицу.
Уже подмораживало.
Ранец (единственный в то время на всю деревню) был у меня за спиной. Озябшие руки по обычаю – в карманах.
Спешить мне было некуда. Времени до начала занятий ещё много, а школа – через дорогу. Вышел за калитку. Там ничего со вчерашнего дня не изменилось: всё та же грязь – вязкая и холодная. Мне очень не хотелось пачкать сапоги. Решил подождать, пока это сделают другие, а я – может, удастся – проскочу по следу.
В то время, пока я занимался стратегическими хитростями, с пригорка, метрах в ста от калитки, появилась телега с лесом. За ней другая, ещё и ещё… Это по своему обыкновению от берега к лесопилке расконвойники возили лес.
Лошади одна за другой проходили мимо меня, волоча за собой в телегах хлысты леса, мерно, в такт своим шагам, кивали головами. К лошадям я давно привык. Они во мне уже не вызывали интереса. Только иной раз рождали жалость, когда какой-нибудь извозчик колотил «провинившееся» животное, а оно, как всегда, молчало.
Нравился мне, правда, запах, исходивший от лошадей: запах пота, сыромятных ремней, дёгтя, травы.
Пока я так, что называется, глазел по сторонам, около меня остановилась повозка. В неё была впряжена лучшая лошадь деревенской конюшни – Карька. Её необычное имя всегда вызывало у меня интерес.
Но дело не в том. Меня поразила сейчас не сама Карька, а величина воза, в который она была впряжена. Он был раза в два больше принятого.
Напротив меня была большая лужа. Лошадь остановилась прямо в ней.
Извозчик стоял рядом в грязи, держал в одной руке вожжи, в другой кнут и зло орал:
– Ну что, сучья порода, отдохнуть решила? Я те покажу, дрянь такая… А ну… Двигай…
Я к деревенской ругани привык и потому поначалу не придал значения его кружевным выражениям.
Пока извозчик ухищрённо разносил лошадь и всех её предков, сзади остановилось ещё несколько подвод. Никто не хотел объезжать – вокруг грязь ещё больше, чем посередине. Извозчики решили подсобить застрявшим. Они упёрлись в телегу. Как ни старались – телега не сдвинулась.
– Слушай, Ханафеев, скинь ты половину, чего скотину гробишь? Видишь, мочи нет у неё. Сразу тебе говорили – не потянет.
– Идите вы… к хренам собачьим, – хлестнул со всей мочи по спине лошади Ханафеев и отвернулся от помогавших. – Я ей, сволочи, покажу, как работать надо.
Извозчики плюнули на него. В том числе и натурально плюнув в грязь. И с трудом объехали застрявших. Ещё раз посоветовали отбавить с воза.
Ханафеев этого не сделал. Он решил остаться самим собой. Его кнут ходил без остановки по крупу бедной лошади.
Она рвалась, тянула повозку изо всех сил. Было видно, как судорожно напрягаются мускулы всего её большого мощного тела, набухают от напряжения вены.
Казалось, повозка сдвинулась с места… только показалось.
Ханафееву было достаточно сделать свой вывод.
– Что же ты… мать твою разэдак, издеваешься надо мной? Вот я сейчас тебе дам. – Каждое его слово сопровождалось отборным матом.
Ханафеев со злобой бросил кнут в грязь. С усилием вытягивая из грязи свои сапоги, он направился с сторону нашего забора. Красными, налитыми кровью глазами лошадь испуганно глядела в его сторону и пряла ушами. Бедная, хотела найти спасения, спасителя. На улице никого, кроме меня, не было. Не было и спасения.
Ханафеев с треском оторвал от нашего забора толстую сухую штакетину.
– Ты у меня сейчас запляшешь, – Ханафеев двинулся к лошади с дьявольской улыбкой, от которой мне стало не по себе.
Я юркнул назад, в калитку.
Бедная лошадь уже всё поняла и, видимо, стараясь ещё что-то исправить, натянула постромки. Бесполезно. Телега как вкопанная глубоко сидела в грязи. До сих пор мне кажется, что её бы и трактор не вытащил. Да в то время и тракторов-то в деревне не было.
– Ну вот, милая, я тебя угощу, – с этими зловещими словами он опустил со всего маха штакетину на спину животного.
Лошадь дёрнулась всем телом вперёд. Казалось, вот-вот постромки треснут, и она скроется от мучителя. Напрасно. Постромки были крепкими, изготовлены на совесть, надолго, продуманно.
Я потерял счёт ударам, которые сыпались на беднягу. Она на них уже перестала реагировать, только судорога пробегала по телу.
Ханафеев искал выхода своему бешенству.
– Так ты что, шкура твоя поганая? Я и шкуры на тебе не оставлю. Кости переломаю. Убью… – Тут он действительно подошёл к лошади и, не контролируя себя, штакетиной ударил лошадь по голове.
Штакетина разлетелась в щепки.
Лошадь рванулась, хотела зубами достать обидчика. Но тяжесть повозки и грязь цепко держали её. Тогда лошадь чуть сдала назад, прыгнула вперёд, поскользнулась и упала. Грязь от её падения обдала Ханафеева.
– А-а-а, – завопил тот, окончательно обезумев. – Вот ты что ещё удумала! Как в Сочах раскорячилась… – далее следовала такая брань, какую уже в наше славное время не услышишь. – Вот ты как? – он подскочил к Карьке и стал пинать её в бок тяжёлым грязным сапогом.
Лошадь плакала. Из её полузакрытых глаз текли крупные мутные слёзы. Она просто лежала. Одна голова её была поднята над грязью. Только одно это говорило, что животное живо.
Ханафеев устал. Устал физически.
– Так что же, твою душу, теперь с тобой делать, дерьмо? – Он стоял грязный, расстёгнутый до майки. Теперь он уже начал кое-чего понимать. Испугался: лошадь-то казённая, сдохнет ещё. В его планы такой поворот не входил. Накажут.
– А ну вставай, разлеглась, как на «Золотых песках», – он дёрнул за узду вверх. Что ж ты, паскуда, сдыхать собралась, что ли? – И вдруг, словно взбесившись, с воем и воплями впился своей грязной разбойничьей пятернёй в единственно ещё нетронутое место – в ноздри.
Лошадь дрогнула. Ханафеев тянул.
– Ну… вставай, вставай же… – шипел палач.
Шея Карьки вытянулась, верхняя губа обнажила плотно сжатые окровавленные зубы. Лошадь продолжала лежать.
Именно тогда, когда Ханафеев обдумывал, что бы ещё сотворить, возвратом с лесопилки подъехали извозчики. С передней телеги соскочил бригадир и с матами, не уступающими только что слышанным, оказался рядом с Ханафеевым. Тот не успел опомниться, как плавал на животе в холодной грязи.
– Ирод, я тебе самому отверну башку. Что наделал, что наделал! – мужики обступили лошадь. – Давай, робя, распрягай Карьку.
Как только Карьку выпрягли, она сама встала. Но не сдвинулась с места. Как её не уговаривали – осталась стоять промеж оглобель, косилась на телегу, на Ханафеева. Тот стоял на обочине дороги и стряхивал с себя грязь.
– Неужто этого ирода боишься? Пошли на конный двор. Шельма больше ни к одной лошади не подойдёт. Лес валить будет да сучья рубить. Окаянный! – говорил бригадир.
Лошадь стояла, печально смотрела на людей. Бригадиру показалось, лошадь просила запрячь её.
– Слышь, Семёнов, запряги-ка её, мы пока снимем кой-чего с телеги. Может, и вправду, чёй у неё в голове?..
Семёнов знал своё дело и сноровисто облачил лошадь в упряжь. Мужики успели сбросить лишь небольшое бревно.
Что произошло дальше – трудно объяснимо, но это факт. Не успели мужики подойти к телеге за вторым бревном, Карька дёрнула вправо, влево… и… медленно потащила за собой воз. Мужики оторопели. Карька набирала скорость. Через минуту она уже бежала. Не от Ханафеева, это я наверняка знаю. Она бежала, потому что в ней есть сила, есть всё, чтобы быть хорошей лошадью. Она и была лучшей лошадью. И возила больше остальных. Но есть всему предел. Этот предел был так невелик – одно небольшое бревно.
– Сволочь же ты, Ханафеев. Тебя бы самого колом по башке.
– Я что? Хотел, как лучше. Больше увезёшь, скорее выполнишь и перевыполнишь норму. Дело ведь общее. Коммунизм строим. Вон, радио и сегодня утром говорило: «Норму надо перевыполнять». Все перевыполняют. А я что? Политика партии и правительства, сами знаете.
Бригадир остановил «политика»:
– Слушай, олух царя небесного, хочешь норму перевыполнять – перевыполняй своим горбом. На чужой шее в рай непозволительно въезжать. И чтобы лучше усвоил это – бери топор и с завтра на лесосеку. Там посмотрим, каков ты есть передовик. Пошёл вон.
Через несколько минут на дороге никого не было. Осталась прежняя грязь да бревно, напоминавшее о случившемся. Да и случилось ли что? Ведь это была лишь какая-то лошадь. Для победы «мировой революции» это ничего не значит.
Это понял я, к сожалению, слишком поздно.
…А бригадира вскоре заменили… на… Ханафеева.
Зима
– Кто это там впереди так руками размахивает? – Ханафеев вглядывался вперёд из розвальней через бегущую трусцой, заиндевевшую от мороза лошадь. – Кажись на лыжах кто? Чёрт дёрнул. Чудные люди пошли какие-то. В ночь, да мороз ещё такой, будь он неладен. Спортсмены… Э, дак это сынок Марфы Семёновой, то-то я смотрю. Ну как же, в техникуме строительном учится, городской стал. На Новый год, видно, к родителям наворачивает, спешит.
Лошадь с лёгкостью нагнала лыжника и пошла дальше. Ханафеев прикрыл лицо воротом тулупа.
«Давай, давай, спеши, долгонько ещё бежать-то. Ну, ничего, парень он дюжий, вот холод только собачий. Как бы не околел, будет потом всю жизнь маяться, – медленно рождались обрывочные мысли в промороженной голове».
– Вернуться, мож, а? – обратился он к лошади, но не получил ответа от безответного животного. – Хоть и весь род их змеиный, как и все в ентой едрёной деревне. Но всё же.
Ханафеев поправил сползший тулуп.
– Всё же, вона, ещё тёпать сколько… Километров сорок, не меньше.
Лошадь послушно бежала. Ханафеев оглянулся – Семёнова сынка уже и не видно.
– А, хрен с ним, не сдохнет, да и Александровка на полпути будет. До ней дотянет. Назавтра и дома будет. Давай, милая.
Ханафеев привязал спущенные вожжи к боковине, лёг на спину и уставился в небо.
– Хоть бы махнул рукой, вот гад какой. Как же, гордые мы все. Узнал, нет ли? Да что это я? Пошла вон из головы, дрянь всякая так и лезет. Небось, не вернусь. Сразу надо было попроситься.
Ночь была ясная, мороз. От луны растекался бледно-голубой мертвецкий свет. Он освещал причудливые сугробы, заснеженные деревья и одинокого лыжника на заснеженной конной дороге. Воздух звенел от мороза, перевалившего за сорок. Ухали с треском стволы деревьев. Тайга сжалась от холода. Вся живность попряталась в норы, закопалась в снег. Скрипела под лыжами накатанная дорога. Семёнов, широко шагая, спешил домой под Новый год.
Ему не привыкать стоять на лыжах. Он знал все тонкости, как с ними иметь дело. Да и многое другое он знал. Он знал, что в такой мороз, да на шестьдесят километров, к тому же в ночь и одному, идти ну никак нельзя. Но что поделаешь: молодой, советчиков нет поблизости. Может, пронесёт? Не последний лыжник на деревне. Так то на валенках. А эти, вон какие – на ботинках. Спасибо физруку, не пожалел.
Самому было не холодно, а вот пальцы на ногах и руках подмерзали. Вот уж километров двадцать и отмахал.
«Смотри, едет кто-то. Вот здорово! Может, до дома и подвезёт», – парень за спиной слышал скрип приближающихся розвальней.
Сошёл с дороги. Он не стал поднимать руки – само собой разумеется, должен остановиться. Не на прогулке же в городском парке. Да и привычки в деревне ещё такой не было, чтобы лошадь, вытянув руку, останавливать.
Однако розвальни и не подумали останавливаться, даже не притормозили. Кто-то в тулупе закрылся воротником и проехал мимо.
«Так это ж дядя Христофор Ханафеев!»
Семёнов не стал кричать во след. Он знал этого бригадира Ханафеева, знал, что ни он сельчан, ни те его, в свою очередь, недолюбливали.
Пока Семёнов стоял, холод залез ему под майку.
«Надо поднажать. Сейчас десять, часа три до Александровки. Там и заночую».
Дорога шла среди леса, по сопкам: то с горы, то опять на гору петляла среди деревьев, уходила в черноту ночи, вновь освещалась холодным светом.
Лунный свет, как ты прекрасен, множество поэтов воспели тебя. Как много о тебе поэм, стихов. Скольким поколениям влюблённых ты освещал счастье. Как мил твой свет летом над рекой или такой же ясной ночью… Но только не здесь, не сейчас, не в тайге – в городе, деревне, когда в тепле. Ты приносишь кому печаль, кому радость, кому душевное успокоение, пробивая свой свет сквозь оконные рамы.
Семёнову казалось, он уж прошёл те двадцать километров до Александровки. Да и по времени уже ей бы быть.
«Вон, наверное, за той горой».
Он подналёг в очередной раз. Ему самому так казалось, что подналёг. Себя он со стороны не видел, это и к лучшему. Шаг его был короткий, руки почти не слушались. Он устал и замёрз.
Вспотевшая в начале пути одежда сейчас не грела. Пальцы рук и ног уже не болели, не мерзли, и парень был этим доволен. Наконец и эта злополучная гора одолена. Семёнов прислушался, повернув ухо вниз, в тайгу, под гору – тишина. Он знал: лай деревенских собак далеко идёт по тайге. Обманывать себя не хотелось. Лая собак слышно не было. Сбиться с дороги он не мог, других просто не было. Что оставалось? Идти вперёд.
«Ну вот, сейчас съеду под гору, отдохну, следующая вроде поменьше будет. Может, за ней».
Дорога шла прямо вниз. Лыжи скрипели и быстро скользили. Ветер обжигал лицо даже через шарф. Семёнов просмотрел крутой поворот, а знал ведь его. Не один раз и зимой, да и летом, ездил и ходил он здесь. Вот она примета – три километра до Александровки. Не так уж и далеко. Но обрадоваться он не успел.
Со скользкой накатанной дороги на большой скорости его выкинуло на обочину, на пень, незаметный под шапкой снега. Хрустнула и оторвалась левая лыжа. Семёнов перелетел через пень и оказался метрах в двадцати от дороги в сыпучем, как сахар, снегу. Снег был везде – и снаружи, и под одеждой. Он встал, одна лыжа была сломана, вторая укатилась неизвестно куда.
«Хорошо, хоть шапка была завязана, – парень испуганно глянул на плечо: рюкзак на месте, для убедительности потрогал лямки. – Что же делать? Надо выбираться на дорогу».
Снег лез во все щели. Ну, вот и дорога.
«Ух!»
Семенов не курил и теперь ругал себя за это – спичек нет. Может, случайно кто положил или остался с лета коробок? Он только сейчас, когда снял рюкзак, определил, что пальцы его не слушаются. Через силу рюкзак был расстёгнут, но кроме подарков для родителей и сестрёнки там ничего не было. Застегнуть обратно его он уже был не в силах, забросил за спину так, расстёгнутым.
Кожаные подошвы лыжных ботинок скользили по дороге. Что было ему делать? Идти вперёд, пока это возможно. Он падал, становился на колени, отдыхал, поднимался, шёл дальше. Он хотел жить, хотел подарить свои подарки… Во что бы то ни стало, только вперёд, только вперёд. Там внизу…
* * *
– Пр-р, стой. Слышь, Семёниха, чё это по ночам за дровами таскаешься? – Ханафеев вылез из-под накинутого тулупа.
– Какое дело тебе? Я-то дома. Шастаешь здесь. Своей Фроське и докладай. – Семёниха спешила из холода с охапкой дров.
– Еду-то наварила, вона, видать. Браги, наверное, поставила. Стало быть, сынка поджидаешь.
– Мож и жду, – она хлопнула калиткой.
– Жди-жди, завтра будет.
Семёниха остановилась.
– А ты откуля знаешь?
– Да видел вот, еду, а он под Александровкой на лыжах наяривает.
Женщина ахнула, поленья с грохотом рассыпались.
– Так ты что, вправду это?
Она уже стояла на дороге, в одной шали. Холода она не замечала.
– Неужто врать мне охота?
– Ирод, ирод ты, что же ты его не взял, гад? Игнат, Игнат. – встревоженная женщина орала на всю деревню, вызывая из дома своего мужика.
– Да замолчи ты, проклятущая. Зря сказал. Что он твой сын, король какой? Я ему предложил, а он, видите ли, не желает, – теперь уже откровенно врал Ханафеев.
Семёниха уже не слушала его – кинулась в избу, стащила с кровати спящего Игната.
– Та чтоб тебя громом по голове, пьянь! Проснись же, наконец! – в отчаянии она влепила ему крепкую пощёчину.
Дочь соскочила с кровати.
– Ты что, мама, что случилось?
– Витька пропадает, а он…
– Ну не сплю я уже, не сплю. Видишь, вот он я, – Игнат откинул с сонного лица пятернёй волосы. – Что орёшь? В морду ещё тычет. Вот баба! Кто пропал, куда пропал?
– Да Витенька наш, о Господи! – она в двух словах обсказала встречу с Ханафеевым.
– Он не сказал, перед Александровкой или после неё Виктора-то видел? И когда? – Игнат искал решение.
Если до, так по времени должен быть в Александровке. Дальше не пойдёт, это точно. Если после, то часа два ждать надо…
– Ну что сидишь, Игнат? – она без сил опустилась на пол.
– Марфа, ты не ори на меня. Думаю, вот и сижу, – Игнат уже полностью пришел в себя.
– Ну и что удумал?
Игнат высказал вслух свои мысли.
– Пока ты ждать будешь – родной сын замёрзнет насмерть. Ой, Витенька, кто же это тебя надоумил? Давай-ка, Игнат, иди к соседу, проси лошадь, поедем навстречу.
– И то верно, баба, а дело говоришь, – одобрил Игнат.
Не прошло и получаса – пришел с запряжённой лошадью.
– Тулуп-то захвати на запас.
Марфа сбегала за тулупом, уселась в розвальни, на сено.
– Н-но… пошевеливай, – Игнат тронул вожжи.
Ехали молча. Да о чём было говорить? Прикрывали лицо от ветра и снежных хлопьев из-под копыт бегущей лошади. Всматривались вперёд, но никого не было.
Доехали до Александровки. Постучали в несколько изб. Нет, не было никого. Игнат, до сих пор не верящий в возможность случившегося, теперь не на шутку испугался.
– Не вой, ведьма старая, скину сейчас на дорогу. Лошадь вся и так упрела, с воем твоим… – Марфу он и не собирался трогать, так, злился.
Она отвернулась от Игната и причитала:
– Чует моё сердце. Спаси тебя, Господи, сынок… – Недолго она молила бога о милосердии.
Проехали они не более четырёх километров от Александровки, повернули по реке за скалу. Игнат увидел впереди что-то чёрное, присмотрелся – не движется.
– Слышь, Марфа, глянь-ко вперёд. Что там? Река ведь, пней не должно быть.
– Ох, – зрение у Марфы было получше, – Витенька. Так ведь это он, родимый. Ну что ты едешь, как на смерть, гони скорее.
Игнат взмахнул вожжами над головой, лошадь ускорила ход.
– Да стой же ты, ишь разбежалась, – Игнат натянул поводья.
Марфа, не дожидаясь остановки, соскочила с саней, растянулась поперёк дороги и, как была, на коленях, поползла к сыну.
Виктор сидел на кромке снега у обочины дороги. Руки его были под мышками, голова низко опущена.
– Сынок, – тронула его со страхом мать, – Витенька.
– А, это ты, мама, – голос его был еле слышен, – вот подарки вам принёс, – руки его опустились, он наклонился и упал.
Марфа подхватила сына и теперь уже на всю тайгу заголосила.
– Витенька, голубчик мой, что ты, что ты, это мы ведь, всё хорошо будет. Не умирай, а-а-а, солнышко ты моё ясное.
– Ну же, ты там, тяни, – Игнат тащил за уздечку застрявшую в снегу лошадь с санями. – Сейчас, Марфуша, ты его того, поддержи. Так, положи в тулуп да заверни получше, ещё спереди подтолкни, сена побольше под голову подгорни.
* * *
Всю оставшуюся ночь и всё утро Марфа хлопотала над сыном. Поила его малиной, растирала тело, мазала гусиным жиром. Фельдшера приглашала. Словом, ей было не до рассуждений.
Когда немного отошло, убедилась, что сын её хоть и подморожен изрядно, но жив и ему больше ничего не угрожает, она вспомнила о Ханафееве.
– Игнат, а Игнат, – шёпотом позвала мужа.
– Ну что тебе?
– Да не ори, видишь, уснул Витенька, иди сюда.
Игнат свесил ноги из-под тёплого одеяла.
– Ну, говори, что ещё удумала?
– Иди, Игнат, к Ханафееву, требуй от него объяснений. Почто он нашего Витеньку чуть не заморозил?
– Вот удумала чего. Да зачем оно тебе? Главное, цел наш орёл. Вон, смотри, дрыхнет, и слава Богу. – А сам подумал про себя: коли надумала, всё равно заставит, и предложил: – Один не пойду, хоть поленом гони. Пойдём вместе. Ты и говорить будешь. Только без пользы всё это, – он думал, что жена отступится, но Марфа засобиралась.
– Сонечка, присмотри за Витенькой, – распорядилась Марфа, – мы мигом. Одна нога здесь, другая там. И придём.
Ханафеев никогда не принимал гостей в дом, все знали об этом. Тем более был удивлён пришедшими к нему Семёновыми. На этот раз сам пригласил.
– Милости прошу, товарищи супруги Семёновы, проходите, раздевайтесь, будьте гостями, – подмигнул он Игнату. – Мы сейчас в честь приближающегося праздничка попробуем своей. Фроська, дай-ка нам с Игнатом свеженькой.
У Игната уже руки потянулись к рюмке, Марфа резко его одёрнула.
– Ты вот, что, Ханафеев, скажи мне, почто сына нашего заморозить хотел? – Вид её был воинственный, голос громкий.
Она ждала ответа.
– Хто это заморозить хотел? Это я-то? Вот, кабы он совсем замёрз, тогда бы…
Не успела Марфа дослушать, а Ханафеев договорить свою ядовитую речь, исстрадавшееся сердце матери не выдержало, из глаз хлынули слезы. Ей показалось, что перед её глазами стоит не кто иной, как сам чёрт. Она и рожки на голове его ясно видела, отпрянула от него, закрыла лицо руками, как бы отгораживаясь, рванула шаль, бросилась к двери, сбила в сенках пустые вёдра, выскочила на дорогу.
– Чтоб вы посдыхали здесь все. Сумасшедшие одни. Не деревня, психбольница. Ну, чего стоишь? – Ханафеев злобно смотрел на молчавшего Игната. – На, бей морду, пришёл дак.
Игнат попятился к открытым дверям.
– Учить пришли? Вон из моего дома. – Ханафеев хотел вытолкать Игната за шиворот, но тот успел увернуться и захлопнуть дверь.
Навалился на неё спиной.
– Зверюга и есть зверюга, права моя баба.
Семёнов вместо замка в уключину Ханафеевских дверей вставил толстый ржавый гвоздь, отыскавшийся в кармане, и пошёл к своему дому. Что он мог ещё сделать?
– Вот и поговорили на свою голову. Всегда так с ним. Посиди маленько, может, кто и откроет.
Ханафеева так никто и не открыл. Может быть, и открыли бы, да никто не знал о проделке Игната. Пришлось Ханафееву самому двери высаживать с петель.
– А ещё, говорят, не сумасшедшие.






