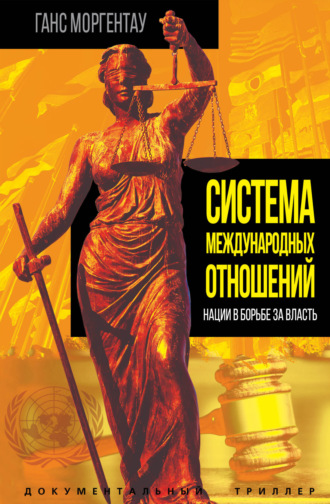
Ганс Моргентау
Система международных отношений. Нации в борьбе за власть
Критика этих теорий
Все экономические объяснения империализма, как утонченные, так и примитивные, не в состоянии преодолеть аргументы, вытекающие из свидетельств истории. Экономическая интерпретация империализма возводит ограниченный исторический опыт, основанный на некоторых единичных случаях, в универсальный закон истории. Действительно, в конце девятнадцатого и в двадцатом веке небольшое количество войн велось в основном, если не исключительно, ради экономических целей. Классическими примерами являются Бурская война и война в Чако между Боливией и Парагваем. Основная ответственность британских золотодобывающих интересов за бурскую войну вряд ли может вызывать сомнения. Война в Чако, как считают некоторые, была в первую очередь войной между двумя нефтяными компаниями за контроль над желаемыми нефтяными месторождениями.
Однако за весь период зрелого капитализма ни одна война, за исключением Бурской войны, не велась крупными державами исключительно или даже преимущественно с экономическими целями. Австро-прусская война 1866 года и франко-германская война 1870 года, например, не имели никаких важных экономических целей. Это были политические войны, фактически империалистические войны, которые велись с целью установления нового распределения власти, сначала в пользу Пруссии внутри Германии, а затем в пользу Германии в рамках европейской государственной системы. Крымская война 1854—56 годов, испано-американская война 1848 года, турецко-итальянская война 1911 года и несколько балканских войн показывают экономические цели только в подчиненной роли, если они вообще их показывают. Две мировые войны были, безусловно, политическими войнами, целью которых было господство в Европе, если не в мире. Естественно, победа в этих войнах принесла экономические преимущества, и, в особенности, поражение принесло экономические потери. Но эти последствия не были реальной проблемой; они были лишь побочными продуктами политических последствий победы и поражения. Тем более эти экономические последствия не были теми мотивами, которые определяли в сознании ответственных государственных деятелей вопрос о войне и мире.
Таким образом, экономические теории империализма не подтверждаются опытом того исторического периода, который, по их мнению, тесно связан, если не идентичен, с империализмом, то есть периода капитализма. Более того, основной период колониальной экспансии, который экономические теории склонны отождествлять с империализмом, предшествует эпохе зрелого капитализма и не может быть объяснен внутренними противоречиями разлагающейся капиталистической системы. По сравнению с шестнадцатым, семнадцатым и восемнадцатым веками колониальные приобретения девятнадцатого и двадцатого веков незначительны. Последняя фаза капитализма даже приводит к ликвидации империи в больших масштабах в виде отступления из Азии Великобритании, Франции и Нидерландов.
Исторические факты еще более неблагоприятны для утверждений экономических теорий, если проверить их на доказательства, представленные докапиталистическими процессами строительства империй. Политика, которая в древние времена привела к созданию Египетской, Ассирийской и Персидской империй, была империалистической в политическом смысле. Такими же были завоевания Александра Македонского и политика Рима в последнем столетии до христианства. Арабская экспансия в седьмом и восьмом веках имела все признаки империализма. Папа Урбан II использовал типичные идеологические аргументы в поддержку империалистической политики, когда в 1095 году он изложил Совету Клермонта причины Первого крестового похода в таких словах: «Ибо эта земля, которую вы населяете, закрытая со всех сторон морями и окруженная горными вершинами, слишком тесна для вашего многочисленного населения; она также не изобилует богатствами; и она не дает достаточно пищи для своих земледельцев. Поэтому вы убиваете и пожираете друг друга, ведете войны, и очень многие среди вас гибнут в гражданских распрях». Людовик XIY и Наполеон I были решительными империалистами.
Все эти империализмы докапиталистического периода разделяют с империализмами капиталистического периода тенденцию к свержению сложившихся властных отношений и установлению на их месте господства империалистической державы. Однако эти два периода империализма объединяет также подчинение экономических целей политическим соображениям.
Александр Македонский и Наполеон I, не в меньшей степени, чем Адольф Гитлер, начинали империалистическую политику с целью личной выгоды или для того, чтобы избежать неправильного функционирования своих экономических систем. Они стремились к тому же, к чему стремится промышленник, когда пытается создать промышленную «империю», присоединяя предприятие за предприятием, пока не станет монопольно или квазимонопольно доминировать в своей отрасли. И докапиталистический империалист, и капиталистический империалист, и «империалистический» капиталист хотят власти, а не экономической выгоды. Капитан промышленности движим к своей «империалистической цели» экономической необходимостью или личной жадностью не больше, чем Наполеон I. Личная выгода и решение экономических проблем путем империалистической экспансии для всех них – это приятное послесловие, желанный побочный продукт, а не цель, к которой влечет империалистический порыв.
Мы видели, что империализм не определяется экономикой, капиталистической или иной. Теперь мы увидим, что капиталисты как таковые не являются империалистами. Согласно экономическим теориям и, в частности, «теории дьявола», капиталисты используют правительства в качестве своих инструментов для проведения империалистической политики. Однако исследование исторических примеров, приводимых в поддержку экономической интерпретации, показывает, что в большинстве случаев между государственными деятелями и капиталистами существовали обратные отношения. Империалистическая политика обычно задумывалась правительствами, которые призывали капиталистов поддержать эту политику. Таким образом, исторические свидетельства указывают на примат политики над экономикой, а «господство финансиста… над международной политикой» не подлежит сомнению.
Капиталисты как группа, то есть за исключением некоторых отдельных капиталистов, далеко не всегда были зачинщиками империалистической политики и даже не были ее горячими сторонниками.
Как заявил профессор Винер:
В большинстве своем именно средние классы были сторонниками пацифизма, интернационализма, международного примирения и компромисса в спорах, разоружения – в той мере, в какой они имели сторонников. Экспансионистами, империалистами, джинго были в основном аристократы, аграрии, часто городские рабочие классы. В британском парламенте именно представители «денежных интересов», зарождающегося среднего класса в северных промышленных районах и лондонского «Сити» были умиротворителями во время наполеоновских войн, во время Крымской войны, во время бурской войны и в период от возвышения Хайдера до немецкого вторжения в Польшу. В нашей стране именно из деловых кругов в значительной степени исходила важная оппозиция Американской революции, войне 1812 года, империализму 1898 года и антинацистской политике администрации Рузвельта до Перл-Харбора.
Начиная с сэра Эндрю Фрипорта в газете Spectator в начале восемнадцатого века и заканчивая Норманном Энджелпом «Великая иллюзия» в наше время, капиталисты как класс и большинство капиталистов как индивидуумы были убеждены, что «война не оплачивается», что война несовместима с индустриальным обществом, что интересы капитализма требуют мира, а не войны. Ибо только мир допускает рациональные расчеты, на которых основаны капиталистические действия. Война несет в себе элемент иррациональности и хаоса, который чужд самому духу капитализма. Империализм же, как попытка свержения существующих властных отношений, несет в себе неизбежный риск войны. Поэтому капиталисты как группа выступали против войны; они не инициировали, а лишь с опаской и под давлением поддерживали империалистическую политику, которая могла привести, а во многих случаях и приводила, к войне.
Как стало возможным, что такая доктрина, как экономические теории империализма, которая в такой степени расходится с фактами опыта, смогла завладеть общественным сознанием? Есть два ответа. Мы уже указывали на общую тенденцию эпохи сводить политические проблемы к экономическим. В этой фундаментальной ошибке одинаково виновны и капиталисты, и их критики. Первые ожидали от развития капитализма, освобожденного от атавистических оков докапиталистической эпохи и следующего только ему присущим законам, всеобщего процветания и мира. Вторые были убеждены, что эти цели могут быть достигнуты только путем реформирования или отмены капиталистической системы. Бентам выступал за эмансипацию колоний как средство избавления от империалистических конфликтов, ведущих к войне. Прудон, Кобден и их ученики видели в тарифах единственный источник международных конфликтов и утверждали, что мир заключается в расширении свободной торговли.
В наше время мы слышали, как говорят, что поскольку немецкий, итальянский и японский империализм был порожден экономическими потребностями, эти страны воздержались бы от империалистической политики, если бы получили кредиты, колонии и доступ к сырью. Бедные страны вступают в войну, говорится в аргументе, чтобы избежать экономических трудностей; если богатые страны облегчат их экономические проблемы, у них не будет причин для войны. В классическую эпоху капитализма и приверженцы, и противники капиталистической системы считали, что экономические мотивы, которые, казалось, определяют действия бизнесменов, руководят действиями всех людей.
Другая причина готовности принять экономическую интерпретацию империализма заключается в ее правдоподобности. То, что профессор Шумпетер сказал о марксистской теории империализма, в целом верно: «Ряд жизненно важных фактов нашего времени, кажется, прекрасно объяснен. Весь лабиринт международной политики, кажется, проясняется одним мощным ударом анализа». Тайна такой угрожающей, бесчеловечной и часто убийственной исторической силы, как империализм, теоретическая проблема определения его как отличительного типа международной политики, практическая трудность, прежде всего, распознать его в конкретной ситуации и противостоять ему адекватными средствами – все это сводится либо к присущим капиталистической системе тенденциям, либо к злоупотреблениям. Всякий раз, когда феномен империализма представляется для теоретического понимания или практического действия, простая схема дает почти автоматический ответ, который ставит ум в тупик.
Различные типы империализма
Истинная природа империализма как политики, разработанной для свержения статус-кво, может быть лучше всего объяснена путем рассмотрения некоторых типичных ситуаций, которые благоприятствуют империалистической политике и которые, учитывая субъективные и объективные условия, необходимые для активной внешней политики, почти неизбежно приведут к политике империализма.
Три побуждения к империализму
Когда нация вовлечена в войну с другой нацией, весьма вероятно, что нация, предвкушающая победу, будет проводить политику, направленную на постоянное изменение отношений власти с побежденным врагом. Эта политика будет проводиться независимо от того, какие цели преследовались в начале войны. Цель такой политики изменений – преобразовать отношения между победителем и побежденным, существующие в конце войны, в новый статус-кво мирного урегулирования. Таким образом, война, которая была начата победителем как оборонительная, то есть для сохранения довоенного статус-кво, трансформируется с приближением победы в империалистическую войну, то есть за постоянное изменение статус-кво.
Карфагенский мир, по которому римляне навсегда изменили в свою пользу отношения власти с карфагенянами, стал нарицательным словом для обозначения такого вида мирного урегулирования, которое стремится увековечить отношения между победителем и побежденным в том виде, в котором они существуют по окончании военных действий. Версальский договор и сопутствующие ему договоры, завершившие Первую мировую войну, в глазах многих наблюдателей имели аналогичный характер. Политика, направленная на установление мира такого рода, должна, согласно нашему определению, называться империалистической. Она является империалистической, потому что пытается заменить довоенный статус-кво, когда примерно равные или, по крайней мере, не совсем неравные державы противостоят друг другу, на послевоенный статус-кво, где победитель становится постоянным хозяином побежденных.
Однако сам этот статус подчинения, рассчитанный на постоянство, может легко породить у побежденного желание перевесить чашу весов на сторону победителя, свергнуть статус-кво, созданный его победой, и поменяться с ним местами в иерархии власти. Другими словами, политика империализма, проводимая победителем в ожидании своей победы, скорее всего, вызовет политику империализма со стороны побежденного. Если он не будет навсегда уничтожен или не перейдет на сторону победителя, побежденный захочет вернуть утраченное и, по возможности, получить больше.
Типичным примером империализма, задуманного как реакция против успешного империализма других, является германский империализм с 1935 года до конца Второй мировой войны. Европейский статус-кво 1914 года характеризовался объединением великих держав в составе Австрии, Франции, Германии, Великобритании, Италии и России. Победа союзников и мирные договоры создали новый статус-кво, который стал завершением империалистической политики Франции. Этот новый статус-кво устанавливал гегемонию Франции, осуществляемую в союзе с большинством новообразованных государств Восточной и Центральной Европы.
Германская внешняя политика с 1919 по 1935 год молниеносно действовала в рамках этого статус-кво, втайне готовясь к его свержению. Она пыталась добиться уступок для Германии, но все же приняла, по крайней мере на время и с мысленными оговорками, властные отношения, установленные Версальским договором. Она не оспаривала открыто властные отношения, установленные Версальским договором; скорее, она стремилась к корректировке, которая оставляла суть этих властных отношений нетронутой. Таков был, в частности, характер «политики выполнения», то есть выполнения Версальского договора, которую проводила Веймарская республика. Именно эта попытка улучшить международное положение Германии при хотя бы временном сохранении версальского статус-кво вызвала яростное сопротивление националистов и нацистов. Придя к власти в 1933 году и стабилизировав свой режим внутри страны, нацисты отменили в 1935 году положения Версальского договора о разоружении. В 1936 году, в нарушение того же договора, они оккупировали Рейнскую область и объявили недействительной демилитаризацию немецкой территории, прилегающей к германо-французской границе. С этих актов началась открытая империалистическая политика нацистской Германии; ибо эти акты были первыми в серии, выражавшей решимость Германии больше не принимать версальский статус-кво в качестве основы своей внешней политики, а работать над свержением этого статус-кво.
Другой типичной ситуацией, благоприятствующей империалистической политике, является существование слабых государств или политически пустых пространств, которые привлекательны и доступны для сильного государства. Это ситуация, из которой вырос колониальный империализм. Это также ситуация, которая сделала возможным превращение первоначальной федерации тринадцати американских штатов в континентальную державу. Империализм Наполеона и Гитлера отчасти имел такой характер, особенно в период «блицкрига» 1940 г. После окончания периода колониализма и противостояния двух великих держав, империализм, вырастающий из отношений между сильными и слабыми нациями и из привлекательности вакуумов власти, кажется менее вероятным в будущем, чем в прошлом.
Три цели империализма
Как империализм вырастает из трех типичных ситуаций, так и империализм движется к трем типичным целям. Целью империализма может быть господство на всем поэтически организованном земном шаре, то есть мировая империя. Или это может быть империя или гегемония приблизительно континентальных размеров. Или это может быть строго локализованный перевес сил. Другими словами, империалистическая власть может не иметь никаких границ, кроме тех, которые устанавливаются силой сопротивления потенциальных жертв. Или она может иметь географически определенные пределы, например, географические границы континента. Или же она может быть ограничена локализованными целями самой империалистической державы.
Выдающимися историческими примерами неограниченного империализма являются экспансионистская политика Александра Македонского, Рима, арабов в седьмом и восьмом веках, Наполеона I и Гитлера. Всех их объединяет стремление к экспансии, которое не знает рациональных границ, питается собственными успехами и, если его не остановит превосходящая сила, пойдет дальше, до границ поэтического мира. Это стремление не будет удовлетворено до тех пор, пока где-либо остается возможный объект господства, то есть политически организованная группа людей, которая самой своей независимостью бросает вызов жажде власти завоевателя. Как мы увидим, именно отсутствие сдержанности, стремление завоевать все, что поддается завоеванию, характерное для беспринципного империализма, в прошлом было губительным для империалистической политики такого рода. Единственным исключением является Рим, по причинам, которые будут рассмотрены позже.

Вудро Вильсон – один из основателей американской школы международных отношений
Тип географически обусловленного империализма наиболее ярко представлен в политике европейских держав, направленной на завоевание доминирующего положения на европейском континенте. Людовик XIV, Наполеон III и Вильгельм II являются тому примером. Пьемонтское королевство при Кавуре стремилось к господству на итальянском полуострове, различные участники Балканских войн 1912 и 1913 годов стремились к гегемонии на Балканском полуострове, Муссолини пытался превратить Средиземное море в итальянское озеро – это примеры географически обусловленного империализма на менее чем континентальной основе. Американская политика XIX века, заключающаяся в постепенном распространении американского господства на большую часть североамериканского континента, в первую очередь, но не исключительно, определяется географическими границами континента; ведь Соединенные Штаты не пытались подчинить своему господству Канаду и Мексику, хотя, безусловно, могли бы это сделать. Континентальный империализм здесь модифицируется ограничением его локализованным участком континента.
Такой же смешанный тип империализма составляет суть американской внешней политики в отношении географической единицы Западного полушария. Доктрина Монро, постулируя для Западного полушария политику статус-кво в отношении неамериканских держав, воздвигла защитный щит, за которым Соединенные Штаты могли установить свое господство в этом географическом регионе. Однако в этих географических пределах американская политика не всегда была единообразно империалистической. По отношению к республикам Центральной Америки и некоторым странам Южной Америки она была откровенно империалистической. Но по отношению к другим странам, таким как Аргентина и Бразилия, она стремилась скорее сохранить превосходство Соединенных Штатов, которое было результатом естественного процесса, а не целенаправленной американской политики. Даже если Соединенные Штаты имели возможность навязать свое превосходство этим странам в форме фактической гегемонии, они предпочли этого не делать. Здесь мы снова находим в общих рамках географически ограниченной политики локализованный империализм.
Прототип локализованного империализма можно найти в монархической политике восемнадцатого и девятнадцатого веков. В восемнадцатом веке Фридрих Великий, Людовик XV, Мария Тереза, Петр Великий и Екатерина II были движущими силами такой внешней политики. В девятнадцатом веке Бисмарк был хозяином этой империалистической политики, направленной на свержение статус-кво и установление политического преобладания в самостоятельно выбранных пределах. Разница между такой локализованной империалистической политикой, континентальным империализмом и неограниченным империализмом – это разница между внешней политикой Бисмарка, Вильгельма II и Гитлера. Бисмарк хотел установить преобладание Германии в Центральной Европе, Вильгельм II – во всей Европе, Гитлер – во всем мире. Традиционные цели российского империализма, такие как контроль над Финляндией, Восточной Европой, Балканами, ДарАмеллами и Ираном, также носят локализованный характер.
Пределы империализма этого типа не являются, как в случае с геограплнческим империализмом, продуктом объективных фактов природы, поскольку их изменение было бы технически сложным или политически неразумным. Напротив, тибеи являются результатом свободного выбора между несколькими вариантами, один из которых может быть политикой статус-кво, другой – консенсусом. В восемнадцатом веке третья альтернатива была рекомендована, поскольку существующее соглашение держав, каждая из которых была примерно одинаково сильна, препятствовало любой попытке континентального империализма. Опыт Людовика XIV показал, насколько опасной может быть такая попытка. Кроме того, империализм XVIII века был мотивирован в основном соображениями монархической власти и славы, а не массовыми эмоциями современного национализма. Эти соображения действовали в общих рамках монархических традиций и европейской цивилизации, которые налагали на участников политической сцены моральную сдержанность, отсутствующую в периоды религиозных или националистических крестовых походов.
В XIX веке элемент выбора, характерный для политики локализованного империализма, играет первостепенную роль в истории внешней политики Бисмарка. Во-первых, ему пришлось преодолеть сопротивление прусских консерваторов, которые выступали за политику статус-кво для Пруссии в противовес политике локализованного империализма Бисмарка, направленной на гегемонию внутри Германии. Когда победоносные войны сделали политику Бисмарка осуществимой, ее пришлось защищать от тех, кто теперь хотел выйти за пределы, установленные Бисмарком для гегемонии Пруссии, а затем и Германии. Отстранение Бисмарка Вильгельмом II ознаменовало конец локализованной и начало, по крайней мере, тенденции к континентальному империализму в качестве внешней политики Германии.


