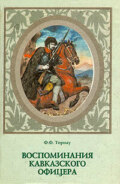Федор Торнау
Дело чести. Быт русских офицеров
Вечером, в час, 1-го августа, пришли мы к Смоленску. Между тем генерал наш Неверовский от Красного дал знать в армию, что неприятель в больших силах войска свои сосредоточил к Смоленску к битве. Во 2-м часу генерал послал меня за три версты от Смоленска узнать об одной помещичьей даче, занята ли она неприятелем. Мне указали тропинку. Лошадь моя не ела и была измучена до чрезвычайности. Спасибо, полковник наш дал мне свою. Думаю: как ехать? Ночь, лесом мелким, где много тропинок, как я один пущусь? Но в службе отговорок нет. Пустился я, и когда проехал кустарниками две версты, меня останавливает улан в белой шапке, потом другой и третий. Я приготовился шпагу свою отдать, думая, что поляки, но меня спросили, куда я еду и зачем. Я знал, что у нас уланов нет[31], и целый день насмотрелся на польских; но я отвечал, что еду на дачу, послан генералом. Они меня пропустили. Тогда и я, в свою очередь, спросил их, которого они полка, русские или поляки? Они сказали, что поляки, но служат в России, Литовского уланского полка. Я ободрился, как гора с плеч! Они мне показали пикет, где был офицер, у которого я узнал только, что впереди его казаки и они знают о даче, нужной мне, и был так добр, что дал мне по просьбе моей двух улан для конвоя и показать дорогу. Едва я проехал несколько шагов, на пригорке увидел всей французской армии биваки. Они были освещены огнем для варки пищи, и так близко, что можно было рассматривать, как они сидят у огня или лежат. Дача была занята казаками, но в нескольких шагах и аванпосты французские. Я обернул лошадь и вскоре был снова у генерала в Смоленске, донес ему, что дача занимается казаками и неприятель оттуда недалеко. Генерал приказал мне немедля взять две роты нашего полка 3-го батальона под командою майора Белявского и отвести на мызу в авангард; но не успели мы пройти версту, как на рассвете увидели отступающих к городу улан, после и казаков. Тогда и мы вернулись к полку.
Смоленская битва
Я уже сказал, что генерал Неверовской дал знать от Красного главнокомандующему, что неприятель идет к Смоленску. Посему немедленно был послан корпус Раевского и пришел к свету в Смоленск, а часть кавалерии ночью; оттого я и видел Литовский уланский полк. Раевский принял и нас в команду, сам остановился у Малаховских ворот и поставил на возвышенности батарею. Неприятель с рассветом дня сделал сильный натиск на город множеством стрелков; прежде сего пустил в город множество ядер, бомб и гранат, так что город во многих местах загорелся. Дело сие было на рассвете. Наш 1-й батальон, бывший под Красным и в ретираде от оного в резерве, поставлен в огороды, в стрелки; но как неприятельских стрелков было гораздо более, то наш несчастный батальон из тысячи человек[32] в течение ¼ часа вышел едва ли с 300 человеками: остальные были переранены, так что и одной роты нельзя было набрать[33]. Он и оставался где-то в городе оба дня сражения. Неприятель обложил весь город по Днепр. Наша первая армия стояла на горе за Днепром, а вторая билась два дня упорно, так что из первой армии дан был сикурс: 3-я дивизия Коновницына и лейб-егерский полк. Это угодно было цесаревичу, который сам был при первой армии. С начала сражения наш батальон отправился на правый фланг города или за город к кладбищу. Мы были весь день в стрелках по мелким кустам. Я был послан к генералу Раевскому просить помощи, ибо мы с 4 до 10 часов утра были одни и потеряли значительно людей, к тому же по обширности места удержать неприятеля не могли. Генерал приказал из дивизии принца Виртембергского полку Киевскому идти со мною, а после полудни была не только наша дивизия, да и много пехотных полков на пункте том, где мы несколько часов держались с батальоном. Отрядом нашим командовал генерал Оленин. Хотя я постоянно не был в стрелках, но по обязанности адъютанта водил по очереди из резерва роты в стрелки, что еще хуже: я был на лошади и в невысоких кустах мог быть верною целью. Весь день сражались неимоверно стойко, но к вечеру не могли вынести сильного напору и ретировались в город. Тогда генерал Оленин остановил бегущих, велев вывести орудие на улицу. Люди остановились и прогнали неприятеля, а драгуны после докончили, и на ночь город остался за нами. С рассветом на другой день также потеха возобновилась, но нас посылали только четыре раза в стрелки; батальон убавился более половины. Два ротных командира наповал были убиты; один из них убит возле своего дома, поручик Кунцевич, двое тяжело ранены, а прочих офицеров со мною на лицо из 21 оставалось 8.
Мы отдыхали на валу городском и смотрели, как сильно колонны подвигаются во множестве к городу; ибо нам и кусты все были видны с возвышения, как на тарелке. Утром, часов в 11, командир Одесского полка полковник Потулов, увидев меня сидящего с офицерами на земле, пригласил к себе закусить. Мы выпили водки и съели хорошей ветчины и телятины. Он очень был грустен, сказал, что вчерашний день у Малаховских ворот убили его любимую лошадь, и, взяв меня и адъютанта своего Аксентьева за руки, пошел ближе к валу, где у нас стояли пушки, посмотреть, как смело подымаются на гору французы; но едва успели мы подойди к концу горы, как несчастный полковник был убит наповал, держа нас за руки. Пуля прошла в грудь навылет в сердце, и он не сказал ни слова. Степан Степанович Потулов служил прежде капитаном в Преображенском полку, полковником произведен там же и назначен шефом Одесского полка, был умен и необыкновенной доброты. Весь полк о нем плакал; об офицерах и говорить нечего: он их баловал и был отцом для них. Тут же его и похоронили у стены Смоленска. Верно, родные впоследствии сделали ему памятник, но память о нем долго оставалась и по преданию в полку.
Сражение продолжалось до поздней ночи два дня, равно упорное, и удивительно, как могла наша вторая армия, из 6 дивизий с небольшим, держаться так долго в стенах Смоленска. Город не был укреплен, кроме что имеет каменную стену, почти такую же, как в Пскове. Первый день приступа неприятели по большей части все были поляки и итальянцы; но на второй – всех племен. Зрелище ужасное! Город горит, людей бьют, крик, стон, стукотня и трескотня с пожаром, и это до того присмотрелось, что мы могли есть и спать, не думая ни о чем. Под вечер вынесли из собора образ Смоленской Божией Матери, которая и была при армии не знаю долго ли, но пред сражением Бородинским 25 августа ее носили по рядам солдат обеих армий. Ночь с 5 на 6 августа все было тихо, батальон наш был в передовой цепи на том же месте, поротно. Я не спал и вздумал проехать вдоль реки к мосту. Не знаю, что меня завлекало видеть руины и узнать, будет ли или есть ли первая армия в Смоленске; ибо мы все роптали, что армия за городом хладнокровно смотрит на бой, а нам худо держаться. Подъезжая к мосту, вижу, что проходит войско. Я подъехал на мост, и штаб-офицер свиты его величества спрашивает у меня, нет ли там войска, откуда я приехал? Я сказал, что других не знаю, а есть наш батальон в цепи на правом фланге. Он просил меня скакать и велеть батальону немедля бегом прибыть сюда, ибо армия выходит из города и что он сей час зажигает мост, прежде чем будет рассветать, чтобы мост был уничтожен. Я, прискакав, объявил нашему майору Антонову, который долго не решался оставить без приказа своих начальников свой пост; но по убеждению моему велел подвигаться. Чрез четверть часа прискакал адъютант наш навстречу с приказанием идти бегом, что мост сожгут, и едва мы перебежали оный, как его взорвали, но бывший пред нами взвод Одесского полка, которому не дано было знать, и, быть может, и еще подобные остались: так и взяты в плен. Там был мой знакомый поручик Крутов; но я не знал тогда, и было каждому до себя. И так по случаю, что мне вздумалось проехаться, наш батальон и я спаслись от плена. То было Провидение Всевышнего. Я, проводя последний день в стрелках, был удивлен по возвращении на место к батальону: опустив руку в карман и вынув табакерку, заметил, что она разбита вдребезги, над карманом пробито. Осмотрел лошадь и нашел сзади в седле пулю, завязшую в обруче железном, а у казенной моей лошади в первый день сражения отбило копыто, когда я ее вел в поводу, указывая место 8-й роте, где наши стрелки. Сражение каждое есть велико для того, кто участвует в нем, потому что и одним выстрелом может повалить, как говорят, виноватого. Не умолчу об одном случае и верю, что есть предчувствие. У поручика 8-й роты нашего батальона была тетка, и у нее на форштате[34] свой дом. После сражения стрелки сменяются для отдыха довольно часто, тетка его приносила ему и нам завтраки, и он более 15 раз в два дня был в стрелках с удовольствием, брал пленных, был примерной храбрости офицер, в последний же раз около вечера пришла его очередь, он пошел к майору и убеждал его не посылать. Майор спросил, не болен ли он? – «Что ж, Иван Дмитриевич, я совершенно здоров; но тоска ужасная, идти не хочу, робость напала». Тот его убеждал и просил идти, сказывая, что ему будет стыдно и что он его за храбрость под Красным и в Смоленске представит к Владимиру с бантом. Пошел Кунцевич и против обыкновения простился со всеми нами, но едва рассыпались его стрелки, как был поражен пулей наповал. Я велел после его искать, чтобы похоронить, и что же? Его вечером принесли всего ограбленного: сапоги, сюртук и все сняли французы. Мы его похоронили на дворе его дома. Несчастная тетка его, бедная женщина, была неутешна и с нами вышла из города, а после мы ее потеряли из виду. Еще такой же был случай с прапорщиком, и тот убит!
Мы пошли из Смоленска, и на рассвете уже неприятели заняли город и отыскивали переправы; кажется, что они простояли в нем дня два.
Бородино и переформирование
Выйдя из Смоленска, мы шли по дороге в Петербург, хотя небольшие переходы, но дня три. Обозы наши были на Московской дороге, и мы продовольствия никакого не имели. Я ходил просить в полки нашей дивизии, но ни у кого не было хлеба; достал у иных круп, у других мяса, сварили кашицу, но хлеба ни сухаря не было ни у кого. После мы повернули на Московскую дорогу, где отыскали наши обозы, и после 3 дней очень рады были солдатскому сухарю. Не доходя Вязьмы, я узнал, что меня произвели в подпоручики, но не за отличие, а по линии, и я в этом чине в военное время более 4 лет служил. Меня представили к орденам, за Красное – к Св. Анне, на шпагу, а за Смоленск – к Владимиру 4-й степени, но не знаю, как это устроилось, что за оба сии сражения не дали нашей армии ни одному человеку, даже генералам, ничего. Многие сказывали причину, но я думаю, что она недостоверна: будто бы князь Багратион не мог сам утверждать наград, а должен был представлять об оных к Барклаю де Толи, чего он не хотел. Но как бы то ни было, а сие осталось нерешенным, почему нам ничего не дали, хотя нашего Невяровского за Красное дело обессмертили. Но ни он, ни мы, никто не был награжден, а за Смоленск следовало бы. И представления наши умерли вместе с князем[35]. Под Вязьмою дали нам рекрут из Вяземского депо. Тут я виделся с братом Василием. В Вязьме мы запаслись провизией даром. Жители все оставили город; нас или полк наш назначили в арьергард, что при ретираде означало сзади всех и всегда в виду неприятеля, в цепи стрелков.
Нашим арьергардом командовал граф Сиверс, а первой армии генерал Коновницын. Придя в Царево-Займище, мы узнали, что наш общий главнокомандующий – Кутузов. Много было пустых толков, да когда же и где их нет? Говорили, что Барклай – немец, изменяет, ведет француза в Москву, мало дерется, отдает города даром. Все подобные глупости беспрестанно повторялись, и очень рады были Михаилу Илларионовичу Кутузову.
Армия наша, кроме двух дней после Смоленска, везде имела продовольствие отличное: хлеба, мяса и вина всегда было довольно, даже с избытком. Спасибо командирам-отцам, мы были сыты вдоволь. Поговаривали, что Кутузов, приняв армию, даст потешиться нашим и остановит француза; но впоследствии оказалось, что Наполеон очень желал чаще сражений и бесился, что мы отступаем без боя, полагая своим множеством народа уничтожить нашу небольшую армию. Ошибся голубчик в расчете, сам себя скорее уничтожил. Кутузов и подлинно хотел дать сражение в Царевом Займище, но нашел, что позиция невыгодна, и отступил до Бородина, близ города Можайска в 9 верстах, а от Москвы в 90.
Я был послан в обоз привезти патронные ящики и продовольствие провианта, когда, возвращаясь обратно с ящиками и фурами и проезжая по дороге мимо Бородина, увидел множество возле харчевни генералов и офицеров. Я был позван к Кутузову, который сидел в сенях на скамеечке, окруженный большой свитой. Наряд мой был щегольской: шапка без козырька, старый изодранный сюртук, подпоясанный шарфом без кистей, чрез плечо на ремне нагайка казацкая, сабля у бедра и на тощем большом рыжаке. Я походил на рыцаря печального образа. В заключение сей экипировки была на плечах обгорелая на биваках байковая желтая бурка, я соскочил с рыжака, отдал его держать фурлейту, а сам подошел к главнокомандующему. Почтенный старик спросил меня, которого я полка, куда везу ящики и где наш полк? Я отвечал, что 50-го егерского полка, везу для бригады порох и хлеб, что полк наш в арьергарде второй армии. Он мне сказал, чтобы я ехал с его адъютантом, который покажет мне, где я должен остановиться и дожидаться своего полка, не трогаясь с места. Меня повели, и я рассматривал место и войска. Возле главнокомандующего, помню, был 1-й лейб-егерский полк, далее гвардия в колоннах, за ней первая армия, а после и наша вторая. Местоположение было первой армии очень возвышенное, внизу овраг и речка с кустами, а наше гораздо ниже и лес сбоку и пред нами. На месте, где я был остановлен, была батарея, называемая Раевского; место возвышенное, и тут я нашел уже полк наш отдыхающим. Привезенный провиант и вино были разобраны, но много вина еще оставалось, как неприятель начал посылать к нам из орудий большие круглые гостинцы. Вино[36] привозили обыватели, которые плакали, чтобы я их отпустил скорее и при каждом выстреле наклоняли головы свои. Я спросил у полковника, куда девать вино, его много. Он велел дать по другой чарке людям, а остальные бочки разбить, чтобы не перепились люди. Я исполнил и велел обручи рубить. Вино потекло, полилось, как 26-го числа кровь людей. Крестьяне, бросив телеги, а другие лошадей своих, бросились бежать.
Это было 24 августа в 2 часа пополудни. Не успели люди еще поесть, как приказано батальону идти в стрелки.
Бородинская резня
Описывать битву сию, незапамятную в истории, хотя бы я мог, узнав подробности ее после и читая описания многих очевидцев, но это будет лишнее: я пишу о себе, следовательно, и довольствуюсь тем, где я был и что сам видел.
24-го числа, как я сказал, в 2 часа не успели наши закусить, как батальон наш пошел в стрелки; а 3-я гренадерская рота подвинулась от полка вперед, но стали возле опушки леса, где и я был. Стрелки наши были в лесу часа три. Тогда неприятели правее нас стали показываться колоннами на поле. Нашей дивизии Тарнопольский полк пошел колонной в атаку с музыкой и песнями (что я в первый и последний раз видел). Он после бросился в штыки в глазах моих. Резня недолго была, и полкового их командира ранило в заднюю часть тела навылет пулею. Его понесли, и полк начал колебаться. Его место заступили, полк остановили, и он опять бросился в штыки и славно работал. После остановились, прогнали неприятеля, и нас сменили. Не знаю, что было после; но опять подошли к Раевского батарее, что было на конце левого фланга всей армии. Тогда ходили еще в атаку Александрийский и Ахтырский гусарские полки и храбро дрались из-за нас. На ночь мы опять пошли в стрелки и стояли смирно, а 25-го числа утром сменены были 49-м егерским полком, но ненадолго. После весь полк был несколько раз в стрелках и много потерял, а 49-й еще и более нас: у них потеря была очень велика. Во всей армии 25-е число было тихо, кроме нас. На левом фланге стрелков никто не замечал, а у нас в бригаде едва ли осталось по 30 человек в роте.
С 25-го на 26-е в ночи, близко нас, у неприятеля пели песни, били барабаны, музыка гремела, и на рассвете увидали мы: вырублен лес, и против нас, где был лес, явилась огромная батарея. Лишь только была заря, то зрелище открылось необыкновенное: стук орудий до того, что не слышно было до полудня ружейного выстрела, все сплошной огонь пушек. Говорят, что небо горело, но вряд ли кто видел небо за беспрестанным дымом. Егеря наши мало были в деле, но дело везде было артиллерийское, с утра против Нея, Мюрата и Даву корпусов. Наша дивизия была уничтожена. Меня опять послали за порохом, и я, проезжая верхом, не мог не только по дороге, но и полем проехать от раненых и изувеченных людей и лошадей, бежавших в ужаснейшем виде. Ужасы сии я описывать не в силах; да и теперь вспомнить не могу ужаснейшего зрелища. А стук от орудий был таков, что за пять верст оглушало, и сие было беспрерывно. Много о том писали и всем известно. Тут перо мое не может начертать всей картины. Проезжая поле, я увидел лошадей нашего полковника и спросил у музыканта Максимова, где полковник, не убит ли? К счастью, тот показал, что тут лежит, жив; он не сказал, а показал пальцем. Я подошел к нему, и он с горестью сказал, что полка нашего не существует. Это было в 7-м часов вечера. Я отослал ящики назад, а сам поехал вперед к деревне Семеновской, которая пылала в огне. На поле встретил я нашего майора Бурмина, у которого было 40 человек. Это был наш полк. Он велел сих людей вести в стрелки. Я пошел, и они мне сказали: «ваше благородие, наш полк весь тут, ведите нас последних добивать». Доподлинно, взойдя в лес, мне встретилась картина ужаснейшая и невиданная. Пехота разных полков, кавалерия спешившая без лошадей, артиллеристы без орудий. Всякий дрался чем мог, кто тесаком, саблей, дубиной, кто кулаками. Боже, что за ужас! Мои егеря рассыпались по лесу, и я их более не видал, и поехал к деревне Семеновской. Был уже 10-й час, пальба пушек не переставала с той же силою. На дороге я видел колонны русских и французов, как в игрушках согнутые карты, повалены дуновением ветра или пальцем. Картина ужасная. Но сердце замерло: ни одной слезы о несчастных! Наткнулся я на брата, который сказал, что он ранен в ногу. Я поделился с ним куском баранины[37], доставшейся мне от казначея Толовикова, когда я ездил за патронами. Возле деревни встретил я дивизионного начальника, который мне велел, где увижу, собирать к деревне Шевардино его дивизию 27-ю.
В 11 часов была дивизия собрана, всего до 700 человек. В Одесском командовал поручик, в Тарнопольском фельдфебель, и так далее; в нашем полковник и три офицера со мною.
В полдень 26-го я с капитаном нашим Шубиным поехал на пригорок, где слышался необыкновенный шум, и что же? Мы видим: два кирасирских полка, Новороссийский и Малороссийский, под командою генерал-лейтенанта Дуки, пошли на неприятельскую батарею. Картина была великолепная! Кирасиры показали свою храбрость: как картечь их не валила, но хотя половиною силы, они достигли своей цели, и батарея была их. Но что за огонь они вытерпели, то был ад! За любопытство наше капитану Шубину оторвали правую руку, но, впрочем, на все судьба: это могло бы, и не трогаясь с места, быть; от сего отделаться нельзя. Мы видели, как Семеновской полк, несколько часов стоя на позиции, не сделав ни одного выстрела, был ядрами уничтожаем. Я видел, когда сняли незабвенного нашего князя Багратиона с лошади, раненного в ногу, и как он был терпелив и хладнокровен: слезал с коня в последний раз и поощрял солдат отмстить за себя. Помощник Суворова, бывший с ним в Италии и Швейцарии, командовал всегда авангардом и, наконец, бывши главнокомандующим, не берег себя и по привычке был в сильном огне. Он не вынес раны и вскоре умер. Царство ему небесное! Армия много в этот день потеряла хороших генералов: утром убило Тучкова, в полдень Кутайсова, начальника артиллерии, и многих очень. И граф Милорадович поспел на веселый пир. Он пред сражением привел резервы. Граф Воронцов командовал возле нас сводными гренадерскими ротами двух батальонов[38]; в числе сих были и нашего полка. Ночь прекратила побоище неслыханное в летописях, и мы пошли к Можайску. Да и неприятель отступил. Скелеты полков нашей дивизии поступили к графу Милорадовичу в арьергард.
За Бородино дали мне на шпагу Св. Анны 3-й степени, и два еще капитану и прапорщику. Вот наши и все награды за всю Русскую кампанию. Полку серебряные трубы, полковнику Св. Анны и Владимира 3-й степени на шею.
Я забыл сказать, что 26-е число Московское ополчение стояло в колонне сзади нас на горе; их било ядрами исправно, и даром. Главнокомандующий сделал славное из них употребление: поставил их цепью сзади войска, чтобы здоровые люди не выносили раненых, а убирали бы ополченцы. Сделано славно, но безбожники грабили раненых, что я сам видел, везя патроны в полк, и трем саблею от меня досталось по спинам плашмя. Этими молодцами после сражения укомплектовали дивизию нашу, с оружием бог знает каким: кто имел пику, кто бердыш, у иного ружье, пистолет и нож, а кто был с дубиной. К нам дали их офицера в треугольной шляпе, который вскоре и бежал. Да и войско его дошло с нами только до Москвы, а после и десятой части их не осталось: все разбрелись, дружки[39].
От Можайска до Москвы мы не дрались, только иногда кавалерия, всегда сзади нас шедшая, переведывалась помаленьку. Мы подошли к Москве, остановились на Воробьевых горах. Вид чудесный! Вся старушка-Москва под ногами. Я, быв в Москве зимой, не был на горах сих и в первый раз любовался местоположением прелестным. Пробыв там почти сутки, я был послан по дороге Владимирской отыскать обозы наши и 49-го полка, взять фуры и, нагрузив их в магазине в Москве, доставить в полки. Верст за 20 от Москвы нашел я обоз и на рассвете был в Москве. Там ожидало меня новое зрелище. Магазин был заперт, караула нет, армии я не нашел; куда пошла, мне неизвестно, да и кто знает, куда ведут начальники? Ломать печати и замки беда, без хлеба ехать еще хуже. Я решился, однако, нагрузить фуры и поехал за толпою народа, который, вероятно, выезжал и выходил туда, куда пошла армия, к городу Подольску. Вообразить себе можно, какая давка и теснота была в Москве на выездах.
Жители были до того времени покойны и не выезжали, пока армия оставила Москву. Я видел сию тревогу и с 10 часов утра до 7 вечера с трудом с 8 фурами выехал за заставу. Отъехав с версту, вижу, что за мною выехала наша арьергардная кавалерия, в том числе были гвардейский[40], гусарский, уланский и драгунский полки с пиками (гусаров я еще первых увидел с пиками[41]); полки сии были очень невелики. Вскоре раздался залп из орудий неприятельских; это означало их вступление в нашу столицу, но для чего, я не знал: войска нашего там не было. Граф Милорадович сделал договор с Мюратом выпустить наши остальные войска из Москвы. Я продолжал путь и, отъехав 15 верст, уже ночью, увидел сильное зарево в Москве; белокаменная запылала. Но огонь ее очистил Россию от французов скоро: нет худа без добра. К свету настиг я на привале свой полк. На другой день шли к Подольску и повернули после круто на Калугу. Мы еще были в арьергарде, но, остановившись у села Воронова (Растопчина графа), мы уже были в авангарде: ибо ретироваться с сего пункта перестали. Граф Растопчин, истиннорусский, сжег сам свое село[42], чтобы нога неприятеля не ступила в его строение.
Дивизионный наш Неверовский просил графа Милорадовича, чтобы сменил дивизию его, разбитую до невозможности, сказав, что она без обуви, не имеет времени починиться, да и силами ослабела, всегда под выстрелами от Смоленска. «Знаю, ваше превосходительство, что дивизия ваша ослабела силами, но зато тверда духом!» – отвечал граф, и Неверовскому не оставалось более, как благодарить за честь, которую ему делает граф[43]. Церемония кончилась, а мы все остались в авангарде. Мы были еще в драке у реки Красной Пахры, и сия была уже для нас последняя. Подойдя к Тарутинскому лагерю, полки наши дошли до совершенного ничтожества: в нашем оставалось до 300 человек и 6 офицеров. Главнокомандующий уменьшил дивизию: из шести полков по два послал формироваться. Из нашей дивизии назначили Тарнапольский и наш 50-й егерский. Людей мы сдали в 49-й, оставив только 40 человек и полковой штаб. У нас было музыкантов с барабанщиками вдвое, чем весь полк. Наш бригадный Воейков просил меня идти к нему в адъютанты, ибо его адъютанта произвели в майоры. Я посоветовался с полковником, который мне не присоветовал, а взял с собою. Не знаешь, где найти и где потерять. Хорошо, что я не пошел к нему: он был бригадный одного полка и вскоре по болезни уехал в Петербург, и мы более о нем не слыхали: пропал без вести! По названию у нас все был полк, хотя 40 человек, но штаб был полка налицо.
Мы прошли Тулу и пошли в Нижегородскую губернию в исходе сентября. В каждом городе мы шли церемониально с музыкой, и когда проходили, то жители всегда спрашивали, где же полк? И мы показывали на наши остатки. Нас принимали везде, как родных; расспросов, разговоров не было конца. Стало уже холодно, и мы в ноябре пришли формироваться в город Ардатов, а главнокомандующий наш, генерал от инфантерии князь Лобанов-Ростовский, жил в Арзамасе; и кавалерийский же генерал Кологривов в Орле. Житье нам было в Ардатове! Скитавшись от апреля до 15 октября под открытым небом возле костров бивачных и быв беспрестанно в это время в опасности, можно вообразить, каково нам было! Городничий, судья, исправник, соляной пристав и откупщик Анцов – все люди богатые. У последнего была моя квартира, прекраснейшая, лучшая в городе. Пиры беспрестанные, разгулье молодецкое, и еще узнали, что француза погнали по старой разоренной дорожке. То-то была гульба! Раненые солдаты и офицеры к нам прибывали. Рекрут нам дали молодцов нижегородских. И мы с 15 октября до 1 декабря почти сформировали полк. Много прибывало и раненых, офицеров же не было половины комплекта. Мне дали 3-ю гренадерскую роту. Формировка продолжается сама по себе, а вечерами гульба ужасная. Вот что было у нас, пили напропалую. Музыканты отказывались от Цымлянского и выморозков[44]. Очень я доволен был, что избавился от адъютантской должности: на месте все бы ничего, а походом каторга; было время, что сам не раздевался и лошадь не расседлывал по два месяца. Полковой адъютант в канцелярии и батальонный, по приходе на место, нарядить должен команды за дровами и водой с офицером, после ехать в дивизионную квартиру за приказанием, а нередко и в корпусную. Поди, отыщи и там дожидайся, пока приказы будут. Их нужно выписать и отвезти к начальству, к бригадному и полковому, после собрать фельдфебелей, отдать приказание, а глядишь, уже свет и в поход. Спал я часто верхом, и сбоку солдаты придерживали; хуже не было в полку должности моей. Хозяин мой Ардатовский был большой хлебосол, гости и офицеры у него безвыходно были, я ему был как брат, и старший. Езжали к нему часто соседи, живущие в трех верстах от города, семейство Бухваловых, состоящее из старой вдовы, ее сына и двух дочерей. Сын пошел в ополчение, но я его еще застал дома. Меньшая дочь, Марья Федоровна, очень мне понравилась. Я, отдохнув, забыл про беду и влюбился. Девица хороша, думаю я, за нею 60 прекрасных душ. Мне, правда, ровесница, 21 года; что же, жениться не худо, ежели пойдет. Сказано – и сделано. Я объяснился с моим хозяином (большим другом семейства Бухваловых), он одобрил. Я чрез два дня посватал и имел полный успех. Вот я и жених, меня любят, ласкают, и я как сыр в масле. Что же? Узнаёт мой добрый полковник – залучил меня в свой кабинет и начал журить по-отечески. Он мне сказал: «Что ты, брат Николай Иванович, задумал? Ужели ты век прожил; какого ты чина? Какое теперь у нас обстоятельство? Правда, девица хороша, но что же дальше? Ты очень еще молод, поспеешь жениться; а теперь что же будет? Отставки тебе в военное время не дадут; но хотя бы и дали оную, какую ты играть будешь роль в 20 лет в отставке? Подпоручик, имеющий Св. Анны на шпаге и медаль. И тебя выберут в заседатели в земский суд, привяжешь колокольчик к дуге, и вот блестящая твоя карьера. Того ли ожидает от тебя твой отец? Вот послужил сын его Отечеству ровно год! Ты молод, не понимаешь, что будет. За нею дадут хорошо 60 душ; подумай, у тебя будут дети, может быть, и много; ты размножишь слободу однодворцев[45], ты от скуки захочешь служить, состояние небольшое, жену оставишь дома. Сам влюбишься опять в другую: вот твоя перспектива! Словом, я тебе никак не позволяю сделать такую наивеличайшую глупость; выкинь из головы, займись лучше ротой, а частые твои поездки прекрати. Поди с богом, я твоих возражений и слушать не хочу; есть ли же не перестанешь ездить, то я поеду к ним сам и скажу, что мне отцом препоручен, и я, как отец и как начальник твой, тебе строго запрещаю жениться». Что было мне делать! Говорить – хуже: я знаю горячий нрав его; беда, что наделает! Бог знает, лучше молчать, а свое делать. Представится случай, мое не уйдет. Теперь Рождественский пост; вот как кончится, хозяин мой поможет, сделаем свадьбу втихомолку, у нас священник добрый, и Ардатовский дьякон, лихой игрок в карты, в бильярд и пойдет куда угодно! Ему знакомы другие попы, он устроит; часто он ночи просиживал до обедни, идет в церковь, в мелу замаран, проигравши. Ему тихонько покажешь карту с углом: он доволен, полагая отыграться! Человек располагает, а Бог управляет. Я немедля же поехал к Бухваловым. Когда же возвратился от них, мне сказали, что полковник за мною три раза присылал. Я иду. Вижу его серьезную мину. Он мне сказал: «Вот, любезнейший, всему конец. Полно тебе дурачиться: поздравляю тебя с походом: мы идем послезавтра в Орел. А тебе вот предписание: поезжай сейчас в слободу, отсюда за 60 верст – там найдешь 120 рекрут Житомирской губернии, прими их и артельные деньги, и выходи ко мне навстречу: тебе не далее будет 15 верст по тракту к городу Темникову Рязанской губернии. Возьми с собою трех старых солдат твоей роты, унтер-офицеров не бери. Прощай, поспеши: я буду дневать чрез два дня, и туда явишься». Взял я бумагу и думаю: прощай, быть может, и навек! Иду я к хозяину, сказываю свою беду; он спросил: «Что же вы намерены делать?» – «Жениться после праздника непременно, а там что Бог даст!» Вот я делаюсь против службы первый раз преступником! Прошу хозяина завтра съездить к невесте и уверить ее, что я скоро буду. Забрал в дорогу харчей и чаю, лошади готовы, вот я и в дороге.