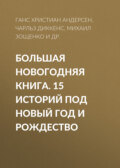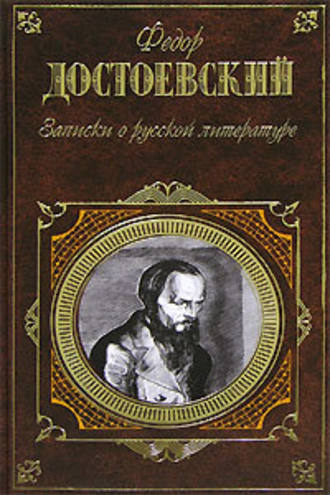
Федор Достоевский
Записки о русской литературе
А. Н. Майкову
Дрезден 9/21 октября / 1870.
<…> Кто теряет свой народ и народность, тот теряет и веру отеческую и бога. Ну, если хотите знать, – вот эта-то и есть тема моего романа. Он называется «Бесы», и это описание того, как эти бесы вошли в стадо свиней. Безо всякого сомнения, я напишу плохо; будучи больше поэтом, чем художником, я вечно брал темы не по силам себе. И потому испорчу, это наверно. Тема слишком сильна. Но так как еще никто, из всех критиков, судивших обо мне, не отказывал мне в некотором таланте, то, вероятно, и в этом длинном романе будут места недурные. <…>
Н. Н. Страхову
Дрезден 9/21 октября / 1870 г.
<…> Говорят, что тон и манера рассказа должны у художника зарождаться сами собою. Это правда, но иногда в них сбиваешься и их ищешь. Одним словом, никогда никакая вещь не стоила мне большего труда. Вначале, то есть в конце прошлого года, – я смотрел на эту вещь, как на вымученную, как на сочиненную, смотрел свысока. Потом посетило меня вдохновение настоящее – и вдруг полюбил вещь, схватился за нее обеими руками – давай черкать написанное. Потом летом опять перемена: выступило еще новое лицо, с претензией на настоящего героя романа, так что прежний герой (лицо любопытное, но действительно не стоящее имени героя) стал на второй план. Новый герой до того пленил меня, что я опять принялся за переделку. И вот теперь, как уже отправил в редакцию «Р<усского> вестника» начало начала – я вдруг испугался: боюсь, что не по силам взял тему. Но серьезно боюсь, мучительно! А между тем я ведь ввел героя не с бух-да-барах. Я предварительно записал всю его роль в программе романа (у меня программа в несколько печатных листов), и вся записалась одними сценами, то есть действием, а не рассуждениями. И потому думаю, что выйдет лицо и даже, может быть, новое; надеюсь, но боюсь. Пора же наконец написать что-нибудь и серьезное <…>
Статья о Полонском мне понравилась очень. Бесспорно, важная тема о том, в чем заключается истинная поэзия? Но еще бы, мне кажется, лучше было, если б Вы распространились при этом и о том, – что именно составляет фальшивую, напускную поэзию. Клянусь Вам, Николай Николаевич, что публика теперешняя уже далеко не та, чем во времена нашей юности. Теперешней уже многое надо вновь растолковывать. Ах, Николай Николаевич, – будьте позлее! <…>
Каждодневно делаю прогулку и прочитываю по нескольку газет, между прочим и две русские. По-моему, все эти потрясающие современные события будут иметь непосредственное и скорое влияние и на нашу русскую жизнь, а стало быть, и на литературу. Во всяком случае времена необыкновенные. Не думаю, чтоб литература проиграла в своем влиянии и значении. Напротив, во всяком случае выиграет, но читая, например, газеты русские, так и чувствуешь, до какой степени это скороспело и без собственной мысли <…>
А. Н. Майкову
Дрезден 15/27 декабря / 1870.
<…> Название романа «Бесы» (все те же «бесы», о которых писал Вам как-то с эпиграфом из Евангелия). Хочу высказаться вполне открыто и не заигрывая с молодым поколением. <…>
Н. Н. Страхову
Дрезден 5 мая/23 апреля <18>71.
<…> Вследствие громадных переворотов, начиная с гражданских и доходя до тесно-литературного цикла, у нас разбилось, рассеялось на некоторое время и понизилось общественное образование и понимание. Люди вообразили, что им уже некогда заниматься литературой (точно игрушкой, каково образование!), и уровень критического чутья и всех литературных потребностей страшно понизился. Так что всякий критик, кто бы у нас ни появился, не произвел бы теперь надлежащего впечатления. Добролюбовы и Писаревы имели успех именно потому, что, в сущности, отвергали литературу – целую область человеческого духа. Но потакать этому невозможно и продолжать критическую деятельность все-таки должно. Простите же и меня за совет, но вот как бы я поступил на Вашем месте теперь.
У Вас была, в одной из Ваших брошюр, одна великолепная мысль и, главное, первый раз в литературе высказанная, – это: что всякий, чуть-чуть значительный и действительный талант – всегда кончал тем, что обращался к национальному чувству, становился народным, славянофильским. Так свистун Пушкин, вдруг, раньше всех Киреевских и Хомяковых, создает летописца в Чудовом монастыре, то есть раньше всех славянофилов высказывает всю их сущность и, мало того, – высказывает это несравненно глубже, чем все они до сих пор. Посмотрите опять на Герцена: сколько тоски и потребности поворотить на этот же путь и невозможность из-за скверных свойств личности. Но этого мало: этот закон поворота к национальности можно проследить не в одних поэтах и литературных деятелях, но и во всех других деятельностях. Так что, наконец, можно бы вывесть даже другой закон: если человек талантлив действительно, то он из выветрившегося слоя будет стараться воротиться к народу, если же действительного таланта нет, то не только останется в выветрившемся слое, но еще экспатриируется, перейдет в католичество и проч., и проч. <…>
Н. Н. Страхову
Дрезден 18/30 мая <1871>.
<…> Неужели я Вам не писал про Вашу статью о Тургеневе? Читал я ее, как все Ваши статьи, – с восхищением, но и с некоторой маленькой досадой. Если Вы признаете, что Тургенев потерял точку и виляет и не знает, что сказать о некоторых явлениях русской жизни (на всякий случай относясь к ним насмешливо), то должны бы были и признать, что великая художественная способность его ослабела (и должна была ослабеть) в последних его произведениях. Так оно и есть в самом деле, он очень ослабел как художник. «Голос» говорит, что это потому, что он живет за границей; но причина глубже. Вы же признаете и за последними произведениями его прежнюю художественность. Так ли это? Впрочем, я, может быть, ошибаюсь (не в суждении о Тургеневе, а в Вашей статье). Может быть, Вы не так только выразились… А знаете – ведь это все помещичья литература. Она сказала все, что имела сказать (великолепно у Льва Толстого). Но это в высшей степени помещичье слово было последним. Нового слова, заменяющего помещичье, еще не было, да и некогда. (Решетниковы ничего не сказали. Но все-таки Решетниковы выражают мысль необходимости чего-то нового в художническом слове, уже не помещичьего – хотя и выражают в безобразном виде.)
В. Д. Оболенской
Петербург 20 января / 1872 г.
<…> в нашем литературном мирке все <…> так условно, так двусмысленно и со складкой, а стало быть, все так скучно и официально, особенно похвалы и лестные отзывы. Насчет же Вашего намерения извлечь из моего романа драму, то, конечно, я вполне согласен, да и за правило взял никогда таким попыткам не мешать; но не могу не заметить Вам, что почти всегда подобные попытки не удавались, по крайней мере, вполне.
Есть какая-то тайна искусства, по которой эпическая форма никогда не найдет себе соответствия в драматической. Я даже верю, что для разных форм искусства существуют и соответственные им ряды поэтических мыслей, так что одна мысль не может никогда быть выражена в другой, не соответствующей ей форме.
Другое дело, если Вы как можно более переделаете и измените роман, сохранив от него лишь один какой-нибудь эпизод, для переработки в драму, или, взяв первоначальную мысль, совершенно измените сюжет… И однако же, отнюдь прошу не принимать моих слов за отсоветывание. Повторяю, я совершенно сочувствую Вашему намерению, а Ваше желание непременно довести дело до конца мне чрезвычайно лестно…
31 января 1873. Запись в альбом О. Козловой
<…> Несмотря на все утраты, я люблю жизнь горячо, люблю жизнь для жизни и, серьезно, все еще собираюсь начать мою жизнь. Мне скоро пятьдесят лет, а я все еще никак не могу распознать: оканчиваю ли я мою жизнь или только лишь ее начинаю. Вот главная черта моего характера; может быть, и деятельности.
М. П. Федорову
Петербург, 19 сентября/ <18>73.
<…> Вот что скажу я Вам окончательно: <…> я не решаюсь и не могу приняться за поправки. 15 лет я не перечитывал мою повесть «Дядюшкин сон». Теперь же, перечитав, нахожу ее плохою. Я написал ее тогда в Сибири, в первый раз после каторги, единственно с целью опять начать литературное поприще и ужасно опасаясь цензуры (как к бывшему ссыльному). А потому невольно написал вещичку голубиного незлобия и замечательной невинности. Еще водевильчик из нее бы можно сделать, но для комедии – мало содержания, даже в фигуре князя – единственной серьезной фигуре во всей повести.
И потому, как Вам угодно: хотите поставить на сцену, ставьте; но я умываю руки и переправлять сам ни одной строчки не буду. Кроме того, об одном прошу настоятельно и обязательно: имени моего на афишах чтобы не было, то есть «переделано из повести „Д<ядюшкин> с<он>“ господ<ина> Достоевского», или в этом роде, – прошу Вас, чтобы не было выставлено. Если же непременно надо, просто напишите: «Переделано из повести». Только чтоб не было моего имени.
Конечно, лучше бы было совсем ее не ставить. Вот мой совет. Но так как я уже дал Вам слово вначале, а Вы употребили труд, то уже нечего делать: все в Вашей воле.
Замечу только одно, и то мимоходом: кажется, нет пропорции в величине актов? Посоветовались бы Вы в Москве с кем из актеров, знающих сцену практически. (Я тоже ведь никогда ничего не писал для сцены.) И, во всяком случае, хорошо бы сократить. Что еще идет в повести, не пройдет на сцене. Сцена не книга. А потому, чем больше сокращений, тем бы, мне кажется, лучше <…>.
А. Г. Достоевской
Понедельник 6 июля 1874 г.
<…> работа моя туго подвигается, и я мучусь над планом. Обилие плана – вот главный недостаток. Когда рассмотрел его в целом, то вижу, что в нем соединилось четыре романа. Страхов всегда видел в этом мой недостаток. Но еще время есть. Авось, управлюсь. Главное план, а работа самая легче.
П. А. Козлову
Старая Русса, 1-е марта / <18>75.
<…> Будет ли в Вашем альманахе критическая статья (обзор литературы за год)? Этим чрезвычайно бы выиграло издание, особенно при хорошей статье. Всего более нужна теперь в литературе критика и всего более ее ищут и читают. <…>
А. Н. Плещееву
Старая Русса, 21 августа <18>75.
<…> вот что главное: нельзя ли как-нибудь, чтоб ничего не выкидывали. У меня каждое лицо говорит своим языком и своими понятиями. Притом же «Странник», говорящий «от Писания», у меня говорит чрезвычайно осторожно, я сам держал цензуру каждого слова. <…>
Я. П. Полонскому
4 февраля / <18>76.
<…> Хотел очень (и хочу) писать о литературе, и об том именно, о чем никто, с тридцатых еще годов, ничего не писал: О ЧИСТОЙ КРАСОТЕ. Но желал бы не сесть с этими темами и не утопить «Дневник (писателя)». <…>
X. Д. Алчевской
Петербург. 9 апреля/ <18>76.
<…> я вывел неотразимое заключение, что писатель – художественный, – кроме поэмы, должен знать до мельчайшей точности (исторической и текущей) изображаемую действительность. У нас, по-моему, один только блистает этим – граф Лев Толстой. Victor Hugo,[25] которого я высоко ценю как романиста (за что, представьте себе, покойник Ф. Тютчев на меня даже раз рассердился, сказавши, что «Преступление и наказание» (мой роман) выше «Misérables»,[26] хотя и очень иногда растянут в изучении подробностей, но, однако, дал такие удивительные этюды, которые, не было бы его, так бы и остались совсем неизвестными миру. Вот почему, готовясь написать один очень большой роман, я и задумал погрузиться специально в изучение – не действительности, собственно, я с нею и без того знаком, а подробностей текущего. Одна из самых важных задач в этом текущем, для меня, например, молодое поколение, а вместе с тем современная русская семья, которая, я предчувствую это, далеко не такова, как всего еще двадцать лет назад. Но есть и еще многое, кроме того. Имея 53 года, можно легко отстать от поколения при первой небрежности. Я на днях встретил Гончарова, и на мой искренний вопрос: понимает ли он все в текущей действительности или кое-что уже перестал понимать, он мне прямо ответил, что многое «перестал понимать». Конечно, я про себя знаю, что этот большой ум не только понимает, но и учителей научит, но в том известном смысле, в котором я спрашивал (и что он понял с 1/4 слова. NB. Это между нами), он, разумеется, – не то что не понимает, а не хочет понимать <…>.
В. А. Алексееву
<7 июня 1876 г.>
<…> Христос <…> знал, что одним хлебом не оживишь человека. Если притом не будет жизни духовной, идеала Красоты, то затоскует человек, умрет, с ума сойдет, убьет себя или пустится в языческие фантазии. А так как Христос в Себе и в Слове своем нес идеал Красоты, то и решил: лучше вселить в души идеал Красоты; имея его в душе, все станут один другому братьями и тогда, конечно, работая друг на друга, будут и богаты. <…>
Но если дать и Красоту и Хлеб вместе? Тогда будет отнят у человека труд, личность, самопожертвование своим добром ради ближнего — одним словом, отнята вся жизнь, идеал жизни. И потому лучше возвестить один свет духовный. <…>
А. Г. Достоевской
Эмс, 15/27 июля. Четверг / <18>76.
<…> взял Zolà, потому что ужасно пренебрегал за последние годы европейской литературой, и представь себе: едва могу читать, такая гадость. А у нас кричат про Zolà как про знаменитость, светило реализма. <…>
С. Е. Лурье
Петербург 17 апреля/ <18>77.
<…> Насчет Виктора Гюго я, вероятно, Вам говорил, но вижу, что Вы еще очень молоды, коли ставите его в параллель с Гете и Шекспиром. «Les Misérables» я очень люблю сам. Они вышли в то время, когда вышло мое «Преступление и наказание» (то есть они появились 2 года раньше). Покойник Ф. И. Тютчев, наш великий поэт, и многие тогда находили, что «Преступление и наказание» несравненно выше «Les Misérables». Но я спорил со всеми искренно, от всего сердца, в чем уверен и теперь, вопреки общему мнению всех наших знатоков. Но любовь моя к «Les Misérables» не мешает мне видеть их крупные недостатки. Прелестна фигура Вальжана и ужасно много характернейших и превосходных мест. Об этом я еще прошлого года напечатал в моем «Дневнике». Но зато как смешны его любовники, какие они буржуа-французы в подлейшем смысле! Как смешны бесконечная болтовня и местами риторика в романе, но особенно смешны его республиканцы – вздутые и неверные фигуры. Мошенники у него гораздо лучше. Там, где у него эти падшие люди истинны, там везде со стороны Виктора Гюго человечность, любовь, великодушие. <…>
А. П. Налимову
Мая 19. Четверг <1877 г.>.
<…> Вы умный человек и сами можете понять, что вопросы Ваши, мне Вами заданные, как-то отвлеченны, дымны, да и личности Вашей я, к тому же, совсем ведь не знаю. Меня то же мучило, что и Вас, еще с 16-ти, может быть, лет, но я как-то уверен был, что рано или поздно, а непременно выступлю на поприще, а потому (безошибочно вспоминаю это) не беспокоился очень. Насчет же места, которое займу в литературе, был равнодушен: в душе моей был своего рода огонь, в который я и верил, а там, что из этого выйдет, меня не очень заботило, ну вот и весь мой опыт, про который Вы спрашиваете. <…>
Л. А. Ожигиной[27]
Петербург, 28 февраля 1878 г.
Вы думаете, я из таких людей, которые спасают сердца, разрешают души, отгоняют скорбь? Иногда мне это пишут – но я знаю наверно, что способен скорее вселить разочарование и отвращение. Я убаюкивать не мастер, хотя иногда брался за это. А ведь многим существам только и надо, чтоб их баюкали.
Н. А. Любимову
Старая Русса, 10 мая 1879
Сегодня выслал на Ваше имя в редакцию «Р<усского> вестника» два с половиною (minimum) текста «Братьев Карамазовых» для предстоящей майской книги «Р<усского> в<естни>ка».
Это книга пятая, озаглавленная «Pro и contra», но не вся, а лишь половина ее. 2-я половина этой 5-й книги будет выслана (своевременно) для июньской книги, и заключать будет три листа печатных. Я потому принужден был разбить на 2 книги Р<усского> в<естни>ка эту 5-ю книгу моего романа, что, во-1-х). Если бы даже и напряг все усилия, то кончил бы ее разве к концу мая (за сборами и переездом в Старую Руссу – слишком запоздал), стало быть не получил бы корректур, а это для меня важнее всего, во-2-х. Эта 5-я книга, в моем воззрении, есть кульминационная точка романа, и она должна быть закончена с особенною тщательностью. Мысль ее, как Вы уже увидите из посланного текста, есть изображение крайнего богохульства и зерна идеи разрушения нашего времени в России, в среде оторвавшейся от действительности молодежи, и рядом с богохульством, с анархизмом – опровержение их, которое и приготовляется мною теперь в последних словах умирающего старца Зосимы, одного из лиц романа. Так как трудность задачи, взятой мною на себя, очевидна, то Вы, конечно, поймете, многоуважаемый Николай Алексеевич, и извините то, что я лучше предпочел растянуть на 2 книги, чем испортить кульминационную главу мою поспешностью. В целом глава будет исполнена движения. В том же тексте, который я теперь выслал, я изображаю лишь характер одного из главнейших лиц романа, выражающего свои основные убеждения. Эти убеждения есть именно то, что я признаю синтезом современного русского анархизма. Отрицание не бога, а смысла его создания. Весь социализм вышел и начал с отрицания смысла исторической действительности и дошел до программы разрушения и анархизма. Основные анархисты были, во многих случаях, люди искренно убежденные. Мой герой берет тему, по-моему, неотразимую: бессмыслицу страдания детей – и выводит из нее абсурд всей исторической действительности. Не знаю, хорошо ли я выполнил, но знаю, что лицо моего героя в высочайшей степени реальное. (В «Бесах» было множество лиц, за которые меня укоряли как за фантастические, потом же, верите ли, они все оправдались действительностью, стало быть, верно были угаданы. Мне передавал, например, К. П. Победоносцев о двух-трех случаях из задержанных анархистов, которые поразительно были схожи с изображенными мною в «Бесах».) Все, что говорится моим героем в посланном Вам тексте, основано на действительности. Все анекдоты о детях случались, были, напечатаны в газетах, и я могу указать, где, ничего не выдумано мною. Генерал, затравивший собаками ребенка, и весь факт – действительное происшествие, было опубликовано нынешней зимой, кажется, в «Архиве» и перепечатано во многих газетах. Богохульство же моего героя будет торжественно опровергнуто в следующей (июньской) книге, для которой и работаю теперь со страхом, трепетом и благоговением, считая задачу мою (разбитие анархизма) гражданским подвигом. <…>
<…> В посланном тексте, кажется, нет ни единого неприличного слова. Есть лишь одно, что ребеночка 5 лет мучители, воспитавшие его, за то, что она не могла проситься ночью, обмазывали ее же калом. Но это прошу, умоляю не выкидывать. Это из текущего уголовного процесса. Во всех газетах <…> сохранено было слово кал. Нельзя смягчать, Николай Алексеевич, это было бы слишком, слишком грустно! Не для 10-летних же детей мы пишем. Впрочем я убежден, что Вы и без моей просьбы сохранили бы весь мой текст.
Еще об одном пустячке. Лакей Смердяков поет лакейскую песню, и в ней куплет:
Славная корона,
Была бы моя милая здорова.
Песня мною не сочинена, а записана в Москве. Слышал ее еще 40 лет назад. Сочинилась она у купеческих приказчиков 3-го разряда и перешла к лакеям, никем никогда из собирателей не записана, и у меня в первый раз является.
Но настоящий текст куплета:
Царская корона,
Была бы моя милая здорова.
А потому, если найдете удобным, то сохраните, ради бога, слово царская вместо славная, как я переменил на случай. (Славная-то само собой пройдет.)
К. П. Победоносцеву
Старая Русса, 19 мая 1879.
<…> эта книга в романе у меня кульминационная, называется «Pro и contra», а смысл книги: богохульство и опровержение богохульства. Богохульство-то вот это закончено и отослано, а опровержение пошлю лишь на июньскую книгу. Богохульство это взял, как сам чувствовал и понимал сильней, то есть так именно, как происходит оно у нас теперь в нашей России у всего (почти) верхнего слоя, а преимущественно у молодежи, то есть научное и философское опровержения бытия божия уже заброшено, им не занимаются вовсе теперешние деловые социалисты (как занимались во все прошлое столетие и в первую половину нынешнего). Зато отрицается из всех сил создание божие, мир божий и смысл его. Вот, в этом только современная цивилизация и находит ахинею. Таким образом, льщу себя надеждою, что даже и в такой отвлеченной теме не изменил реализму. Опровержение сего (не прямое, то есть не от лица к лицу) явится в последнем слове умирающего старца.
Меня многие критики укоряли, что я вообще в романах моих беру будто бы не те темы, не реальные и проч. Я, напротив, не знаю ничего реальнее именно этих вот тем. <…>