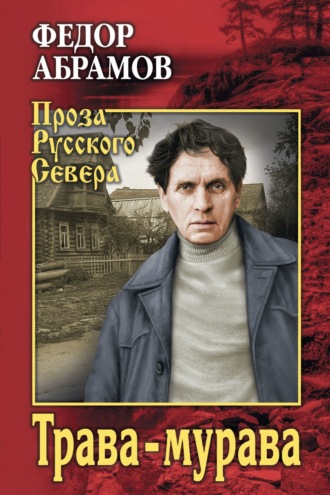
Федор Абрамов
Трава-мурава
Матвей обернулся к стоявшему сзади Никону, кивнул на старые подсанки, приставленные к придорожной стене:
– Поставь сюда.
Никон поставил подсанки так, как велел Матвей, – вдоль стены, напротив ворот в поле. К среднему вязу подсанок прикрепил веревкой ружье так, чтобы, повернув его, под обстрелом оказались и те ворота, которые выходят на дорогу, и те, что обращены к чернолесью.
– Н-да, – покачал головой Никон, – охота…
– Давай животину.
Барана привязали на веревку в углу за подсанками – снегу разгребли, настлали соломы. Бедный баран с перепугу заметался, заблеял, но, получив сено, успокоился.
«Кажется, все как надо, – подумал Матвей. – Въехали в конюшню незаметно. А ежели зверь и следил откуда из кустов – обыкновенная подвода с соломой».
Глухо стукнув деревянной ногой, он лег на солому к прикладу ружья.
Светало. На бледной замети снега, присыпанной махорчатыми семенами чертополоха, отчетливо выступила голубая цепочка горностаевых следов. Заснеженные ветки кустарника торчат, как оленьи рога, и кажется, там, за воротами, сгрудилось оробелое стадо и чутко и настороженно прислушивается к предрассветной тишине.
Никон сказал полушепотом, зябко прикрывая рукой рот:
– Барана смотри не заморозь. А то моя баба… Знаешь…
Ни звука в ответ. Хрустит сено на зубах у барана, да на дороге позвякивает удилами кобыла.
Никон с какой-то непонятной робостью поднял голову к зимнему небу, перекрытому мохнатыми, в белой кухте теснидами, посмотрел еще раз на Матвея, неподвижно лежащего у ружья, нацеленного в холодную хмарь чернолесья, и пошел к лошади.
6
Никон Мерзлый жил как медведь: в будни колхозная работа с утра до вечера, в редкие праздники лежка на своем болоте: либо в избе, либо на сеновале – смотря по погоде. И никаких мужичьих развлечений: ни выпивки, ни курева. А все потому, уверяли люди, что жену его звали Улей-ягодкой. Маленькая, худущая, вечно жалующаяся на болезни, она как оса кружилась вокруг своего мужика-великана: и то не так, и это не так.
Мужики советовали:
– Задай ты ей хоть раз сабантуй – небось сразу придет в чувство.
– A-а, ладно, – отмахивался Никон. – И без того шуму на земле хватает.
И самое большое, на что отваживался он, когда уж совсем невтерпеж становился зуд жены, это ронял два-три слова:
– A-а, отстань, ржавчина…
В тот самый час, когда Никон выезжал с Матвеем со двора, Ульяна доила корову. Барана она хватилась днем.
– Никон, Никон! – ворвалась она с криком в избу. – Барана волк унес.
Никон по случаю воскресенья законно лежал на кровати: босые разлапистые ноги на спинке (мала была старая отцовская кровать для его саженного тела), руки за курчавой головой, а маленькие зеленые глазки в младенческой опуши светлых ресниц нацелены на сук в потолке – верный признак того, что Никон думает.
– Чего лежишь, боров? Кому говорю? – взбеленилась Ульяна. – Барана, говорю, волк унес.
Никон нехотя сел на кровать, почесал за воротом.
– Ты того… может, в углу где недосмотрела…
– Что ты, лешак глупый! Хлев-то не лес, баран не иголка. Я уже знала, не к добру пришел вчера тот пьяница…
В конце концов Никон признался, где баран.
Ульяна, наверно, с минуту, а то и больше таращила на него острые, округлившиеся глаза, а потом ее прорвало, как худую плотину:
– Дуролом! Безмозглая образина! Да где это слыхано, чтобы на волка с бараном ходили! Да тот босяк выманил его, чтобы пропить со своими пьянчугами!
Никон сидел перед женой, как провинившийся школьник, не подымая головы. В том, что Матвей не надул его, он не сомневался. Но, с другой стороны, слова жены немало смутили его, тем более что ему самому не очень серьезной представлялась затея Матвея.
К вечеру даванул мороз. Никон сходил за дровами, затопил маленькую печку.
– Вот как, тепла захотелось! – съязвила Ульяна. – А там-то как? Смотри, лешак, замерзнет тот пьяница – засудят тебя!
Назавтра утром, придя с надворья, Ульяна стала приготовлять пойло.
– Неси, – сказала она мужу. – Баран-то ревом ревет – пить хочет.
– Эка ты, баба… – развел руками Никон. – Да молчаливый-то баран зачем ему? Надо, чтобы зверь чуял.
– Чуял, чуял! Согнал бы со всей деревни собак – еще бы лучше учуял.
Никону нечего было сказать. И в самом деле, почему Матвею не взять было собаку вместо барана? Или на такую приманку, как овца, скорее зверь попадется?
Ульяна взялась за шайку сама – разве сдвинешь с места этого дьявола? – но Никон вдруг с такой силой пнул шайку, что Ульяна вплоть до ужина – первый раз в жизни! – не раскрыла рта.
В тот день Никон не пошел на работу. Лег на кровать – глаза в потолок – и не пошевелился до вечера.
– Может, и жрать разучился? – спросила Ульяна за ужином.
Никон встал, снова затопил печку и сел к огню.
На печи заливалась сонным свистом Ульяна; собака, впущенная на ночь в избу, ворочалась, урчала, выщелкивая зубами блох…
Когда погасли в печке угли, Никон накинул полушубок, вышел на улицу. Мороз все густел. Звездное небо волчьими глазами сторожило закоченевшую землю.
Никон прошел по тропинке на дорогу и долго смотрел на черные – в мглистом сиянии – развалины конюшни. Что там сейчас делается? Жив ли Матвей? Может, замерз уже?
Весь день его неотступно преследовали эти мысли. Ему хотелось броситься в конюшню, разом оборвать эту несуразную затею – ведь нельзя же погибать человеку из-за какого-то волка! Но он хорошо запомнил слова Матвея: «Не приходи, пока не услышишь выстрелов». И еще он запомнил его глаза в ту самую ночь – глаза человека, приговорившего себя к смерти…
Томясь от неизвестности, от сознания собственного бессилия, Никон медленно бродил вокруг своего дома, то и дело поглядывая в сторону конюшни.
Под утро он замерз, зашел обогреться в избу.
Выстрелы один за другим прозвучали на рассвете. Но их не слышали ни сам Никон, спавший сидя на скамейке у печки, ни сладко похрапывающая на печи Ульяна. Только пес вдруг вскочил и громко-громко залаял на всю избу.
7
Утром к дому Никона Мерзлого сбежалась чуть ли не вся деревня: ребятишки, мужики, женки, старики.
Волк лежал посреди заулка на плотно умятом снегу. Он был страшен и сейчас, этот серый разбойник. Клыкастая морда оскалена, седая шерсть торчком стояла на короткой толстой шее. И слухи о хромоногом страшилище тоже имели под собой почву: одна передняя лапа была без подушки.
Но волк был мертв, и его сейчас никто не боялся.
Мальчишки, ухватившись за толстый негнущийся хвост, переворачивали его с боку на бок, тянули за ноги, тыкали пальцами в оскаленную пасть, при этом визгливо вскрикивая и пятясь от страха назад. Но особенно лютовали женки. Они пинали волка ногами, плевали в него, били палками.
– У-у-у, душегуб проклятый! Задрал у меня овцу…
– А где моя телушечка? Где?
– A y нас-то, у нас в позапрошлом году…
– Давай, давай! – подзадоривали женок мужики. – Забыли еще: до войны корова была задрана.
И мертвому волку снова и снова предъявляли счет. Все припомнили: и те злодеяния, которые совершил он, и те жертвы, в которых были повинны его родичи.
Потом, досыта натешившись мертвым зверем, толпа вдруг вспомнила о Матвее.
Матвей тяжелым, мертвым сном спал на печи, укрытый шубами. Но все же голоса, загудевшие под порогом, разбудили его.
– Проснулся?
– Ну, Матюша, крепко ты его подкосил! Эдакий дьявол – страсть!
– Как ты и додумался-то? Герой, герой!
– Талан. От бога, – философски заключил Фотей. – Мы на днях с Миной сидим в чайной. Вся надежда, говорим, на Матюгу…
– Ульяна, жадина, что ты ему подушки-то хорошей под голову не дашь?
От кровати по рукам пошла красная, в сером пуху подушка, за ней другая.
Матвей, угрюмо прищурив темный глаз, сверху вниз смотрел на разношерстный вал, запрудивший избу. Радостные, сияющие лица, улыбки… Что за народ? Еще вчера все воротили от него нос, шарахались, как от чумы. Переночевать не выпросишься… А сегодня… Что переменилось? Ну убил он волка… Да разве мало он убивал их раньше? А если бы не убил?
Странные, самому еще не вполне понятные мысли ворочались у него в мозгу. И он сейчас вдруг каким-то новым, обостренным взглядом, взглядом человека, пережившего те две страшные ночи, присматривался к этим, казалось бы, знакомым и в то же время незнакомым лицам…
Из-за порога, расталкивая людей, к печи пробрался Зотька Постников, улыбающийся, с красными, разогретыми морозом щеками. Вдруг он выхватил из-за пазухи бутылку и высоко помахал ею над головами людей.
– Эй, хозяева! Посудину!
– Надо, надо, – раздались одобрительные голоса. – Угости Матвея. Заслужил.
Радужно сверкая, забулькала водка.
Зотька, улыбаясь, подмигивая, протянул полный, с краями налитый стакан.
– Уйди, червяк! – спокойно сказал Матвей и повернулся на другой бок.
Зотька остолбенело разинул рот, посмотрел с недоумением на примолкнувшую толпу и, безнадежно махнув рукой, сказал:
– Э-эх! Пропал человек…
1962
Пролетали лебеди
1
Когда у Авдотьи Малаховой заметили брюхо, пересудам, казалось, не будет конца. Как! Это на сорок-то третьем забеременеть? Да что она – с ума сошла? Без зубов, руки и ноги ревматизмом разворочены – да ей впору об инвалидном доме думать, а не рожать… А главное – каким ветром надуло? Неужто это Василий памятку о себе оставил, перед тем как отправиться на тот свет?
Сама Авдотья, по правде говоря, не очень-то прислушивалась к этим пересудам. Пускай стрекочут – на то бабам и язык дан. А вот сумеет ли она благополучно разродиться? Не слишком ли поздно пришло к ней это счастье, о котором она мечтала всю жизнь?
Местная фельдшерица Дина, осмотрев ее, замахала руками:
– Не выдумывай. Поезжай в райбольницу. Может, еще не поздно…
И вот в это нелегкое время нашелся в деревне один человек, который поддержал Авдотью, – Манефа, одинокая гулящая Манефа, года на три моложе ее.
– Рожай, Дуня. Не слушай никого. Им – что? – Она имела в виду баб. – У них лавки ломятся от ребят. А я бы вот хоть какую муку вытерпела, смерть бы приняла… – И, не договорив, расплакалась.
Вскоре Манефа опять заявилась к Авдотье, на этот раз с подарком, который купила в райцентре на базаре.
– Вот, наглядное пособие тебе привезла, – весело сказала она и развернула блестящий лакированный коврик.
На коврике была щедро выписана полная румяная красавица с рыжими распущенными волосами и большими холмообразными грудями, с которых была приспущена нижняя сорочка. Красавица сидела, облокотясь, у раскрытого окна какого-то островерхого терема, похожего на старую заброшенную силосную башню, и томно смотрела вниз. А внизу, на озере, целовались два желтоклювых лебедя.
– Хороша картинка? Есть на что поглядеть? – прищелкнула языком Манефа.
– Да что и говорить. Баско, – согласилась Авдотья.
– Ну раз баско, владей.
И Манефа сама прибила коврик к стене над кроватью – и в сумрачной низкой избе вроде посветлело.
Прощаясь, она сказала:
– Вот поглядывай почаще на эту картину – таких же лебедушек родишь.
– Двух? – поперхнулась Авдотья. – Господь с тобой! Да мне лучше и картинки не надо.
Но картинка осталась на своем месте. И позже, когда Авдотья уже не могла ходить и часами лежала на кровати, она подолгу смотрела на двух желтоклювых целующихся лебедей.
А что ей еще оставалось делать? Шитье в руках у нее не держалось, ее замучили головные боли, бабы все на работе, Манефа тоже из виду пропала – опять, говорят, утянулась в город за каким-то хахалем, а разглядывать картинку все-таки было развлечением.
И в конце концов все вышло так, как предсказала беспутная Манефа: Авдотья, к всеобщему удивлению, родила двойню – девочку и мальчика.
Девочку назвали многообещающим именем Надежда. Хорошая подмога будет матери: крепкая, голосистая – с улицы слышно, как орет. Ну а над именем мальчика и раздумывать было нечего: синюшный, как ни назови, все равно помрет. Это был общий приговор всех соседок, собравшихся на крестины. И потому, когда под окошком закачался знакомый облезлый заячий треух Паньки-пастуха, здорового придурковатого мужчины, кто-то, спохватившись, сказал (надо же было все-таки назвать как-то ребенка, хотя бы для того, чтобы записать в сельсоветской книге):
– А вот Паисий идет. Чем не имя?
Так и назвали мальчика по имени придурковатого пастуха Паньки.
2
За четыре года Авдотья извелась начисто – совсем старухой стала. И все, конечно, из-за Паньки, потому что сил не было смотреть на ребенка. Голова большущая, лопоухая, а тельце хилое-хилое, каждое ребрышко наперечет. И все лежит, все лежит – никак не может оторвать свою голову от подушки.
– Панюшка, скажи-ко, родимый, что у тебя болит?
Вздрогнет Панюшка, откроет беззубый рот, а через минуту, смотришь, опять глаза закатил – как будто он все время к чему-то прислушивается. Только уши одни и живут. Торчком стоят.
– Умрет, видно, у нас Панька-то, – сказала однажды Авдотья дочери.
Надька в слезы, в крик, и до того зашлась – насилу успокоила мать.
– Не умрет, не умрет твой Панька – водись только хорошенько.
И верно, с того дня не отгонишь Надьку от брата. Кличет, часами разговаривает, тормошит так и эдак: вставай, вставай, Панька. А спать ложится – горе: надо непременно с Панькой, да еще в обнимку – не потерялось бы это золото во сне.
И что бы вы думали? Была ли, нет какая польза от Надькиных стараний, а ребенок-то ведь начал оживать: и ручками, и ножками задвигал, и голову от подушки оторвал, а потом настал такой день – и на ноги встал.
Ох, уж этот-то день запомнила Авдотья!
Было это в Троицу, как раз в ту пору, когда в деревне начинают первые веники резать. Ну и Авдотья не захотела отставать от людей. Утром сходила в лес за прутьем, а днем, управившись на скотном дворе, села вязать веники.
Тепло. Солнышко так славно припекает, ласточки разыгрались – под самым носом шныряют. А на озере-то шуму и гаму! (Дом Авдотьи стоял возле небольшого озерка, и ребятишки с ранней весны до поздней осени не вылезали из воды.)
Да, сидела вот так Авдотья на крыльце – бездумно, с коленями зарывшись в пахучий березовый лист, сидела, вязала веники – и вдруг крики:
– Смотрите, смотрите! Бегемотик идет!
Она живехонько обернулась и – боже ты мой! Панька-то, Панька-то у нее – на ногах! Головенка белая качается, сам весь качается – как одуванчик, выгибается под ветром, а ухватики свои все заносит, заносит – ковыляет к зеленому бережку.
Ребятишки повыскакивали из воды – и для них чудо немалое (все любили Паньку):
– Давай, давай, Бегемотик!
Но тут вырвалась вперед Надька – и она купалась в озере, – схватила брата в охапку и кошкой на ребят:
– Не дам! Не дам Паньку! Мой Панька! Мой!
– Надеха! Надеха, глупая! – закричала Авдотья. – Не съедят твоего Паньку. Дай ты ему с ребятами-то поиграть.
Куда там! Надеха распалилась – близко никто не подходи: «Мой! Мой!» – да и только.
«Ну и характер у девки! – подивилась Авдотья. – И в кого она такая единоличница? Отец, бывало, последнюю рубаху готов отдать, сама она тоже завсегда всем делилась с бабами…» Но затем, поразмыслив, она успокоилась. Может, это и к лучшему, что Надька так привязана к своему брату. А что? Случись с ней, с матерью, что-нибудь – на кого он обопрется в жизни?
3
К шести годам Надька выросла на загляденье. Краснощекая, зубы во весь рот, и вся как на пружинах – ни минутки не посидит на месте.
А уж сметливая, работящая! И все-то она знает, все примечает: и кто у кого родился, и кто куда пошел, и что в магазине дают. И дома пол подметет, и посуду вымоет, и самовар в грозу закутает – взрослый не всяк догадается.
И часто-часто, любуясь дочерью, Авдотья со вздохом переводила взгляд на сына. Нет, не то тревожило ее, что мальчик рос хилым да слабым. В конце концов, рассуждала она, нынче не старое время. Хлеб рукам не дается – головой добывают. А вот что за голова у этого ребенка? Почему у него все навыворот?
Купила как-то Авдотья коробку цветных карандашей да бумаги.
– Нате, ребята, рисуйте. Привыкайте к ученью смала.
Надька – глаза загорелись – сразу за стол.
– Чего, мама, нарисовать?
– Чего-чего. Чего увидите, то и рисуйте. Вон хоть корову Матренину – видите, хвост задрала, по огороду бегает.
Надька взглянула в окошко, раз-раз – и нарисовала: дом с трубой, из трубы дым валит, а у дома корова – как полагается, с рогами, с хвостом.
– Так, мама?
– Так, наверно, – сказала Авдотья уклончиво. – Не больно-то много понимает твоя мама. Три зимы в школу ходила.
Затем она подошла к сыну: ну-ко, Панька, старанья много – сидишь, сопишь, карандаш слюнявишь – что у тебя?
Взглянула – и хоть плачь, хоть смейся: корова не корова, жук не жук, шесть ног торчит.
– Что ты, глупый! Сколько у коровы-то ног? Разве шесть?
– Так ведь она это бежит, – сказал Панька.
– Бежит, бежит, – передразнила Надька брата. – Ноги-то на бегу не растут, да, мама?
В другой раз послала Авдотья сына за травой. Надька в ту пору, как на грех, ногу гвоздем рассадила, а овца ревмя ревет в хлеву – только что объягнилась. И самой некогда – с мытьем разобралась.
– Давай-ко, Панька, выручай мать да сестру. Надо и тебе к работе привыкать.
Вот ушел Паисий за травой. Час ходит, два ходит – куда девался парень? Авдотья все бросила, побежала разыскивать. А Паисий, оказывается, дошел до первого куста, птичку какую-то увидел, да и все – и трава, и дом – все из головы вылетело. Забыл, зачем и пошел.
И таких случаев Авдотья могла бы порассказать немало. Но она, конечно, помалкивала. Какая же мать будет выставлять свое детище на позор! Придет время – люди еще насмеются.
4
Весна в том году пала ранняя, дружная – снег сошел за одну неделю, и в озере вода стала прибывать не по дням, а по часам. Правда, само по себе это мало кого беспокоило: озеро не река. Ну а вдруг на помощь к озеру да река придет? Что тогда? Ведь за озером, в низине, все богатство колхозное: скотные дворы. И потому, не ожидая, когда начнет показывать свой норов река, решили с заречной стороны соорудить заплот.
Народу собралось людно. Весело работать всем миром. Телеги, тачки. Детвора, как мураши, разбрелись по свежему песку. И вот под вечер, когда уже кончали насыпь, вдруг кто-то закричал:
– Лебеди, лебеди летят!
Где, какие лебеди? Это ведь в старину лебеди запросто летали, а сейчас разве только на картинках увидишь. Может, оттого и развелись эти коврики с лебедями чуть не в каждом доме?
А в вечернем небе и в самом деле пролетали лебеди. Высоко-высоко забрались лебедушки. Как две лодочки белые качаются в синем раздолье. А как стали к лесу-то приближаться, клич дали: принимай, земля. Целый день крыльями машем, пора и нам отдохнуть. И потянули, потянули к дремучему ельнику, туда, к Лебяжьим озерам, где кумачом разливалась заря.
– Ну редкие гости прибыли. Что-то они принесли, – заговорили люди, когда лебеди скрылись за лесом.
– Надо быть, к холодам, – сказал старик Зосима. – Раньше так бывало: снег с лебединых крыльев сыпался.
К старому человеку как не прислушаться – и пока шли домой, только и думали-гадали: надолго ли зазимок? Сколько еще скотину взаперти держать?
За этим невеселым разговором (у кого весной с кормом не поджимает?) Авдотья и позабыла про Паньку. Все время парня держала на глазах, а тут стали к крыльцу подходить – одна Надеха за руку держится. Эту хлебом не корми, а дай послушать, что говорят взрослые.
– Тетеря глупая, где парень-то?
– Панька, Панька! – закричала Надька.
Она ревела, плакала навзрыд: никогда в жизни еще такого не было, чтобы Панька от нее хоть на шаг отстал – все вместе. Но тогда, в первые минуты, Авдотье было не до жалости, и она готова была прибить эту разиню. А ну что с парнем случилось? Кругом вода – вешница, – долго ли до беды?
Авдотья сломя голову кинулась к насыпи.
– Паня, Паня…
И слава тебе господи, беду на этот раз пронесло! Стоит Панька на насыпи, как Иванушка-дурачок стоит. Кругом темень собирается, солнце уже село, вода внизу ярится (вышла река из берегов!) – взрослому не по себе. А он стоит, как к земле прилип. Ушанка на макушку съехала, сам как пенек маленький на ровном месте, и только личико белеет в потемках.
На что же это он так засмотрелся? Чем заворожил его этот красный лоскут зари над черным ельником, что он и глаз оторвать от него не может? Разве не видал он зари?
Боже ж ты мой, вдруг догадалась Авдотья, да ведь это он по лебедям сохнет. Их высматривает. И как она сразу не догадалась! Парень и раньше-то был помешан на птичках («Надя, постой, птичка села»; «Мама, подожди, птичка вон»), а тут – подумать только! – лебедей живых увидел.
– Панюшка, Панюшка, – стала уговаривать Авдотья, – пойдем, родимый. Лебеди давно пролетели, а ты все стоишь. Разве можно так?
Ручонки холодные, штаны мокрые, под носом светит, а сколько бы еще стоял вот так на насыпи, ежели б не мать?
5
Вечером в тот день поужинали, попили чаю – все честь по чести, потом легли спать. Спали на полу. Кровать всех троих не умещала, а спать по отдельности дети не хотели, да и самой Авдотье как-то поспокойнее было, когда они были под боком.
Вот легли спать. Надька за день убегалась – как в воду нырнула. Хоть за ноги на улицу вытаскивай – не проснется. А Панька не спит. Лежит, затаился, как мышонок, меж сестрой и матерью, а не спит – Авдотья по дыханию чует.
– Панька, ты не замерз? Залез бы на печь.
Молчок.
– Ну раз не замерз, спи. Завтра рано вставать, на скотный двор пойдем.
– Мама, – вдруг услыхала она под самым ухом, – а куда они полетели?
– О господи, все-то на уме у него эти лебеди! – Авдотья широко зевнула (она уже засыпала), повернулась к сыну.
Лежит – и глаза настежь. Может, луна ему заснуть не дает?
Она встала, занавесила окошко шалью.
– Спи. Ночью-то спать надо, а не разговоры разговаривать. Глаза-то закрой, и я закрою – скорее заснем.
– Мама, а где они делают гнезда?
Нет, видно, не отступится, пока не расскажешь.
– На озерах. Раньше-то они тут, говорят, на Лебяжьих озерах гнездовали. А сейчас, наверно, передохнут за ночь да дальше полетят.
– Да-альше? А почему?
– Полетят-то почему? Да они, может, и рады бы остаться – крылья-то у них не железные, намахаешься целыми-то днями махать, да житье-то для них больно худое стало. Лес вырублен, люди кругом.
– А они людей не любят?
– Чудной ты, Панька! Воробей-дурак и тот – фыр-фыр, а то ведь лебеди. Ладно, спи теперь.
– Мама, а ты видела их на озерах?
– Лебедей-то? – Авдотья задумалась, вздохнула. – Раз видела. Я еще девчушкой тогда была. Отец – твой-то дедушко – за клюквой повел меня. Рано вышли из дому. Я иду, глаза слипаются, как в потемках бреду. А дедушко вдруг остановился, за рукав тянет: «Дуня, Дуня, смотри-ко, вон-то что». Я попервости со сна-то думаю – льдина белая по озеру плывет. Примелькалось бело-то еще дорогой. Водяно было. Там снег под елью, тут снег. А они, лебеди-то, как увидали нас, всполошились, закричали, крыльями по воде забили, а потом как поднялись, да прямо к солнышку. А солнышко об ту пору, как я же, только еще просыпалось, из-за елей выглядывало. Баско, красиво было, – закончила нараспев Авдотья и опять зевнула.
Панька вздохнул.
– Ладно, давай не вздыхай. Вырастешь – увидишь. Никифор-охотник говорит: каждую весну видаю.
– Мама, – опять спросил немного погодя Панька, – а эти озера, где ты была с дедушкой, далеко?
– Да нет, недалеко. Гумно-то старое за скотным двором знаешь? Ну дак от того гумна три версты считается. Дорога все лесом-лесом, по холмикам да по веретейкам. Грибные, ягодные места. Вот уже лета дождемся – пойдем. И Надьку, и тебя возьму.
Авдотья подтянула к груди одеяло, поправила бумазейный плат на голове – худая, застуженная у нее была голова, и она всегда спала в платке.
– Спишь, Панька?.. Ну и ладно, спи, – сказала она, не дождавшись ответа.
Затем осторожно, чтобы не потревожить сына, расправила ноющие в коленях ноги – на погоду, видно, разболелись.
Ну, слава богу, утихомирился.
И это было последнее, что она могла припомнить потом, вспоминая этот вечер.
6
Паньки хватились утром, а нашли только вечером. А между утром и вечером был день, длинный угарный день, насквозь прореванный и проплаканный Авдотьей и Надькой.
Они звали Паньку в два голоса.
– Паня, Паня, иди домой, – голосила со своего крыльца Надька.
А в это время с тем же истошным криком металась по лесным дорогам Авдотья.
За ночь резко похолодало, задул сиверко, ельник расшумелся-разохался. Она кричит: «Паня, Па-а-аню-ушка». А ей в ответ: «У-y… у-у-у…»
И не единого следочка на дорогах. Земля затвердела, как камень.
Авдотья сбегала до Лебяжьих озер – нету, проколесила наполовину Болотницу (не одна дорога зачинается за старым гумном) – тоже не видать. И снова, в который раз, вышла к старому гумну.
«Нет, видно, надо подымать народ, одной не найти», – подумала она и вдруг увидела пастуха Паисия.
Паисий, громыхая топором, разбирал на дрова развалины старого гумна.
Авдотья горько расплакалась. Этот немтун-горемыка был страшно привязан к Паньке. Он, как дитя малое, обрадовался, когда узнал, что в деревне появился второй Панька, и уж не жалел для него ни рук, ни ног. И зайца живого в лесу поймает, и ягоду первую принесет, и игрушки разные мастерит… Кажется, не было такого дня, чтобы Паисий, возвращаясь с поскотины, не принес бы для ребенка какую-нибудь дудочку, берестяной шаркунок или коробочку.
– Что же ты, Паисьюшко, топором-то машешь? – заговорила, захлебываясь слезами, Авдотья. – Где у тебя тезка-то?
Паисий выкатил свои светлые кругляши, заулыбался, дурак.
– Пень бестолковый! – рассердилась Авдотья. – Разве улыбаться надо? Панька-то, говорю, где? Пропал Панька-то, ночью в лес ушел. Может, где сидит сейчас под деревом, замерзает, а ты зубы скалишь.
И спасибо Паисию. Нашел-таки немтун Паньку. Сколько раз пробегала она мимо озерины, разлившейся между Болотницей и Озерной, и не догадалась туда свернуть, а ребенок-то, оказывается, сидел там, под елью, в какой-нибудь версте от гумна.
Парень был в бреду. Его раздели, растерли спиртом, укрыли всеми одеялами, какие были в доме. И он лежал под одеялами, тяжело, открытым ртом дыша, весь горячечно-красный.
– Паня, Паня, не умирай, – охрипшим голосом умоляла его Надька.
И один раз, казалось, Панька приходит в себя.
– Надя, Надя, я их видел…
А потом снова удушье. Мутные, налитые жаром глаза его стали закатываться под лоб.
Авдотья пала на колени, протянула руки к скорбному лику Богородицы, тускло мерцающему в переднем углу.
– Царица Небесная, яви чудо. Это я, я завела ребенка в лес. Сама ему дорогу указала.
Но чуда не произошло. Под утро, на рассвете, Панька умер.
7
Жизнь маленького Паньки, как весенний ручеек, прошелестела по деревенской улице. А велик ли след оставляет весенний ручеек? У кого удержится в памяти? И Паньку забыли, забыли чуть ли не на другой же день после похорон.
Снова вспомнили о Паньке через три месяца, когда умерла Надька…
Нет, не то поразило всех, что за малое время смерть второй раз заглянула в Авдотьину избу – для этой старухи дороги не заказаны. Поразило всех другое – непонятная, загадочная болезнь ребенка. Девка здоровущая, краснощекая, язык, как колокол, подвешен – кому и жить, как не ей! А она, как схоронила братца (будь он не к вечеру помянут, заморыш), начала сохнуть-сохнуть, и ни врачи (из района привозили), ни старухи знающие – никто не мог помочь. Так и засохла, как травинка при дороге.
Вот об этом-то больше всего и было разговоров в день похорон. Что за болезнь у ребенка? Какая такая немочь источила девку? Тоска по брату? Верно, замечали, и Авдотья жаловалась: тоскует девочка. Кажинный день сидит у окна и все смотрит-смотрит на улицу, а потом и заговариваться стала: «Паня, Паня, иди домой».
Да, может быть, и тоска – знакома людям эта сухотка. А все-таки плохо верилось, чтобы в ее-то годы да умирали от тоски.
1963–1964







