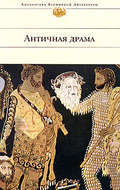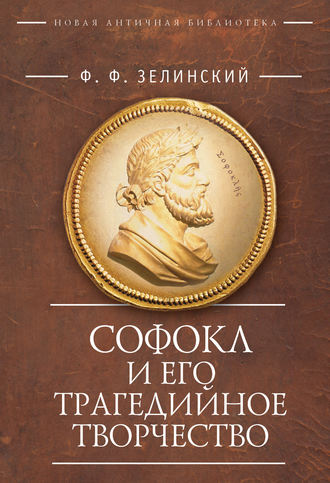
Фаддей Зелинский
Софокл и его трагедийное творчество. Научно-популярные статьи
Глава 2. Дионисии
Конечно, ни для кого не будет новостью узнать, что у нас драма ставится безразлично и в будни и в праздники и воспринимается утомленным от работы и крепко придавленным к бытовой действительности духом, в то время как драма греков была редким сияющим видением на фоне праздника – праздника Диониса. Этим, однако, далеко не все сказано, хотя все же сказано очень многое.
Идея освободить театральные представления от тины будничности, окружить их атмосферой праздничности была осуществляема и в новейшие времена: вагнеровская драма в Байрейте, французская классическая трагедия в Оранже, «Вильгельм Телль» в Альтдорфе – сюда же относятся и мистерии в Обераммергау, праздник старинный, но все же лишь в XIX в. получивший свое всегерманское и всемирное значение. Во всех этих случаях, кроме последнего, античность была признанной вдохновительницей и руководительницей; и стоит ли подчеркивать, что во всех этих случаях, не исключая последнего, предметом заботы была героическая, а не бытовая трагедия? Связь этой последней с будничностью была этим окончательно подтверждена – косвенно и молча, но тем более убедительно.
И нельзя не признать, что преследуемая цель была в значительной степени достигнута. Вечером накануне торжества приезжает паломник в Байрейт: будничные заботы, обусловленные необходимостью приискать себе пристанище и устроиться в нем, оканчиваются в этот вечер. Затем утро – свободное, праздничное. Мы гуляем по тенистым аллеям байрейтского «Эрмитажа»; отправляемся в окрестности, куда так и манят чистые, обсаженные липами и тополями дороги; посещаем домик, где некогда жил и творил Жан Поль и откуда так и веет на нас, точно здоровым запахом свежего ржаного хлеба, духом старинного немецкого бюргерства. Злоба дня позабыта. Природа и история настраивают душу мирно и торжественно. Вот подошло и пополуденное время; пора собираться в театр, простой и строгий, одиноко возвышающийся над городом. Да, конечно, цель в значительной степени достигнута, гармония души с ожидаемой необычайностью видения заранее осуществлена.
Достигнут подъем.
И все же это еще не дионисическое настроение; это даже в известной мере нечто прямо противоположное ему. Да, я гулял по аллеям Эрмитажа, но я намеренно отыскивал самые уединенные тропинки и более всего боялся встречи со знакомыми: как-то чуяла душа, что достаточно одной такой встречи с ее неизбежными: «Ну, как вы устроились?», «Где вы обедаете?» и т. д. – и вся торжественность настроения пройдет. Нет, это не то. Не знаю, как назвать того бога, который завладел моей душой и наполнил ее чуткой, мечтательной негой; но им был не тот, кто, расплавляя огнем своего наития грани индивидуальности, соединяет своих верных в одну одинаково чувствующую и волящую личность, – не Дионис.
* * *
А теперь перенесем героическую трагедию с чужбины на родину.
Мы – в Афинах эпохи Перикла; месяц – Элафеболион, по-нашему март, полный расцвет южной весны. Мореходство только что открылось; пирейская гавань, эта «гостеприимнейшая гавань в мире», приняла в свои воды приезжие суда с золотыми изображениями их родных богов: рядом с Палладой афинской триеры красуется самосская Гера, эфесская Артемида и другие. И в самих Афинах заметно присутствие гостей; они, правда, разбрелись по домам своих «проксенов», но площади им не миновать, и единство обычного аттического говора приятно разнообразится пестротой бесчисленных местных наречий с преобладающей мягкостью ионийских. Тем живее у каждого природного афинянина желание показать приезжим город Паллады во всем его блеске.
Теперь, впрочем, не Паллада властвует в Афинах, а Дионис; наступление его царства возвестила взошедшая над городом первая четверть молодой луны. Она созвала на утро следующего дня всех граждан к древнему святилищу бога, что у театра. Обычай требует торжественного перенесения его кумира в это последнее здание, чтобы бог самолично был свидетелем празднеств в его честь. При соседстве храма с театром это – дело несложное; но именно поэтому тот же обычай предписал длинный и продолжительный обход: надлежало предварительно доставить бога из Афин в Академию, чтобы он там провел весь день, и уже с наступлением вечера вернуть его в Афины и водворить на место празднества. Эта Академия, тогда еще не освященная именем Платона, была рощей «героя» Академа, на расстоянии приблизительно полутора верст от городских ворот, которые однако находились приблизительно на таком же расстоянии от храма Диониса под юго-восточным склоном Акрополя.
Здесь собирались участники шествия – жрецы, власти, граждане, гражданки. Надлежало выстроиться с соблюдением порядка и благолепия, приличествующего торжеству. Особую группу, видную и нарядную, составляли мальчики, сыновья граждан, – главные действующие лица в празднестве, как мы увидим; другую группу, еще более приятную для взора, – девушки-канефоры (кошеносицы) с корзиночками на головах. Для нас они застыли в тех скромных и миловидных «кариатидах», которые поддерживают балдахин южного портика храма Эрехфея.
По данному сигналу начиналось шествие, вытягиваясь в бесконечную ленту на улицах, собираясь сплоченными массами на площадях, – впереди всех окруженный эфебами кумир Диониса. Шествие огибало восточный склон Акрополя с гигантским шатром Одеона, творением Перикла, и попадало на самую нарядную улицу Афин, улицу Треножников, украшенную архитектурными трофеями победителей на мусических состязаниях Диониса; оттуда – на городскую площадь с ее алтарем двенадцати богов – тех самых, жрецы которых принимали участие в шествии. Почтив их возлияниями и молитвами, процессия двигалась дальше, мимо «герм» – тех роковых герм, искалечение которых поколением позже повергло Афины в такой ужас, – на рынок; оттуда, по широкой предместной улице Дромос, между портиками и статуями, к Дипилонским воротам. Здесь начинался строгий, но не мрачный квартал Внешнего Керамика, почтенное кладбище афинян, где хоронили мужей, павших в бою за отечество.
Дальше шла уже дорога… надо полагать, такая же пыльная, как и теперь. Конечно, в марте месяце она могла еще сохранить остатки зимней влаги; а впрочем, афинянину было не привыкать к своей родной, тонкой и белой известковой пыли. При всем том это была, без сомнения, самая трудная часть пути, тем более что после двухверстной ходьбы с остановками и весеннее солнце изрядно припекало. И как ни утешали себя участники сознанием, что они идут по той же святой дороге, по которой сам Дионис некогда, говорят, пришел в Афины, чтобы воспользоваться гостеприимством древнего афинского царя Амфиктиона, – позволительно думать, что и у них радовалось сердце, когда последняя томительная верста стала приходить к концу и на них повеяло душистой прохладой с зеленой рощи Академа.
* * *
Эта роща была созданием Кимона, щедрого благодетеля Афин и в особенности своей родной деревни Лакиад, по соседству с которой она лежала; благодаря искусственному орошению почвы он сухую и бесплодную некогда местность превратил в настоящий парк, с аллеями и дорожками, самый обильный растительностью в окрестностях Афин; сюда и в будни любили приходить для прогулок и упражнений в беге афинские эфебы, особенно в весеннее время, «когда чинара с вязом перешептывается», как говорит Аристофан. Теперь усилиями тех же эфебов сюда был привезен кумир Диониса. По окончании пути его ставили у места, называемого «очагом» (ἐσχάρα); начиналось чествование.
Тут вступали в действие те отроки, о которых уже была речь, – сыновья граждан: группами, каждая под руководством своего учителя, они подходили к чествуемому богу весны и приливающих сил и пели песни в его славу, сами будучи весной и приливающими силами общины. И уж конечно, пришедшим вместе с ними в Академию гражданам и в голову не приходило спасаться в отдаленные и уединенные аллеи этого парка, чтобы предаваться одиноким размышлениям: ведь те, чьи свежие звонкие голоса воспевали весеннего бога у очага Академии, были их детьми, были надеждой их общины, и пели они те же песни, которые и они некогда, еще при герое Кимоне, певали в честь святого покровителя всего юного и вечно обновляемого.
Так-то единый, могучий ток симпатии, вызванный общими воспоминаниями о славном прошлом, с общей надеждой на еще более славное будущее, сплачивал эти сотни и тысячи гражданских сердец. Там, в стенах города, на скалах Пникса, кипели бурные политические страсти: кто за Перикла, кто за Фукидида, кто за злобные наветы завистливого Клеона. Здесь все это потонуло в колышущемся море всеобщности: Дионис и дети, весна и цветы, и парящая над всем этим все нарастающая любовь к прекрасному дальнему, к обетованной земле детей и внуков…
Впрочем, кроме этого общего настроения, еще одна религиозная потребность удерживала у очага Академии всех этих граждан-отцов: и в эти детские песни, как и во всю греческую жизнь, был веден элемент соревнования. Надлежало определить, какой из участвовавших хоров достойнее и благолепнее прочих воспел чествуемого бога. Лучшему хору и его учителю присуждались победа и награда: это был вопрос важный, и для его решения необходимо было оставаться вместе.
* * *
Но вот день песен прошел; солнце догорело на царственном престоле Эгалея, угас и огонь на пылающем копье акропольской Паллады-Воительницы, и занявшаяся вечерняя заря окрасила склоны Гиметта в пурпурно-фиолетовый цвет. Начались сумерки – быстрые южные сумерки, через прозрачную дымку которых все ярче пробивается тихий свет засиявшей над Акрополем молодой луны. Это значит: пора возвращаться в Афины.
Возвращаться, да: но не в том чинном торжественном шествии, в котором поклонники Диониса пришли утром в Академию. Конечно, те эфебы, которых поручено перевезение бога, должны исполнить свою задачу усердно и внимательно; за это их ждет общественная благодарность. Но остальные свободны: можно соединяться по группам, по компаниям, как кому угодно; всё же девушки шли охотно с девушками, юноши, охотно или нет, с юношами. Девушки, юноши… кровь-то ведь молодая, а ночь Дионисий полна соблазнов. Идут обратно по дороге, ведущей к Дипилону. Пыли незаметно: морской ветерок подул с юго-запада, растворяя в своей влаге и легкий аромат тимьяна с эгалейских холмов, и тяжелый, одуряющий запах склонившихся над струями Кефиса нарциссов. Молодая луна борется с белыми облачками южной весны; они то и дело заволакивают ее, погружая во внезапный мрак дипилонскую дорогу с ее шествием. В этом большой беды нет: там и сям запылали факелы, багровый жар которых помогает неверному свету Селены. В каждой компании их по нескольку; в их кругозоре не страшно. А все-таки жутко; и жутко и весело. В каждой компании своя флейтистка: игра, песни, смех – на то и Дионисии: надо, чтобы весь год вспоминали. Вот показались суровые мраморные стелы дипилонского кладбища: грозно глядят при багровом жаре факелов меднобронные изваяния марафонских бойцов. Ничего, в своей компании не страшно. Но зато отставать никому не советуется. Отстанет бедняжка… и тут из-за мраморной стелы… не покойный марафонский боец, а пара живых рук, страстных и сильных. Крик утонет в шуме флейт, песен, смеха… Да, будет она помнить ночь Дионисий – не год, а всю жизнь.
Дипилон пройден; мы на Дромосе с его портиками и статуями. Здесь, между колоннами, на «подстилках» (стибадах) из зеленого плюща, приготовлено угощение – конечно, вино. Об том позаботились тороватые граждане – Перикл, Лакедемоний, Иппоник, Пириламп и вообще кто побогаче. Располагаются компаниями, кто к кому пристал. Льется вино – и еще обильнее льются звуки флейт, песни, говор, смех. Вся улица озарена факелами. Появляются ряженые – большею частью сатиры с тирсами в руках. Сыплются удары направо и налево – на то это «шаловливые тирсы». От них порой бывает больно; больно, да, но не обидно – и это ведь служба Дионису. И дальше – то же самое. И между гермами, и под колоннадами городской площади, и у подножия узорчатых треножников, и под склонами Акрополя – везде горят факелы, сливая свой багровый свет с зеленью плющевых стибад, везде льется вино, везде шумят флейты, раздаются песни, слышен говор и смех. Чем дальше, тем более тает свита паломников, сопровождающих святой кумир Диониса в его театр под юго-восточным углом горы Паллады. Наконец, усердные эфебы его довезли; его ставят, куда обычай велит. Луна тем временем закатилась; над Гиметтом показались розовые персты Зари; пора расходиться.
* * *
Со следующего дня начиналась драма… Какая драма? Какой драмы могла требовать душа этих людей, впитавших в себя весну и полноту приливающих сил, – зачарованных чарами Диониса?
Бытовой? Между бытом и ими стоял средостением опыт минувшего дня; при том подъеме, который был достигнут под солнцем Академии и при луне безумной ночи, серьезное отношение к быту было уже невозможно.
И право, не нам об этом судить. Разве мы знаем, что такое всенародный подъем?.. Я говорю, конечно, не о том, который вызывается национальным и классовым эгоизмом и в котором самодовольство приправлено злобой, а о нашем – чистом, радостном, дионисическом. Его испытывают отдельные личности… и в этом состоянии болезненно сторонятся своих ближних, чтобы их голос не отозвался диссонансом в сердце, не изгнал из него чуткого бога, на время в нем поселившегося. Но возьмите хотя бы эти минуты, это жалкое эхо могучего некогда дионисического экстаза: разве вам захочется в таком настроении быта и его драмы?
Нет. Быт – это враг, побежденный Дионисом. И если мы вызываем его еще раз перед свои очи, то для того только, чтобы представить наглядно победу над ним Диониса. И мы его действительно вызываем: первый день драматических состязаний посвящен комедии. А где комедия, там быт.
И вот он является на сцену Диониса, это алчный, расчетливый, трусливый мещанин… буржуй, филистер, называйте как хотите. Мещанин! Таковым еще недавно был и его зритель, но ведь это было до певучей ночи Дионисий. Теперь же ему любо смотреть на свое позавчерашнее подобие, как безжалостно его треплет в своем божественном веселье Дионис. А треплет он его во всевозможных видах… или, лучше, во всеневозможных. То он представляет его самого, каким он его видит с высоты дионисического подъема, потешно усиливая низменные стороны его натуры, к вящему торжеству дионисического смеха. Это – карикатурная комедия, но она не в чести: «это – пошло, по-мегарски», как говорил гордящийся своей аттической солью гражданин Паллады. То он, ради большего контраста, возводит его в божественную сферу, представляя самих почтенных олимпийцев в ермолке мещанина; но и это еще было слишком по-дорически. Настоящий аттический дух чувствовался только там, где уже не только отдельный частный, но и государственный быт с его злободневностью вызывался пред молниеносные очи Диониса; где над грубыми, слишком человеческими очертаниями этих мнимых реальностей разливается зыбкое огненное море Дионисовой сказки. Нигде так ярко как здесь не чувствовалась жалкая беспомощность этого мнящего себя не только реальным, но и единственно реальным быта; нигде так победоносно как здесь не раздавались дружные, всенародные взрывы дионисического смеха.
И если бы в эту минуту гипербореец наших времен и широт обратился к смеющимся с укоризненным вопросом: «Чему смеетесь? Над собою смеетесь!» – любой из них с полным правом ответил бы ему: «Нет, чужестранец. Не над собой смеемся мы, а над той тиной быта, которая еще недавно была в нас и от которой вчера нас освободил наш бог. И пусть через несколько дней, когда Дионисии минут и забота о хлебе насущном опять пригнет нас к сохе, к станку, к прилавку, – пусть тогда опять нас затянет эта тина: хоть на эти немного дней мы преодолели быт и приобщились жизни. Этот огонь не потухнет; накопляясь из году в год, с каждым возвращением Дионисий, он будет достаточно силен, чтобы согреть не только нас, но и тебя, наш бедный преемник через двадцать с лишком веков!
А если хочешь в этом убедиться – милости просим к нам завтра и в следующие дни, на праздник трагических состязаний!»
* * *
Действительно, следующие три дня были посвящены трагедии. Не для того был осмеян быт, чтобы на его место поставить пустоту, этот последний резон немощных, худосочных, отравленных наследственными болезнями нигилистических натур. За здоровым, освобождающим смехом Диониса должно было последовать великое «да!», брошенное навстречу жизни с ее сильной радостью и сильным горем, с ее зиждительным страданием и зиждительной смертью.
Ведь в том-то и дело, что при том настроении, в котором находились граждане в те дни, реализм звучал бы фальшью и единственным правдивым и убедительным видом драмы была героическая трагедия. С той силой, которую в себя впитала душа в эти дни очарований, она уже не могла сочувствовать «житейской» дряблости и будничности: она жаждала перенестись туда, где била полнота жизни, жаждала вселиться в тех «Патроклов и Тевкров о львином сердце», о которых им поведал прозорливый дух их поэтов. И не только характеры мужей должны быть запечатлены печатью необычайности: героем должен был быть и тот враг, с которым им придется вести победоносную борьбу жизни, – тот таинственный родник их зиждительных страданий, который они, олицетворяя, называли Роком. Только при героическом его величии возможно то истинно трагическое чувство, в силу которого борющийся герой, физически погибая, нравственно торжествует; и только такое чувство могло удовлетворить так настроенную толпу зрителей.
И мы видели также, как это ее настроение возникло. Здесь не было никакого искусственного взвинчивания и самовзвинчивания: естественным путем, на почве религии, которая, к счастью, была религией природы, сам собою создавался этот всенародный подъем, для которого этот озон героичности был естественной и необходимой атмосферой. Где нам об этом судить! Ах, да, мы берем изредка, с утомленной, скептической душой, какую-нибудь случайно подвернувшуюся нам античную трагедию, читаем несколько сцен – и затем, разочарованные, ставим ее обратно на полку, в добросовестном убеждении, что мы всё это давно переросли. Нет, так судить нельзя. Постараемся сначала хоть в своей фантазии пережить то, что переживали афиняне эпохи Перикла в дни Дионисий, – и затем перенесемся в их празднично возбужденную толпу в утро трагического состязания, в тот момент, когда городской глашатай торжественно вступал на арену и, при внезапно воцарившемся молчании, произносил давно ожидаемые традиционные слова:
«Введи свой хор, Софокл!»
Глава 3. Трагедия до Софокла
Эта формула глашатайского призыва, впрочем, уже в эпоху Софокла была пережитком. Не «хор» появлялся в орхестру, а сначала одно действующее лицо или два; перед вступительной песней хора, «пародом», исполнялся «пролог». Но, разумеется, в то время, когда была установлена наша формула, она должна была соответствовать действительности: не будь других свидетельств – мы из нее одной могли бы вывести заключение о такой ранней эпохе трагедии, когда она начиналась с появления хора.
Но что он такое, этот хор, этот столь ненужный, с нашей точки зрения, элемент трагедии? Как он возник? Этот вопрос сводится – так пожелала история – к вопросу о возникновении трагедии вообще; а так как многие особенности также и Софокловой трагедии объясняются ее возникновением, то мы тем более имеем основание не оставлять его в стороне.
Некоторые находки и исследования последних времен заметно двинули его вперед; тем не менее, ни один читатель, отдающий себе отчет в том, что такое – возникновение литературного типа, не потребует от нас точной и ясной истории с приведением имен и чисел. Одно несомненно: трагедия, всеми своими фибрами связанная с культом Диониса, должна была развиться из него; ее материнское лоно – то «дионисическое настроение», которое мы только что попытались описать. Но ее колыбель окутана густым мраком; мрак этот рассеивается мало-помалу, по мере развития зародыша, но лишь с первым поэтом, сочинения которого нам отчасти сохранились, – с Эсхилом, – мы покидаем сумерки и вступаем в ясную, залитую солнцем полосу.
* * *
«Трагедию создали запевалы (ἐξάρχoντες) дифирамба», – говорит коротко, хотя и не совсем ясно, Аристотель, многоначитанный автор «Поэтики», располагавший массой материала для решения нашего вопроса, от которой нам не осталось ничего. Понятно, что для нас его свидетельство должно быть краеугольным камнем нашего построения – тем более что оно заводит нас в самый центр культа Диониса и притом, что особенно драгоценно, его ионийского культа. Дифирамб – слово загадочного происхождения – исконная песнь Диониса; мы встречаемся с ней впервые в отрывке древнейшего лирического поэта ионийца Архилоха из Пароса (начало VII в. до Р. Х.):
И владыке Дионису чудный дифирамб запеть
Властен я, когда мой разум окропит вина перун,
т. е. когда мною овладеет «дионисическое настроение». Хорошо; но почему же Аристотель приурочивает возникновение трагедии не просто к дифирамбу, а именно к его запевалам? Причем достойно внимания и то, что это самое слово в своей глагольной форме встречается и у Архилоха, как это соблюдено и в переводе. По-видимому, для него, как и для нас, самым важным элементом трагедии был диалог, а не хорическая лирика. А первоначальным носителем диалога мог быть в дифирамбе только запевала, эта личность, выброшенная на берег морем общего дионисического настроения и познавшая себя в своей обособленности. В ней могло и должно было воплотиться индивидуализирующее аполлоновское видение, это разрешение воплощенного в хоре лирического напряжения. И что это действительно так было, это доказал не так давно возвращенный нам из могилы дифирамб Вакхилида под заглавием «Тезей» (мастерски переведенный Вяч. Ивановым в его сборнике «Прозрачность»). Глухо волнующемуся хору, возбужденному внезапно раздавшимся призывом военной трубы, отвечает старый царь Эгей, «запевала» дифирамба; его ответ дает разрешение напряжению хора, и это разрешение все яснее и яснее воплощается в аполлоновском видении молодого витязя Тезея. Это уже если не драма, то настоящая драматическая сценка, из которой естественно могла развиться героическая трагедия. Конечно, Вакхилид важен для нас только как представитель дифирамба вообще; сам он жил в такую эпоху (V в.), когда трагедия была вполне уже сложившимся литературным типом.
* * *
«Трагедия возникла из сатирической драмы», – говорит тот же Аристотель, сам себе, по мнению некоторых, противореча. Посмотрим, однако; быть может, здесь следует признать не столько противоречие, сколько несогласованность, объясняемую тем, что оба свидетельства стоят в двух различных местах. О сатирической драме достаточно будет пока сказать, что под ней разумеется сдержанно-юмористическая драматизация мифологического сюжета, причем хор состоит обязательно из сатиров. Сатиры же это ближайшие спутники Диониса как бога природы и ее приливающих сил, воплощение той животной подпочвы, на которой мы воздвигли зыбкое здание нашего человеческого сознания. Периодически и люди наряжаются сатирами, чтобы отдать дань этому животному подсознанию и этой данью выкупить свою человечность. И тогда они непосредственно воспринимают «Дионисовы страсти» (τὰ Διoνύσου πάϑη); и вот это-то сатировское «действо» (δρᾶμα) и есть зародыш трагедии. В чем состояло оно? Нам сохранена драгоценная расписная ваза, изображающая прибытие Диониса с сатирами на ладье… только эта пережиточная ладья сама везется на колесах; это – богатая своей будущностью «ладья-колесница», carrus navalis, давшая свое имя западноевропейскому «карнавалу». Разумеется, это – воспоминание о приезде Диониса морем в страну, в которой он хочет основать свой культ. Его ждет сопротивление, гонение, мука; но в конце концов его божественная сила восторжествует над всеми препятствиями. Вот, по-видимому, первоначальный сюжет для такого «сатирического действа», δρᾶμα σατυρικόν. Оно могло перейти за пределы дионисических мифов, охватить героическую сагу – сатиров заменили люди, из их «действа» возникла трагедия.
И это не противоречит первому, дифирамбическому возникновению? Нет, если только допустить, что в сравнительно раннее время состоялось соединение обоих течений. И это даже не гипотеза: это нам засвидетельствовано самым определенным образом в безымянной биографии поэта Ариона (около 600 г. до Р. Х.), клочки которой сохранились в словаре Свиды – правда, в несколько запутанной форме, которую придется поставить в счет сумбурной голове составителя словаря: «Он, говорят, стал чиноначальником трагического строя, первый составил хор, спел дифирамб, дал заглавие песне этого хора и ввел сатиров с размеренной речью». Это значит без сомнения: Арион первый ввел хор из сатиров как исполнителей дифирамбов, дал этим последним определенные заглавия (вспомним «Тезея» Вакхилида) и этим стал чиноначальником трагедии. Это последнее свидетельство об Арионе как первом трагическом поэте было до недавнего времени отвергаемо как недоразумение Свиды; но одна недавняя находка устранила всякую почву для сомнений, открыв нам имя того, кто первый так его назвал, – это был не более и не менее как Солон… Я выразился осторожно: она устранила почву для сомнений, не самые сомнения. Но с беспочвенными сомнениями можно и не считаться.
Итак, Арион, живший в Коринфе при дворе тирана Периандра, первый соединил дифирамбическое течение с сатировским и этим создал первую трагедию. Действительно, самое слово «трагедия» по своему этимологическому происхождению связано с сатирами: τραγῳδία означает «песнь козлов», а козлами (τράγοι), хотя и очень очеловеченными, были именно сатиры. Правда, скептицизм последнего поколения не оставил неприкосновенной и козловидности старинных сатиров. Не вдаваясь в полемику, ограничусь здесь замечанием, что прежнее мнение о козловидности сценических сатиров подтверждается и новонайденной сатирической драмой Софокла «Следопыты».
Одним или двумя поколениями позже Ариона жил Феспид из Икарии, чиноначальник специально аттической трагедии; он, говорят, первый в 534 г. до Р. Х. украсил трагедией праздник Великих Дионисий, учрежденный его покровителем, афинским тираном Писистратом. Находился ли он под влиянием Ариона? По-видимому, да, поскольку он ставил «трагедию»; но на это указывает и другая, независимая улика. Хорические песни в трагедии до поздних времен сохранили некоторые особенности чуждого афинянам дорического диалекта. Их из дифирамбического течения не объяснишь: дифирамб, как мы видели, был ионийского происхождения. Но зато Коринф, место деятельности Ариона, был дорическим городом; вряд ли можно сомневаться, что и доризмы потекли оттуда, т. е., другими словами, что Феспид был косвенно учеником Ариона. Если угодно, можно прибавить к этим двум уликам и третью: Феспид, не издававший своих трагедий, жил в памяти потомков в неразрывной связи со своей «колесницей», ставшей со временем притчей; у немцев и поныне Thespiskarren – вещественный символ актерского искусства. В этой колеснице трудно не признать того carrus navalis, о котором была речь выше в связи с «сатировским действом».
Ставил ли, однако, Феспид только трагедии в этимологическом смысле, т. е. именно «сатировские действа»? Или же он уже смягчил строгость дорических требований, введя вместо хора сатиров и хор людей в зависимости от сюжета драмы? Свидетельства нам на этот счет ничего определенного не говорят; но если он этого смягчения не допустил, то, несомненно, его допустил великий его преемник, первый трагик, которого знало также и потомство, Фриних, сын Полифрадмона (так мы его называем в отличие от бесчисленных других носителей этого очень популярного в Аттике имени). Отступив в этом отношении от своего дорического первообраза, он и в прочем был ревнителем ионийской трагедии. Фриних был современником ионийского восстания, и в его эпоху слово «ионийский» звучало для афинского уха так же, как для русского слово «славянский» в семидесятые годы и ныне. Даже диалог – как мы недавно убедились – велся у него на ионийском диалекте; в музыкальной части ионийская флейта вытеснила кифару Ариона. В этой музыкальной части, к слову сказать, заключалась его главная сила; его хорические песни надолго остались в памяти у афинян.
За ионийским восстанием последовали персидские войны, в которых участвовала вся Греция; ионофильство отступило на задний план перед панэллинской идеей. Для афинской трагической сцены это имело то значение, что дорическое «действо» сатиров, оттесненное Фринихом, могло энергично и успешно заявить о своих правах. Оно сделало это в лице поэта Пратина из Флиунта, маленького дорического городка по соседству с Коринфом. Началась борьба между тем и другим направлением, между Фринихом и Пратином, между ионийской трагедией героев и людей и дорическим «действом» сатиров. Примирителем явился великий законодатель трагедии – Эсхил; было постановлено, чтобы драматическая «трилогия» была посвящена серьезному изображению участи героев и людей, но чтобы за каждой трилогией следовала в качестве заключительного дивертисмента веселая сатирическая драма, как ее ныне принято называть.
Но об Эсхиле у нас речь впереди.
* * *
«Трагедия возникла из драматизованного заупокойного плача» – это, правда, не античное свидетельство, но все же хорошо обоснованная теория видного современного ученого. Действительно, древнегреческая заплачка имела драматическую форму, и притом хорически-драматическую: она требовала своего хора, хора плакальщиков или, чаще, плакальщиц, но требовала также и особых запевал – они так и называются (ἔξαρχoι), точь-в-точь как в дифирамбе. В лиризме хора находило себе выражение общее горестное настроение; запевалы вводили эпический элемент, прославляя доблесть и заслуги усопшего.
Заплачка искони была частью заупокойных обрядов в культе «героев», т. е. особенно почтенных мужей старины, родоначальников аристократических родов и основателей городских общин; специально в Афинах памяти этих героев были посвящены Анфестерии, «праздник цветов», в феврале. Есть таинственная связь между возобновлением растительной жизни и культом мертвых. Застывшая в зимнем сне земля, «открываясь» для пропуска живительных сил в растительные организмы – весна поныне называется в Греции «открытием», аниксис (ἄνοιξις) – открывается также и для дремлющих под ее поверхностью душ. И вот они вылетают наружу, рея вокруг мест, которые были им дороги при жизни; родственники и городские общины их приглашали, угощали яствами и питьем, тешили зрелищами, а затем, к концу праздника, безжалостно изгоняли, приговаривая: