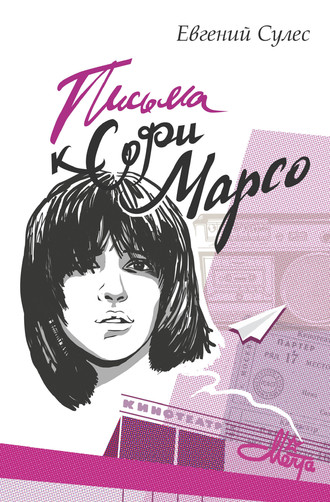
Евгений Сулес
Письма к Софи Марсо
моим родителям,
которые ушли и остались со мной…
Оформление обложки и портрет автора – Анна Пинчук
© Е. Сулес, текст, 2020
© Русский Гулливер, издание, 2020
© Центр современной литературы, 2020
Часть первая
О машинах и людях
О машинах и людях
Машины у нас не было. Машины были не у многих. Машина была роскошью. Машина была – о-го-го!.. Каждая наперечёт. Про людей с машиной говорили со значением: у них машина!.. И когда произносилось слово «машина», все понимали, что речь идёт не о стиральной машине, не о швейной, и уж тем более не о посудомоечной, её мы и представить себе не могли. Все понимали, что речь об автомобиле.
В нашем доме жил таксист дядя Лёва. У дяди Лёвы был служебный автомобиль – белая «Волга». Он иногда заезжал на ней пообедать. А, отобедав и придя в доброе расположение духа, частенько катал на своей белой «Волге» нас, дворовых мальчишек, вдоль дома, до поворота на большую дорогу. Мы любили дядю Лёву.
Дядя Лёва был совсем не похож на артиста Олега Ефремова в фильме «Три тополя на Плющихе». Дядя Лёва был очень толстый. Дядя Лёва был бывший игрок московского «Торпедо». Мы уважали дядю Лёву. «ЗИЛ» был рядом. Но болел я за «Спартак». Как отец и мой родной дядя Боря.
Раньше они болели за «Динамо». Но в конце 40-х дядю Борю, ещё совсем юнца и, надо сказать, очень советского юнца, посадили за антисоветский сговор. Забрали прямо из армии. Мой отец, спустя несколько лет, приехал с матерью, и, соответственно, моей бабушкой, Елизаветой Ивановной, членом партии с 28-го года, к дяде Боре на поселение. Дядя Боря ему тогда много чего рассказал. И про Сталина, и про Достоевского, и про Бога. Но помимо всего прочего он сказал папе: мне теперь болеть за «Динамо» нельзя. Вот с тех пор вся моя семья и болеет за «Спартак».
Был ещё дядя Жора. Мы даже знали его фамилию – Алхимов. И нам она казалась очень смешной. Машина у дяди Жоры стояла всегда в гараже. Вообще не понятно, ездил ли он на ней хоть когда-нибудь. Но в гараж ходил исправно. Мы его дразнили. Сочиняли про него песни. Мы не любили дядю Жору. Но не любили как-то весело.
А у нас самих машины не было. И ни у кого из моих друзей, у их отцов и матерей, тоже. Но три раза в год мама вызывала такси, мы всей семьёй – мама, брат, сестра и я – загружались в машину и ехали на юго-западную окраину. Мы ехали в гости к моему старшему брату.
Я слышал, что якобы в Англии, или в какой-то другой стране, нет домов с тринадцатым номером. Вот хорошо бы, чтобы у моего старшего брата никогда не было тринадцати лет. Двенадцать, а потом сразу четырнадцать. Потому что именно в тринадцать лет он погиб. Утонул, хорошо умея плавать. И три раза в год мы ездили навещать его на Хованское кладбище. На Пасху, на день рождения и на день смерти. Рождение было зимой, смерть – летом, ну, а Пасха – весной, иногда ранней, иногда поздней.
Мама копалась в земле, отмывала могильный крест, цоколь и ограду. Немного – и украдкой, чтоб нас не напугать – плакала; выпивала пару рюмочек, и мы возвращались домой, где мама допивала всё, что оставалось в бутылке.
Эти поездки на кладбище были для меня праздником. Я ждал их. Потому что через весь город, на машине!.. И никаких пробок тогда ещё не было и в помине, так что ехали с ветерком.
Мы выросли. Даже не заметили как. Как-то незаметно. Белая «Волга» дяди Лёвы давно ушла на металлолом, но сам он, ломая каноны жанра, до сих пор жив. И когда я, не так давно, уже в другом тысячелетии и в другой стране, приехал в дом моего детства, дядя Лёва грузно восседал у подъезда, похожий на охранителя града, и мы с ним битый час проболтали, вспоминая житьё-бытьё сладких советских времён. Бодрость духа бывший игрок московского «Торпедо» и таксист не растерял. Про дядю Жору (Алхимова) ничего не знаю. Моего родного дядю Борю в самом начале нулевых сбила на пешеходном переходе иномарка. Мама, за несколько месяцев до августовских событий 91-го года, не взяв с собой ничего из вещей, переехала к старшему брату.
А машину я себе так до сих пор и не купил. Как-то не хочется. Наверное, в детстве наездился. И плавать не научился.
Про девочку Валю
И стал я на песке морском…
Откровение Иоанна Богослова.
День был непривычно жарким. Валя лежала на горячем песке Балтийского моря. Лежать было хорошо. Закрыть глаза и смотреть на солнце. По красным векам бежали круги, солнечный диск оставлял отпечаток, и отпечаток плыл куда-то в сторону и вниз, как падающий с горы раскаленный камень. С закрытыми глазами не было видно недовольных лиц отдыхающих.
Отдыхающих было много. Они приехали со всего Союза, от Москвы до самых до окраин, как будто это был всесоюзный съезд отдыхающих. Они ждали это время целый год, не брали отгулов, копили сверхурочные, откладывали деньги, выбивали путёвки, жили ради этих двух-трёх недель у моря. И вот они приезжали в это место под соснами, оставляли вещи в номерах, быстрым пружинящим шагом спешили на пляж, и там, среди местных красот, на фоне уходящего в бескрайнюю даль моря, им встречалось инородное тело. Точнее тела. Отдыхающие видели странных детей, которые совсем не вязались с этим ландшафтом, входили в противоречие с покоем и негой, лишали веры в безоблачное советское бытие, солнечное, счастливое и справедливое. Наполняли чувством вины.
В самый первый момент было непонятно, что не так с детьми. Это был почти миг, секунда недоумения, но уже неприятное чувство закручивалось внутри, подступало, как рвотный позыв. А в следующую секунду картина прояснялась, сознание схватывало нужную резкость. У одного мальчика не было руки. Другой – на костылях без ноги.
Ближайшим соседом санатория был детский дом инвалидов. Эхо войны…
Валю посторонний взгляд не сразу записывал в инвалиды. Руки-ноги на месте. И только более внимательно наблюдая за ней, можно было заметить, что руки в локтях не разгибались до конца. А на самих локтях были округлые вмятины.
Год рождения 1943. Место рождения: немецкий концентрационный лагерь. На руках следы опытов. Каких – сухая и скрупулезная немецкая канцелярия умалчивала. Ещё Валя совсем не чувствовала запахов. Но это уж были совсем пустяки. Это можно было скрывать. До самой смерти. Валя так и решила сделать. Никогда никому, как только выйдет из детдома, про это не рассказывать. Даже мужу. Это будет её тайной.
О родителях Валя знала только то, что мать звали Евгенией, и она была с Западной Украины. Когда Валя попала в детский дом, то говорила только по-немецки. Новая языковая среда обучила быстро и действенно. Валя могла до умопомрачения кричать «trinken», но получала воду, только попросив по-русски. В итоге от немецкого языка осталась только специфическая «р», которую принимали за банальную картавость.
Валя лежала на песке и не открывала глаз. Идти в воду не хотелось – она стеснялась отдыхающих. И особенно белобрысого мальчика, который пялился на неё всё утро. Валя была красива. Но не знала об этом, не догадывалась. И это незнание ей очень шло. Не было рядом матери, отца, старшей сестры или брата, которые могли бы ей рассказать о её красоте. Подруги, конечно, говорили об этом. Но Валя думала, что это им только кажется, потому что её инвалидность была не так заметна.
Когда лежать стало уже совсем невозможно, Валя пересилила себя, встала и пошла к воде. Голова кружилась, всё кругом дрожало в лёгкой дымке, как сквозь свет свечи: море, отдыхающие, белобрысый мальчик, лучшая подруга Лиля с горбом, выходящая на берег из пены морской. Солнце отражалось от воды так, что было больно смотреть. Валины глаза заслезились. Она их закрыла. А когда снова открыла, произошло что-то странное.
То ли как-то особо упал свет, то ли солнце так замысловато отразилось в воде, или просто девочка перележала на солнце… Но так или иначе в воздухе произошёл некий оптический эффект, и Валя увидела что-то вроде миража. В мгновение времени, как перед эпилептическим припадком, в морском отблеске проплыла по волнам её будущая жизнь. Будто она уже была прожита, и перед гаснущим сознанием мелькали на убыстренной перемотке кадры отшумевшей, как последний полуночный трамвай, жизни.
Кадры мелькали, дрожали в воздухе, Валя видела всё, но сознание успевало выхватывать и делать акцент лишь на отдельных планах и выставлять их в более понятном хронологическом порядке.
Она увидела большие белые сугробы, которых никогда не знала, и как она и другие дети в шапках, тёплых платках и пальто съезжают прямо в них с крыши деревянного дома, как с горки…
…предрассветный большой город, и себя в нём, только-только расцветшую девушку с блестящими глазами…
…мужчину с тонкими чертами…
…коробку с отпечатанными на машинке листами желтоватой бумаги…
…четырёх детей: курчавую хитрую девочку и трёх мальчиков. Первый был не похож на других: русый, с острым носиком. Второй был неестественно мал, как экспонат из страшного музея. А самый младший – чёрен, как цыганёнок. Потом она увидела своего первенца на дне большой реки. Он был весь тёмный и мягкий, как большая водоросль, и его можно было узнать только по острому кончику носа…
…как понесла её белая река, и Валя поняла, что это не река, а что-то другое, липкое и горькое. Белая река несла её, течение становилось всё сильней, и сама Валя как бы росла, надуваясь воздухом, разрастаясь в стороны, расходясь, как круги на воде, пуская в реку жидкие корни…
…как на её ногах стали расти тяжёлые пудовые гири, покрытые мхом, и тянуть на дно. Валя всё увеличивалась в размерах и, наверное, не узнала бы уже себя, но руки в локтях с округлыми впадинами предательски не разгибались до конца…
…человека в фуражке и белом халате, накинутом на чёрный мундир, похожего на картошку и смутно знакомого…
…его губы бесшумно и монотонно раскрывались, как у рыбы, которая задыхается без воды. Но Валя поняла, что он сказал:
– Ты не прошла испытание!.. …был пьян и опыт не удался…
– Нетушки, – вдруг зло ответила Валя. – Это вы не прошли испытание. Вы умерли. А я буду жить!
…человек снял фуражку. Вытер белым чистым платком пот со лба и стёр себе половину черепа. Открыл рот буквой «о», изо рта надулся розовый пузырь и лопнул. Но Валя поняла:
– Разве это жизнь?..
…увидела, что та она, что стала очень большой, плывёт в деревянной лодке и уже не по белой реке, а по чёрной, свежевскопанной земле…
…воскресный день с обманчивым апрельским солнцем…
…лодка вплыла в тихую маленькую гавань-запруду, на дне которой лежал её первый сын и колыхал ей поднятой вверх рукой…
…лодку накрыли крышкой и кинули сверху горсть гвоздей; рядом проплыло дерево…
Наверное, от солнца укрыли, – подумала Валя.
И тут же догадалась: Задраили люки, сейчас пойдёт на погружение…
…рядом с лодкой плакал маленький, хотя уже и не такой маленький, черноволосый младший сын; она подошла к нему и вытерла слёзы…
…лодка стала быстро опускаться, скрываясь под толщей грязной воды…
…Валя разбежалась и прыгнула рыбкой вслед за ней…
И когда она падала – или летела (какая уже была разница?) – то где-то внутри неё, в самом центре, что-то очень важное, может быть, самое важное, разорвалось на части.
А Валя на берегу не в силах больше смотреть отвернулась, встретилась глазами с белобрысым мальчиком, улыбнулась ему и пошла в прохладную воду Балтийского моря, стараясь не думать о том, была ли это на самом деле её жизнь или просто… осевший пар…
Обет
Когда умерла мама, он дал слово, что больше не будет дрочить. Ему почему-то казалось, что это как-то связано между собой. Не давало покоя чувство вины. И ещё казалось, несмотря на уже четырнадцать лет… как сказать… ему верилось, что если он больше не будет этого делать, мать вернётся. То есть рассудком он ясно понимал, что это невозможно. Но слово дал.
Не прошло и сорока дней, как он, сидя в наполненной до краёв ванне, в нежной тёплой воде сделал это снова. И вот когда клубы вырвались из него и попали в воду, похожие на клочья густого белого тумана, он заплакал. Не так сильно, как в тот момент, когда забивали гвозди в крышку гроба. Но всё-таки заплакал. И жидкости в ванне стало незримо больше.
Ему стало и стыдно, и больно, и противно, и не знаю, как ещё. Он стал сопричастен этой смерти. Не сдержал слово. И значит, мать уже точно не вернётся. Никогда.
Он стоял в сберкассе. Очередь была длинная, изломанная, почти недвижима. Люди застревали у окошка надолго. Время на часах как будто остановилось. На экране плазмы, как издёвка, застывшая картинка: пена набегающих на берег волн.
Он вспомнил, сколько ещё раз делал это. Несть числа семени не упавшему в землю и не принесшему плода… И сколько раз изменял жене. Вспомнил маму, и ту ванную комнату, и белые хлопья в тёплой воде… Вспомнил, как ему тогда казалось, что она всё это видит. И моргнул глазами.
– Здесь будет большая комиссия, – сказала девушка в окошке.
– Я знаю, – ответил он.
Скелеты за окном
Когда мне было три года, меня напугал мой старший брат. Мы жили на первом этаже, стояло жаркое лето восьмидесятого, високосного, года, он подошёл к открытому в московскую ночь балкону – в этой заоконной тьме, если приглядеться, уже можно было прозреть грядущую Олимпиаду и смерть Владимира Семёныча – и закричал, показывая рукой в темноту: «Скелеты! Скелеты!»
Я так испугался, что начал заикаться. Правда, врач говорил, что это у меня слова не поспевают за мыслями, и это пройдёт. Но я-то знал, что это от скелетов. Однако доктор оказался прав в том, что со временем прошло.
Потом брат напугал до смерти мою сестру. Тем же, густым, летом отец взял их с собой в какую-то экспедицию на Оку, в которую кто-то взял в свою очередь его самого – там была сложная цепочка. Перед экспедицией отец сломал ногу, но всё равно поехал. Ночью в палатке брат трижды просыпался с криками: «Не топите меня! Не надо!..» На следующий день он утонул в этой самой Оке, хорошо умея плавать.
Спустя семнадцать лет меня так же подозвала к окну девяностолетняя двоюродная бабушка моей будущей жены и, ткнув слегка дрожащей, как пламя свечи, рукой в сумеречную темноту, сказала: «Там они». «Кто?» – не понял я. «Покойники», – сказала она буднично. И мне стало страшно. Ну, может, не так, как в три года стало страшно скелетов за окном, заикаться снова я не начал. Но подумал: вот бабушка умирает…
Она действительно умирала. После того, как её соборовали, как это часто бывает, процессы стали настолько стремительны, что не было никаких сомнений, счёт идёт на дни. Умерла она через два дня, не став опровергать нашу уверенность в невидимом. Перед смертью попросила сигарету, как солдат перед боем. Никогда не курив, умело затягивалась, ни разу не закашляла, смотрела на нас изумлённых, улыбаясь из лёгкой никотиновой дымки не своей улыбкой, не своими глазами.
Так вот, я подумал… бабушка умирает, и, может быть, там за окном и, правда, покойники. Просто я их не вижу, а она видит. И ещё подумал, вспомнив скелетов за окном, может, и Лёша – мой старший брат – тоже тогда не шутил.
Бахчиванджи
До Бахчиванджи можно доехать на маршрутке прямо от автовокзала на Щёлковской. Когда стемнеет, зажигаются огни, автовокзал становится похож на большой межатлантический лайнер.
Я никогда там не был. Как-то шёл промозглым осенним вечером к метро и слева от лайнера прочитал на одной из маршруток: «Бахчиванджи». И сразу представил: садишься на маршрутку, проезжаешь энное количество остановок, выходишь, а там: тепло, южное солнце, бахча кругом плодоносит. Срывай, ломай и ешь прямо руками.
С тех пор всякий раз, проходя мимо автовокзала, я искал глазами нужную маршрутку и заветное слово на ней. И представлял, что как-нибудь плюну на всё, и вместо того, чтобы поехать на метро по делам, возьму шкалик виски и сбегу на маршрутке вон из Москвы в благословенные земли Бахчиванджи.
Но это всё мечты, конечно. Никуда бы я так и не поехал, если бы не Виталик.
Виталик никак не мог к нам приехать. Пришлось самому его навещать; как оказалось в Бахчиванджи. Виталик сменил много съёмных квартир в Москве, пока не вернулся к родителям в Подмосковье. А там – прямой дорогой в Бахчиванджи.
Поехал я один, так захотелось. День был плохой. Пасмурный, с низким тяжёлым, как из чёрно-белых фильмов, небом над головой. Не в такой день хотел я отправиться в Бахчиванджи. И не к Виталику…
Кладбище было голое, унылое, новодел было кладбище. Пока тщетно искал нужный участок, продрог. Грязь налипла на ботинки. Я тяжело передвигал ногами, как водолаз под водой. Местный житель, могильщик, мужик лет пятидесяти в испачканной землёй одежде, пошёл проводить. От нечего делать, или надеясь, что перепадёт помянуть – бутылка виски, не таясь, торчала у меня из кармана пальто.
Интересно, кладбище это общественное место, здесь можно или нельзя? Представляю протокол в местном отделении: Сержант такой-то задержал гражданина Евгения С. за распитие спиртных напитков в общественном месте – кладбище посёлка Бахчиванджи – с целью помянуть душу своего усопшего друга Виталия М…
Могильщик, как и полагается людям его профессии, был весел. Вильям, ничто не изменилось за века!.. Других не берут в космонавты. «А в этом месте по-другому не прожить», как пела известная уральская группа.
Я решил согреться и отпил из бутылки, зная, что алкоголь не согревает. Вера сильнее знания. Иллюзия слаще горькой правды. Протянул могильщику.
– Мерси, – крякнул могильщик. – Прям из горла что ль? У меня стакан имеется.
Он достал откуда-то из широких штанин классический граненый стакан, показал. Так дети любят хвастаться какой-нибудь диковинной и совершенно никчёмной вещью: камнем, веточкой, зелёным бутылочным осколком.
– Вы давайте из стакана, а я из горла. Как старый ковбой из фильмов Сэма Пекинпа.
– Как скажете, – кротко произнёс могильщик. – К слову, замечу, названный вами режиссёр мне незнаком. Я больше по отечественному кинематографу.
– И кто же вам из отечественного? Леонид Гайдай?
Могильщик налил себе полстакана, вернул бутылку. Глянул на меня:
– Почему Гайдай? Мне ближе поэтика нашего старого кино. «Большая жизнь» Лукова, «Два бойца». «Летят журавли» Калатозишвили… Простое человечное кино.
Он посмотрел в стакан с виски, будто там, на поверхности маленького торфяного озера, и показывали это «простое человечное кино».
– Наверное, надо вдохнуть аромат? Но я уж так. Как вашего… родственника зовут?
– Друга. Виталик. Звали…
– У Него, – и могильщик ткнул пальцем в небо, – все живы. Пусть земля будет пухом рабу Божьему Виталию.
Он перекрестился, резко выдохнул и влил в себя полстакана виски. Хорошо, что «Белая лошадь». А если бы «Лагавулин»?.. Дальше шли молча. Не люблю молчать с незнакомыми.
– Странное название «Бахчиванджи», – сказал я, чтобы что-то сказать.
– Отчего же?
– Ну какое-то… восточное.
– Это фамилия. Посёлок назван в честь лётчика Бахчиванджи, Григория Яковлевича.
– Никогда про такого не слышал.
– Ну как же, выдающийся лётчик, герой Советского Союза, капитан! Шестьдесят пять боевых вылетов, двадцать шесть воздушных боёв… Два самолёта сбил лично: «Дорнье-217» и «Юнкерс-88», и ещё три в группе: два «Юнкерса» и один «Хейнкель-126». Погиб в самый разгар войны, в сорок третьем году, в тылу, при испытании реактивного истребителя-перехватчика «БИ-3», первого советского самолёта с жидкостным ракетным двигателем. Дело было под Свердловском, в начале весны, двадцать седьмого марта. До этого Бахчиванджи уже испытывал «БИ-1». Для стоявших на земле и наблюдавших полёт, всё было необычно. Самолёт за десять секунд оторвался от земли, а через тридцать скрылся из глаз. Только пламя двигателя говорило о том, где он сейчас. Посадка была жёсткой. Потом Григорий Яковлевич провёл ещё четыре испытательных полёта на «БИ-2» и «БИ-3». И вот тот самый, последний, полёт Бахчиванджи двадцать седьмого марта. Задача не из лёгких. Самолёт проверяли на максимальную высоту и скорость. Нужно было в горизонтальном полёте на высоте две тысячи метров довести скорость до 800 км/ч. С земли за полётом наблюдали создатели самолёта, товарищи, любимая женщина. Смотрели фильм Юлия Райзмана «Лётчики»? Вот всё как в фильме. Только самолёты серьёзней. И война. Хотя здесь на Урале, кажется, что её будто и нет. Только люди уходят и не возвращаются… Они смотрели в небо, затаив дыхание. Полёт протекал нормально. На семьдесят восьмой секунде двигатель перестал работать. Так и должно было быть – лётчик должен был дождаться выключения двигателя по окончании топлива. Григорий Яковлевич в этот момент развил скорость уже свыше 900 км/ч! Но тут самолёт вошёл в пике и под углом около пятидесяти градусов ударился о землю. Его находят в шести километрах южнее аэродрома. Бахчиванджи не предпринял никаких попыток выровнять самолёт или покинуть машину. Видимо, к тому времени он уже потерял сознание, ударившись солнечным сплетением о штурвал. Григорию Яковлевичу было на тот момент всего тридцать четыре года.
Могильщик замолчал, будто отдавая дань памяти погибшему лётчику.
– Честно говоря, я поражён, – сказал я, помолчав вместе с могильщиком. – Вы знаете и помните столько подробностей…
– Люблю читать. И память хорошая.
– И что вы любите читать?
– Историческое, в основном.
Могильщик красноречиво глянул на торчащее из кармана моего пальто горлышко с жёлтой пробкой. Я поспешно достал и протянул ему бутылку. Мы снова остановились, могильщик налил себе всё те же полстакана и аккуратно, будто под уздцы, вернул мне мою лошадь.
– Тут уже недалеко до вашего товарища осталось. За раба Божьего Григория Яковлевича Бахчиванджи!
Я кивнул и сделал большой глоток из горла.
– Фамилия какая-то странная. Чья? Абхазская?
– Нет, он из греческих гагаузов.
– Надо же. Греческий гагауз. Я и не знал, что такие есть…
– Редкий народ. Их всего тысяч двести, триста осталось. В основном, в Молдавии живут. Григорий Яковлевич родился в Краснодарском крае. В двадцать седьмом году перебрался в Мариуполь…
– Мариуполь?
– Слушайте, неужели нельзя произнести Мариуполь, или Донбасс, чтобы в вашей голове не возникло никаких актуальных аллюзий?
– Сложновато…
– Вообще-то, да, непросто. Тем не менее, из песни слов не выкинешь, Бахчиванджи в двадцать седьмом году переезжает в Мариуполь и участвует в строительстве «Завода имени Ильича». Но вот мы и пришли. Вот этот участок должен быть. Он?
Я вгляделся в надпись на маленькой железной табличке, вкопанной почти на уровне земли.
– Да… Он. Спасибо.
– А ваш друг? Кем он был?
Вопрос поставил меня в тупик. Я смотрел на табличку и думал. Виталик, кем ты был? Как ответить этому любителю читать «историческое» с хорошей памятью?
– Молодой совсем, – не дождавшись ответа, сказал могильщик. – Тридцать пять всего.
– Да.
– Так кем он был?
Я выдохнул воздух.
– Он был пидарасом.
Наверное, надо было сказать «гомосексуалистом». А точнее, вообще об этом не говорить. Но часто, когда мне становится неловко, что-то тяготит и напрягает, я прячусь за грубость.
Могильщик, казалось, совсем не смутился и не потерял своего философского настроя.
– В прямом или переносном смысле?
– В прямом.
Могильщик немного помолчал. Но уходить явно не собирался.
– А вы?
– Что я?
– Ну вы тоже… того?
– Нет. Я нет.
– Извините, просто он ваш друг, вот я и подумал, может быть, вы тоже…
– Нет. Он да, а я нет. У меня жена, ребенок…
– Ну это никому не мешает.
– Тоже верно. Но нет. Не знаю, может, я вас огорчил…
– Нет-нет, не огорчили, что вы. Свободу воли ещё никто не отменял… А чем он занимался, кем работал?
– Да этим и работал…
Казалось, что нет на свете вещи способной его удивить. Но тут глаза могильщика слегка округлились.
– Это как?
– Сначала он работал в театре администратором…
– В театре Виктюка?
– Почему Виктюка?
– Ну раз он этот…
– Ну знаете. Такие люди могут в любом театре оказаться. И не только, кстати, в театре. Вот у вас, например, на кладбище. Вы приглядитесь, всё может быть.
Могильщик как-то косо на меня посмотрел, но возражать не стал. Я продолжил историю Виталика.
– Так вот, он работал администратором в театре, не Виктюка, в другом. А, чёрт!.. Да. Да! Он работал у Виктюка. Но мог работать, где угодно, в каком угодно другом театре, и не в театре вообще. Работал очень хорошо на хорошем месте. А потом… переспал с кем не надо. Или, наоборот, с кем надо не переспал. В общем, его уволили. И он стал зарабатывать… вот этим самым. Давал объявления в газете. К нему приезжали богатые упакованные дяди с охраной, на больших чёрных машинах с тонированными стеклами. Он был красив. Утверждал, что внук маршала, в честь которого названа одна из улиц Москвы. Правда, в голубых кругах, как мы потом узнали, у него было прозвище Сказочница. Так что, может, он это всё и выдумал. Он много чего рассказывал. Не поймёшь теперь, где правда, где нет. Говорил, что в детстве его насиловал отец… Но порода в нём читалась. Так что всё может быть насчёт деда-маршала. В него постоянно влюблялись женщины, помогали ему, становились податливы, как пластилин, от одного его присутствия. Он, кстати, не гнушался, мог иногда забить гол в чужие ворота.
Я замолчал.
– Как он умер? – не унимался могильщик.
– Он умер от СПИДа, в сумасшедшем доме. Где-то здесь недалеко. Его, наверное, никто там не навещал. Мы поругались, не общались, узнали о смерти случайно и не сразу. У него крыша совсем под конец поехала. То ли на почве болезни, то ли изначально с головой было не в порядке. Скорее всего, второе. Жену мою называл Магдалиной. Себя Иисусом. Меня Иудой. Он меня не любил. Он был другом жены. Она тоже была в него влюблена. В общем, как и все. Возила продукты, давала денег. Когда я появился, он начал ревновать… Года за полтора до смерти, его ночью, пьяного, пырнули ножом, совсем рядом с сердцем. Чудом жив остался. Тогда про СПИД и выяснилось… Выжил, уже будучи неизлечимо болен, чтобы умереть через полтора года в сумасшедшем доме.
Я говорил без остановки, не знаю, зачем. Говорил, а сам думал, зачем я ему это всё говорю?.. Бред какой-то. Я достал бутылку, отпил. Вспомнил про могильщика, который смиренно стоял на смиренном кладби́ще и ждал, когда про него вспомнят. Протянул ему бутылку, он налил свои традиционные полстакана. Я вдруг понял, что он не уйдёт, пока мы не допьём.
– Доливайте, чего уж там.
Могильщик долил, но не всё. Протянул мне остатки.
– Думаю, или, точнее, желаю, чтобы страдания вашего друга искупили все его прегрешения. Вменились, так сказать, в праведность. Жизни без греха не бывает. А греха без жизни. На том свете не погрешишь… Мне кажется, ваш друг сильно пострадал на этом свете. А Бог милостив.
Могильщик выпил, издав какой-то глухой утробный звук. Убрал стакан в широкие штанины, достал оттуда яблоко. Потёр, протянул мне.
– Спасибо.
– Дорогу назад найдёте?
– Да, найду.
– Тогда будьте здоровы! Заходите к нам, не забывайте.
Он повернулся и зашагал верной походкой по кладбищенской дорожке. Потом оглянулся, широко улыбаясь.
– А всё-таки у нас на кладбище таких нет. Я бы знал. Я всё про всех знаю. Ну бывайте. Духом не падайте. Земля всё перемолит. Помолится за нас.
Набежали быстрые осенние сумерки. Я побрёл к выходу, ощущая, как скачет в моей крови, летит по венам белая лошадь. Говорил по дороге то с Виталиком, то с Богом.
Прости, Виталик, за всё. За то, что оставили, не были с тобой до конца… Мы плоды твои, Господи. Гибридные, недозревшие, бахча северных широт. Возьми в руки твои, Господи. Может, у Тебя в ладонях заплодоносим, заголосим.



