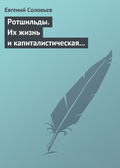Евгений Андреевич Соловьев
Джон Мильтон. Его жизнь и литературная деятельность
Тревожная совесть пуритан не была, однако, больной совестью, способной лишь мучить человека бесплодным раскаянием, отнимая в то же время от него всякое желание действовать. Больная совесть гнетет человеческое сердце, парализует лучшие его порывы, превращая всю его жизнь в тяжелую непроглядную тоску. Не то совесть пробудившаяся, познавшая неправду и зло человеческой жизни и решившаяся восстать против них во всеоружии божественного закона. Постоянные преследования, которым подвергались пуритане, выработали в них неукротимую энергию, ожесточение, не признававшее никаких соглашений с врагами, воинственный дух, радостно ликовавший при возможности умереть за дело, представлявшееся им правым. Мало-помалу в тюрьмах, у позорных столбов, на эшафотах научились они не признавать другой власти, кроме власти Бога, другого руководителя, кроме Священного Писания. Если их учение, противное здоровой человеческой природе, и должно было переродиться в конце концов в ханжество и обрядность, то первоначально оно все же было искренним. И пуритане доказали эту свою искренность, доказали на страшном испытании «огнем и железом», которому то и дело подвергали их.
Из материала религиозной восторженности были созданы пуританские души. Эту восторженность вы одинаково найдете и у Беньяна, современника Мильтона, автора знаменитого «Piligrim's Progress», и у Кромвеля, и у других деятелей эпохи. Но Беньян изобразил лишь одну их сторону: самоуглубление. Все равно как тело творца «Piligrim's Progress» было всю жизнь заключено в узкую темницу, так и дух его не выходил за пределы самоочищения и совершенствования. В нем вы не чувствуете ничего ожесточенного, его гордость поглощена христианской кротостью. Это мученик, но не боец. Но у пуритан была и другая черта – суровая гордость, как называют ее историки. Она появилась не сразу, и, чтобы воспитать ее, нужны были обиды и гонения и безусловное сознание своей правоты. Вечное в пуританизме, его тоскующая душа, его самоуглубление, плач о грехах, страстная жажда спасения, религиозные восторги – все это нашло своего певца в простом меднике. Но пуританизм, вышедший за пределы самоуглубления и самобичевания, восставший с оружием в руках против всего, что представлялось ему злом и неправдой, пуританизм воинствующий, исполненный гордости и непреклонного мужества, нашел себе другого выразителя, сердце которого было одинаково способно и к любви, и к ненависти, и к прощению, и к злобе.
Этим выразителем был Мильтон.
Глава I
Детство. – Семейная обстановка. – Школа Св. Павла. – Университетские годы.
«Джон Мильтон родился в доме своего отца на Бридж-стрит, в лондонском Сити, в пятницу 9 декабря 1608 года в половине шестого утра». Этими словами Массон начинает жизнеописание великого поэта и продолжает его в том же тоне, с тем же неутомимым вниманием ко всем мелочам, с той же точностью до одной минуты, если можно так выразиться. В результате получается громадное шеститомное сочинение в несколько тысяч страниц, где нашли себе место все факты, которые прямо или косвенно могли влиять на развитие характера, убеждений, привычек Мильтона. В этой чисто мозаичной работе, сложенной из миллионов отдельных маленьких камешков, Массон не имел себе равного; благодаря ему мы действительно знаем Мильтона, его настроение в каждое данное время, его друзей и знакомых, его родных до пятого колена, обстановку дома, где он жил, – словом, все, что можно знать, взглянув на жизнь человеческую с ее внешней стороны. Достаточно Мильтону в одном каком-нибудь из своих писем упомянуть имя случайного своего знакомого или просто человека, с которым он перекинулся несколькими словами в дороге, как неутомимое усердие Массона уже настороже, и читатель немедленно же получает все сведения об этом лице, какие можно только собрать в европейских архивах. Словом, с внешней стороны нельзя желать ничего лучшего и можно пожаловаться скорее на изобилие, чем на недостаток. То же самое приходится сказать и о внутренней жизни поэта, – и ее мы знаем всю до сокровеннейшей глубины. Сам Мильтон рассказал нам историю своего сердца в своих бесчисленных произведениях, в своих письмах, стихах и прозе, политических и ученых трактатах, драматических пьесах и, наконец, собрал ее, как в фокусе, в лучшем бриллианте своей писательской короны – «Потерянном Рае» («The Paradise lost»). Я не знаю во всем XVII столетии ни одного другого человека, чью жизнь и личность мы могли бы восстановить с такой завидной полнотой, как жизнь и личность Мильтона. Разумеется, в этом виноват прежде всего случай, сохранивший во всей целости и неприкосновенности каждую строку, написанную Мильтоном и о Мильтоне, и несомненно, что это очень редкий счастливый случай. Припомните, в самом деле, какая странная судьба постигла биографию Шекспира, родившегося всего на каких-нибудь 75 лет раньше Мильтона. О Шекспире мы почти ничего не знаем, и еще в настоящее время идут споры, был ли он на самом деле, не мифическое ли он лицо, как Гомер, или, по крайней мере, не псевдоним ли, под которым скрывали свои творческие произведения королева Елизавета и канцлер Бэкон? Насколько справедливо последнее предположение, для нас теперь не важно; взятое в целом, оно не выдерживает ни малейшей критики; но важен самый факт, что такое мнение могло появиться, держаться десятки лет и не получить ни одного несомненного опровержения. Так или иначе, оно имеет одну несомненную опору в том, что мы действительно не знаем относительно многих пьес, приписываемых Шекспиру, действительно ли они принадлежат ему. С Мильтоном ничего подобного не случилось, а что еще интереснее, ничего подобного и случиться не могло. Попробуйте уловить личность Шекспира в 37 его драмах. Едва ли вам это удастся. То он как будто говорит с вами в лице меланхолического Жака, уверяющего вас, что «мир – театр: в нем женщины, мужчины – все актеры»; то шутит с вами в лице циника Фальстафа, которого он наградил всем комизмом своего гениального ума; то вместе с Гамлетом доходит до помешательства перед грозным вопросом «быть или не быть» и чувствует священный ужас перед роковой загадкой смерти и той страной, откуда никто не возвращался. Не то, совершенно не то Мильтон. Вы поразительно быстро привыкаете к нему, его стилю, его нравственным изречениям, его серьезной, немного даже суровой личности, в глубине которой, под двойной оболочкой средневекового ученого и фанатически преданного своим политическим и религиозным убеждениям борца, неумолкаемо бьет ключ самой нежной и возвышенной поэзии. Что, казалось бы, могло быть общего между «Сонетом соловью» («Sonnet to the nightingale») и «Потерянным Раем», на каждой странице которого вы слышите глухие раскаты революционного грома, – а между тем, всмотревшись попристальнее, вы увидите тот же стиль, ту же манеру. В ряду великих английских поэтов, которые непрерывно следовали друг за другом со дня рождения Шекспира по день смерти Мильтона, то есть на протяжении почти 150 лет, вы всегда узнаете Мильтона. Он выделяется между ними, как пуританин своей темной одеждой, опущенными глазами, серьезным лицом выделялся среди разодетых, облитых золотом придворных. Строго говоря, он – единственный великий поэт пуританской Англии, что и кладет на все, вышедшее из-под его пера, резкий и своеобразный отпечаток.
Мильтон происходил из пуританского семейства, где мужество, нравственное благородство, художественные наклонности к поэзии и музыке как будто нарочно собрались вокруг его колыбели, чтобы убаюкивать ребенка высокими и красноречивыми словами. Мать его – «примерная особа, славившаяся во всем околотке благотворительностью»; отец – серьезный, славный человек, «никогда не знавший отчаяния, разве что в те минуты, когда сомневался в спасении души». Отец Мильтона уже в юности потерпел за убеждения: родные нашли в его комнате английскую Библию, что было великим преступлением в глазах искренних католиков, лишили за это наследства и заставили молодого человека серьезно подумать о будущем. Он занялся адвокатурой, и так удачно, что в скором времени составил себе состояние, приобрел дом в Лондоне, имение и впоследствии мог дать своим детям блестящее образование и даже обеспечить их наследством на всю жизнь. Сухая и беспокойная работа адвоката по гражданским делам давала, однако, отцу Мильтона столько свободного времени, что он мог заниматься и литературой, и музыкой, к которой он чувствовал особенное пристрастие. Свой богатый слух он передал и старшему сыну-поэту, и это обстоятельство не представляется маловажным. Дело в том, что, когда вы читаете стихи Мильтона, вам кажется, что вы присутствуете в протестантском соборе, где, то стихая до едва слышного задумчивого журчания, то возвышаясь до грозных торжественных звуков, неумолкаемо играет орган. Таких стихов, как стихи Мильтона, не мог написать человек без музыкального дара. Он и обладал им в действительности, и впоследствии любил услаждать импровизациями тяжелые минуты своей жизни.
Композитор, причем один из лучших в свое время, и поэт, отец Мильтона особенно заботился, чтобы сын получил широкое и всестороннее литературное образование. В этих занятиях – все тревоги и радости его детства, а потом и юности. «Читатель без труда представит себе этого ребенка, жившего в образованной семье среднего сословия, где стремления были возвышенны, образ жизни регулярен, где перекладывали псалмы на музыку, где писали модные тогда мадригалы в честь Орианы (королевы Елизаветы), где пение, литература, живопись, вся умственная роскошь изящного Возрождения украшали собой серьезную простоту, трудолюбивую честность, глубокое христианское чувство Реформации. Весь гений Мильтона истекает отсюда: он внес блеск Возрождения в серьезный смысл Реформации, великолепие поэзии – в суровую доктрину пуританизма и очутился со своим семейством при слиянии двух цивилизаций, которые сумел примирить». Ниже мы увидим, в чем смысл этого примирения, как добро в поэзии Мильтона стало прекрасным, а прекрасное – добрым, или, лучше сказать, красота стала правдой, а правда – красотой.
До десятилетнего возраста при Мильтоне находился наставник, ученый и пуританин, «коротко обстригший ему волосы» и научивший свободно читать по-латыни; кроме того, Мильтон ходил в школу Св. Павла, бывшую неподалеку от дома, где он жил. Школа Св. Павла, сообщает Массой, была чисто грамматической, то есть предназначенной исключительно для получения классического образования. «Классическая премудрость сообщалась воспитанникам в очень широких размерах. В немного лет успевали они основательно ознакомиться с лучшими поэтами и прозаиками Рима и получали навык изящно говорить и писать no-латыни». В меньшей степени изучался и греческий язык. Всем этим Мильтон занимался со страстью.
«Когда я был еще ребенком, – говорит один из выводимых им на сцену персонажей, очень на него похожий, – меня не привлекала никакая детская игра. Все силы моей серьезной души устремлены были на учение и знание, чтобы впоследствии посредством их работать для общего блага. Мне казалось, что я был рожден распространителем великой истины».
Но обучение не ограничивалось классическими языками, хотя они являлись краеугольным камнем. «Когда, – пишет Мильтон в латинской поэме, обращенной к отцу, – благодаря Вашим стараниям и жертвам я получил доступ к красноречию римского языка, прелестям Лациума и высоким словам, достойным языка самого Юпитера, употреблявшимся греками, – Вы посоветовали мне прибавить ко всему этому поэтические цветы, составляющие гордость Галлии; речь, которую новый итальянец (new Italian) испускает из своих безнравственных уст, – и тайны, высказанные пророками Палестины…»
Под старость, заметим кстати, Мильтон особенно ценил знание еврейского языка и ежедневно заставлял прочитывать себе главу из еврейской Библии.
16-летним юношей, в феврале 1624 года, Мильтон поступил в Кембридж студентом, как мы сказали бы в настоящее время. Это была роскошь, которой он был обязан своему отцу, не жалевшему денег для воспитания сына. Еще и в настоящее время жизнь английского студента обходится чрезвычайно дорого, и на 1000 рублей «можно в Оксфорде или Кембридже вести лишь самую скромную жизнь». В XVII столетии дело обстояло не лучше, и, не считая карманных денег, составляющих и составлявших всегда безусловную необходимость для юного англичанина, – за содержание Мильтона в университете отцу его ежегодно приходилось вносить 50 фунтов стерлингов, что в наши дни составило бы круглую сумму – 1500—2000 рублей. Однако он постоянно нуждался и, по собственному признанию, вынужден был жить «with unmost economy» – с величайшей экономией.