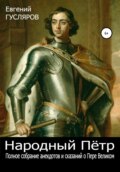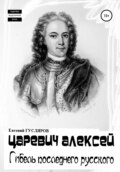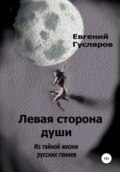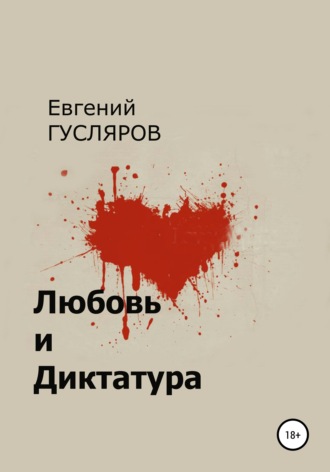
Евгений Николаевич Гусляров
Любовь и диктатура
Об общем количестве женщин, вместившихся в большое сердце светлейшего князя точнее других сказал поэт Державин:
«Многие почитавшие кн. Потёмкина женщины носили в медальонах его портрет на грудных цепочках».
…Однажды, выйдя из церкви, где отпевали кого-то, князь по рассеянности сел в погребальные дроги. Когда очнулся, сильно поскучнел. Даровое счастье сделало его мнительным и суеверным. Случай этот расценил он как предвестие смерти. Вскоре, и точно, тяжко занемог.
Умирал князь в дороге, на широком молдавском шляху. Почувствовав приближение смерти, велел вынести себя из кареты и положить на траву. Не мог надышаться свежим утренним воздухом. Видел, как в небе парит орёл. Умер легко. Счастье и тут не изменило ему. Крепко и сильно вздохнул напоследок и вытянулся, будто лёг поудобнее. Искали в карманах его блестящего камзола золотой империал, чтобы положить ему на глаза. Золота не было. У конвойного казака нашёлся медный пятак, которым и сомкнули глаза того, кто только что был могущественнейшим из людей. Так закончилась, возможно, самая блестящая земная жизнь. Оказалось, и самой роскошной жизни потребно в конце не больше медного пятака…
…Искали в его карманах золотой империал, нашли две записки разных почерков:
«Как ты провёл ночь, мой милый; желаю, чтоб для тебя она была покойней, нежели для меня; я не могла глаз сомкнуть… мысль о тебе единственная, которая меня одушевляет. Прощай, мой ангел, мне недосуг сказать тебе более… Прощай, расстаюсь с тобой. Муж мой приедет сейчас ко мне».
И ещё:
«Батенька, мой милый друг, приди ко мне, чтобы я могла успокоить тебя бесконечной лаской моей. Воля твоя, милуша милая, Гришифишичка, а я не ревную, а тебя люблю очень…»
Последняя из писулек этих принадлежала лично Екатерине Великой.
Военные залпы, прозвучавшие потом над его могилой, ничто в сравнении с этим беззвучным салютом осиротевших женских сердец…
Приложение
Без него и тут никак нельзя. Иначе превратное выйдет представление о жизни замечательной женщины и достойной избранницы истории. Двигала этой жизнью не только жажда любви. Она жадно пила и из других источников. Мы выберем то, что можно считать восклицательным знаком в конце её жизни. Задумываясь о конце жизненного пути, она хотела оставить потомству свой опыт. Она знала точную ему цену. Ведь именно опыт движет нашу личную жизнь к совершенству. Опыт каждого становится общим, коллективным, и без этого невозможно приблизить то, что подразумеваем мы под прогрессом, совершенством земного уклада, о котором мечтаем.
Исторический анекдот: Бельгийский принц Шарль Жозеф де Линь сопровождал Екатерину Великую в одной из поездок по России, в ходе которых она лично в блестящих и шумных собраниях награждала многих отличившихся военных и гражданских лиц. Принц обратил на это внимание.
– Ваше Величество, мне кажется, что вы всегда довольны своими подданными!
– Принц, я далеко не всегда бываю ими довольна, – возразила Екатерина. – Просто я хвалю всегда громко, а браню шёпотом!
Цитата: Пять предметов, важных в управлении государством (по мнению Екатерины):
1. Нужно просвещать нацию, которой должен управлять.
2. Нужно ввести добрый порядок в государстве, поддерживать общество и заставить его соблюдать законы.
3. Нужно учредить в государстве хорошую и точную полицию.
4. Нужно способствовать расцвету государства и сделать его изобильным.
5. Нужно сделать государство грозным в самом себе и внушающим уважение соседям.
Строка Завещания. Писано рукой императрицы, стиль и орфография сохранены:
Буде я умру в Царском Селе, то положить мне на Софиенской городовой кладбище.
Буде – в городе святаго Петра – в Невском монастире в соборной или погребальной церквы.
Буде – в Пелле, то перевезти водой в Невской монастыр.
Буде – на Москве – в Донской монастир или на ближной городовой кладбище.
Буде – в Петергофе – в Троицко-Сергеевской пустине .
Буде – в ином месте – на ближной кладбище.
Носить гроб кавалергардом, а не иному кому.
Положить тело моё в белой одежде, на голове венец золотой, на котором означить имя моё.
Носить траур пол года, а не более, а что менее того, то луче.
После первых шести недель раскрыть паки все народные увеселения.
По погребении разрешить венчание, – брак и музыку.
Вивлиофику мою со всеми манускриптами и что в моих бумаг найдётся моей рукою писано, отдаю внуку моему, любезному Александру Павловичу, также резные мои камение, и благословаю его моим умом и сердцем. Копию с сего для лучаго исполнение положется и положено в таком верном месте, что чрез долго или коротко нанесёт стыд и посрамление неисполнителям сей моей воле.
Мое намерение есть возвести Константина на Престол греческой восточной Империи.
Для блага Империи Российской и Греческой советую отдалить от дел и советов оных Империи Принцов Виртемберхских и с ними знатся как возможно менее, равномерно отдалить от советов обоих пол немцов.
Венцом же её жизни стало «нравственное завещание», которое она написала для будущих поколений:
«Изучайте людей, старайтесь пользоваться ими, не вверяясь им без разбора, отыскивайте истинное достоинство, хоть оно было на краю света. По большей части оно скромно и прячется где-нибудь в отдалении. Доблесть не лезет из толпы, не суетится и позволяет забыть о себе.
Никогда не позволяйте льстецам осаждать вас: давайте почувствовать, что вы не любите ни похвал, ни низостей.
Оказывайте доверие лишь тем, кто имеет мужество при случае вам поперечить, и кто предпочитает ваше доброе имя вашей милости.
Будьте мягки, человеколюбивы, доступны, сострадательны и щедры. Ваше величие, да не препятствует вам добродушно снисходить к малым людям и ставить себя в их положение, так чтобы эта доброта никогда не умаляла ни вашей власти, ни их почтения. Выслушивайте всё, что хоть сколько-нибудь заслуживает внимания. Пусть видят, что вы мыслите и чувствуете так, чтобы добрые люди вас любили, злые боялись, и все уважали.
Храните в себе те великие качества, которые составляют отличительную принадлежность честного человека, великого героя. Страшитесь всякой искусственности. Зараза пошлости да не помрачит в вас античного вкуса к чести и доблести.
Мелочные правила и жалкие утончённости не должны иметь доступа к вашему сердцу. Двоедушие чуждо великим людям: они презирают все низости.
Да напечатлеет Провидение эти немногие слова в моём сердце и в сердцах тех, кто их прочтёт после меня».
Сюжет третий: Владимир и Инесса
Незапятнанная любовь
Так получилось, что последние несколько лет я собирал материалы для книги «Ленин в жизни». Занятие оказалось из самых трудных. Во-первых, потому, что о Ленине написаны горы книг. Статистика знает и то, что больше, чем о Ленине, написано только о Христе. Всё это, опять же, надо было прочитать. Кроме того, сам Ленин, по подсчётам одного из усердных его биографов, к тому времени, когда третий жесточайший удар остановил его руку и отнял язык, написал десять миллионов слов. И вот что меня постоянно угнетало в этом чтении. Живого Ленина там почти не было. Понятно было только, что фигура эта была невероятного размаха, нечеловеческая, необъяснимых масштабов, таинственная и вызывающая суеверный ужас, но она как бы скрыта завесой, мутным стеклом. Даже те, кто его знали очень близко (ведь были же у него жена, сёстры, брат), не отваживались опуститься до житейской мелочи, которые бывают так увлекательны в грандиозной личности. Сам он в этом смысле поразил меня только однажды. Как-то, рассуждая о диалектическом идеале полезности и красоты, идеалом таким назвал он женскую грудь. Значит, он и в этих делах разбирался. Это, конечно, не сделало его ближе, но стало понятно, что человеческое ему не было чуждо. На такого его мне и захотелось посмотреть…
И вот ещё несколько штрихов из коллекции того человеческого, что было в этой нечеловеческой по обычным меркам фигуре. Вот, например, Елизавета Драбкина, соратница Ленина и видная пролетарская публицистка описывает день похорон тоже известной революционной деятельницы Инессы Арманд. И тут надо пояснить следующее. К моменту, когда я делал эти выписки, я уже настолько познал ленинскую суть, что она жуткой и отвратительной стала казаться мне. И вот тут, единственный раз, он предстал передо мной в таком виде, что стиль, продиктованный исключительно этими двумя чувствами, оказался бы фальшивым, попробуй я по этой канве интерпретировать такие, например, мгновения из жизни вождя: «…мы увидели, – пишет Драбкина, – движущуюся нам навстречу похоронную процессию. Чёрные худые лошади, запряженные цугом, с трудом тащили чёрный катафалк, на котором стоял очень большой и поэтому особенно страшный длинный цинковый ящик, отсвечивающий тусклым блеском.
Стоя у обочины, мы пропустили мимо себя этих еле переставляющих ноги и костлявых лошадей, этот катафалк, покрытый облезшей чёрной краской, и увидели идущего за ним Владимира Ильича, а рядом с ним я увидела Надежду Константиновну, которая поддерживала его под руку. Было что-то невообразимо скорбное в его опущенных плечах и низко склонённой голове. Мы поняли, что в этом страшном ящике находился гроб с телом Инессы».
«Не только лицо Ленина, – продолжает другая революционная мемуаристка Анжелика Балабанова, – весь его облик выражал такую печаль, что никто не осмеливался даже кивнуть ему. Было ясно, что он хотел побыть наедине со своим горем. Он казался меньше ростом, лицо его было прикрыто кепкой, глаза, казалось, исчезли в болезненно сдерживаемых слезах. Всякий раз, как движение толпы напирало на нашу группу, он не оказывал никакого сопротивления толчкам, как будто был благодарен за то, что мог вплотную приблизиться к гробу».
Александра Коллонтай вообще считает, что медленное умирание Ленина начинается с той поры, когда не стало Инессы Арманд…
Из венков у гроба Инессы обращал на себя внимание один – из белых живых роз. На ленте надпись: «Товарищу Инессе от В.И. Ленина». Заглянул в старинный книжный томик с названием «Язык цветов», подобный вполне мог побывать и в руках пролетарского вождя. «Поднесённые вам белые розы означают невинность, чистую, незапятнанную любовь», растолковано там…
Зачем Ленин подарил Инессе Арманд калоши?
Весной 1910 года его (Ленина) спокойному, размеренному существованию, более подходящему для среднего французского буржуа, настал конец. Ко всеобщему удивлению русской колонии в Париже, привыкшей считать Ленина абсолютным пуританином, он стал появляться в обществе женщины, которая, как всем было известно, вовсе не была ему женой. Её звали Елизавета Арманд.
Пейн Р. Ленин: Жизнь и смерть / Пер. с англ. – М.: Мол. Гвардия, 2002, с. 247
16 июня 1875 г., через пять лет после того, как в Симбирске, на Волге, родился Ленин, в Париже, на берегах Сены, родилась девочка. Отец её, Теодор Стефан, был известным французским оперным певцом; мать, Натали, полу-француженка, полу-шотландка, тоже была актрисой. Младенцу дали имя Инесса-Елизавета. Теодор рано умер, оставив вдову с тремя девочками без средств. Тетка, преподавательница музыки и французского языка, взяла Инессу с бабушкой в Москву. Там она получила образование. В семнадцать лет Инесса сдала экзамен на звание домашней учительницы, а в восемнадцать вышла замуж за Александра Евгеньевича Арманда, отцу которого принадлежала крупная (1200 рабочих) шерстоткацкая и красильно-отделочная фабрика в деревне Пушкино, к северу от Москвы. Арманды были обрусевшие французы, принявшие православие. «Выпись» из метрической книги «Николаевской села Пушкина церкви» за 3 октября 1893 г. свидетельствует о браке «Московской 1-й гильдии купеческого сына Александра Евгеньева Арманда, православного вероисповедания… – с французской гражданкой, девицей, дочерью артиста Инессой-Елизаветой Федоровой Стефан, англиканского вероисповедания». Выпись эта сохранилась в замечательных русских архивах и теперь находится в Институте Маркса-Ленина в Москве.
Фишер Л. Жизнь Ленина. Overseas Publications Interchange, Ltd. London, 1970, с. 115
Инесса воспитывалась вместе с А.Е. Армандом – сыном фабриканта и за него потом вышла замуж (от этого брака трое детей).
Валентинов Н. Встречи с Лениным. // Нью-Йорк. Издательство имени Чехова, 1953, с. 33
Арманды принадлежали к высшему слою московских промышленников, вместе с Морозовыми, Рябушинскими и Гучковыми. Молодой муж Инессы – Александр Евгеньевич, занимался благотворительностью и был гласным Московского губернского земского собрания. Он основал сельскую школу, где преподавала Инесса.
Л. Фишер. С. 116
На путь революционной деятельности Инессу, по-видимому, толкнул старший брат её мужа – Борис Евгеньевич, еще в 1897 г. привлекавшийся полицией за хранение мимеографа для печатания революционных прокламаций. Но этот сын фабриканта, агитировавший рабочих против своего отца, постепенно «отрезвляется» и от революции отходит, наоборот, Инесса всё более и более страстно ей предаётся. В качестве агитаторши и пропагандистки она выступает сначала в Пушкино, потом в Москве. Те, кому приходилось её видеть в Москве в 1906 г., надолго запоминали её несколько странное, нервное, как будто асимметричное лицо, очень волевое, с большими гипнотизирующими глазами. Её арестовывают в первый раз в 1905 г., потом в 1907 г. и отправляют на два года в ссылку в Архангельскую губернию, не дождавшись двух месяцев до окончания срока, она скрывается за границу, в Брюссель, где слушает лекции в университете.
Н. Валентинов. С. 33-34
Владимир (другой из братьев Армандов), любовник Инессы, последовал за ней в ссылку. Александр, оставшийся законным мужем, заботился о детях и посылал деньги ей и Владимиру. Когда Владимир заразился туберкулёзом и уехал в Швейцарию, Инесса бежала из России к нему. Он умер через две недели после её приезда.
Л. Фишер. С. 116-117
Два года провела в ссылке. Об одной из своих ссылок Инесса Арманд писала так: «Меня хотели послать ещё на 100 верст к северу, в деревню Койду. Но, во-первых, там совсем нет политиков, а во-вторых, там, говорят, вся деревня заражена сифилисом, а мне это не очень улыбается».
К. и Т. Енко. Частная жизнь вождей. М.: ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2000, с. 111
В юности Инесса была очень религиозна и очень мятежна. Прочитав в возрасте 15 лет «Войну и Мир», она внутренне возмутилась против удела Наташи – самки, производящей на свет детей. Но через пять лет после свадьбы она сама уже была матерью троих – двух дочерей и одного сына. В том же 1898 году, отдыхая в Крыму, Инесса прочла книгу Петра Лаврова, ведущего идеолога народников. «Я давно не читала книги, которая бы так вполне соответствовала моим взглядам», – пишет она семье. В 1901 г. у Инессы родилась ещё одна дочь, а в 1903 г., в Швейцарии, – сын. Невдалеке от Женевского озера Инесса прочла «Развитие капитализма в России» Ленина.
Л. Фишер. С. 116
В 1910 г. она приезжает в Париж, и здесь происходит её знакомство с Лениным. В кафе на avenue d’Orleans его часто видят в её обществе.
Валентинов Н. С. 33-34
Крупская тепло писала о переезде подруги в автобиографическом очерке «Инесса Арманд» (1926 год): «Зимой 1911 года она с детьми поселилась в доме рядом с домом, где мы жили тогда. Мы виделись каждый день. Инесса стала близким нам человеком. Очень любила её и моя старушка-мать. Инесса умела всегда её разговорить…».
В. Мельниченко. Я тебя очень любила (правда о Ленине и Арманд). М.: Воскресенье, 2002, с. 123
Сохранился рассказ большевички Елены Власовой о встрече Ленина с Инессой Арманд. Власова, знавшая Инессу по совместной работе в Москве, была поражена происшедшей в ней перемене: «В мае 1909 года я её снова встретила уже в Париже, в эмигрантской среде. Первое, что у меня вырвалось при встрече, это возглас: «Что с вами случилось, Инесса Федоровна?». Инесса грустно ответила: «У меня большое горе, я только что похоронила в Швейцарии очень близкого мне человека, умершего от туберкулёза». Глаза Инессы были печальны, она очень осунулась и была бледна. Я поняла, что об этом больше говорить не следует, – Инесса страдает…»
Б.В. Соколов. Арманд и Крупская: женщины вождя. – Смоленск: Русич, 1999, с. 105
…Она была настоящей французской красавицей: тонкое, овальное лицо, волнистые волосы, умный лоб, широко поставленные и широко раскрытые глаза, изящно изогнутые брови, сильный нос, чувственный рот и округлый подбородок, говорящий о страсти и решительности.
Л. Фишер. С. 115-116
Не исключено, что в советские времена фотографии Инессы при воспроизведении в печати специально ретушировали, чтобы сделать её менее красивой и таким путём положить конец слухам об отношениях между ней и Лениным. Она действительно была красавицей – длинные, волнистые золотисто-каштановые волосы, высокие, четко выраженные скулы, нос с лёгкой горбинкой, восхитительно чувственные ноздри, чуть выдающаяся вперёд верхняя губа, белые ровные зубы, роскошные тёмные брови и изящная фигура, сохранившаяся даже после пяти родов.
Р. Сервис. Ленин / Перев. с англ. Минск.: ООО «Попурри», 2002, с. 225
Одни в Париже и в Лонжюмо считали её красивой, другие только «еле хорошенькой», указывая, что лицо у неё ассиметричное и слишком длинное, а рот слишком широкий. В общем, её любили, но говорили, что в партии она выдвигается только по протекции: неожиданно в неё влюбился Ильич! Главный спор в сплетнях шёл преимущественно о том, «живёт» ли он с ней или же роман платонический?
М.А. Алданов. Самоубийство. М.: ТЕРРА, 1995, с. 126
В 1911-1912 гг. внимание, которым её окружает Ленин, всё время растёт. Оно бросается в глаза даже такому малонаблюдательному человеку, как французский социалист-большевик Шарль Рапопорт: «Ленин, – рассказывал он, – не спускал своих монгольских глаз с этой маленькой француженки» («avec ses petits yeux mongols ilepiait cette petite francaise»).
Валентинов Н. С. 33-34
Намёк на особые отношения Ленина и Арманд можно найти и в воспоминаниях Лидии Фотиевой, ставшей после Октябрьской революции секретарём Ленина. Во время одного из посещений парижской квартиры Ленина Фотиева обратила внимание, что Надежда теперь спит в комнате матери, а не в супружеской спальне.
Р. Сервис. С. 226
Вызывает любопытство и то, что Инесса Арманд, являвшаяся временами чуть ли не членом семьи Ленина, была в его письмах к родным фигурой умолчания: в них её имя не упоминалось ни разу (!). Крупская коснулась имени Арманд один только раз, однако, не назвав её имени: в конце 1913 года Надежда Константиновна написала в письме к матери Ленина, что вместе с ними на концерте была «одна наша знакомая». Значит, было что таить от матери и свекрови…
В. Мельниченко. Я тебя очень любила (правда о Ленине и Арманд). М.: Воскресенье, 2002, с. 7
Крупская, в особенности после того, как заболела, но и до этого, вряд ли могла возбудить романтические чувства.
Л. Фишер. С. 122
Наружность Инессы, её интеллектуальное развитие, характер делали из неё фигуру, бесспорно, более яркую и интересную, чем довольно-таки бесцветная Крупская. Ленин ценил в Инессе – пламенность, энергию, очень твердый характер, упорность.
– Ты, – писал он ей 15 июля 1914 г., – из числа тех людей, которые развертываются, крепнут, становятся сильнее и смелее, когда они одни на ответственном посту.
Валентинов Н. С. 33-34
Совершенно неожиданной показалось мне одно ленинское сравнение, которое вычитал я в полном его собрании. Говоря о диалектической вершине соответствия красоты и целесообразности, он приводит в пример женскую грудь. Значит, он в этом деле всё-таки понимал толк… Знал, о чём говорит… Может быть, именно грудь Инессы имел он в виду?
В. Брусенцов. Ленин. «Простор», 1993, № 11, с. 165
Недаром тогда бытовала шутка, что товарищ Инесса являет собой редкостный случай полного единства формы и содержания и в качестве такого примера должна быть включена в программы по диалектике.
Е.Я. Драбкина. Зимний перевал. – М.: Политиздат, 1990, с. 27-28
Американский писатель Джон Стейнбек, побывавший в Музее В.И. Ленина в Москве после войны, обратил внимание на множество ленинских фотографий в экспозиции: «Его фотографировали везде, в любых ситуациях, в разном возрасте, будто он предвидел, что в один прекрасный день будет открыт музей, который назовут Музеем Ленина». Фотографий сохранилось действительно немало – свыше 440. Больше половины из них относятся к периоду, когда в жизни Ленина присутствовала Инесса Арманд. Однако нет ни одной фотографии, где они были бы запечатлены только вдвоём – он и она. Впрочем, и наедине с Крупской Ильич сфотографировался только в 1922 году в Горках, во время болезни.
Мельниченко В. С. 318
Он восхищался её знанием иностранных языков, в этом отношении она была для него незаменимым помощником на международных конференциях в Кинтале и Циммервальде в 1915 г. и на первом и втором Конгрессе Коминтерна в 1919-м и 1920 гг. Он доверял и её знанию марксизма: в 1911 г. в партийной школе в Longiumeau (около Парижа) поручил ей вести дополнительные, семинарские занятия с лицами, слушающими его лекции по политической экономии. Наконец, Инесса была превосходная музыкантша, она часто играла Ленину «Sonate Pathetique» Бетховена, а для него это голос Сирены. «Десять, двадцать, сорок раз могу слушать Sonate Pathetique, и каждый раз она меня захватывает и восхищает всё более и более», – говорил Ленин.
Валентинов Н. С. 34
«История социалистического движения в Бельгии – 3 лекции; читала их эмигрантка Инесса, оказавшаяся очень слабой лекторшей и ничего не давшая своим слушателям.
Инесса (партийный псевдоним, специально присвоенный на время преподавания в школе) – интеллигентка с высшим образованием, полученным за границей; хотя и говорит хорошо по-русски, но, должно думать, по национальности еврейка; свободно владеет европейскими языками; её приметы: около 26-28 лет от роду, среднего роста, худощавая, продолговатое чистое и белое лицо; тёмно-русая с рыжеватым оттенком; очень пышная растительность на голове, хотя коса и производит впечатление привязанной; замужняя, имеет сына 7 лет, жила в Лонжюмо в том же доме, где помещалась и школа; обладает весьма интересной наружностью…».
Донесение сек. сот. в Московское охранное отделение. Цит. по: Мельниченко В. С. 129
Внешность Инессы была особенно выигрышной на фоне внешности жены Ленина. Она также описана одним из слушателей школы в Лонжюмо, по совместительству подрабатывавшим в Московском Охранном Отделении: «Вся без исключения переписка школьников с родными и знакомыми велась через “Надежду Константиновну”, жену Ленина, тесно соприкасающуюся с ЦО (Центральным Органом, в то время – газетой “Социал-Демократ”. – Б.С.) и исполняющую как бы обязанности секретаря редакции. Письма “Надеждой Константиновной” пересылались в Бельгию и Германию и оттуда уже направлялись по назначению в Россию. Письма из России также направлялись в указанные выше местности, пересылались оттуда к ней и здесь уже распределялись между адресатами учениками. Имеются основания думать, что корреспонденция негласно просматривалась, и таким образом осуществлялся контроль за сношениями школьников.
Приметы “Надежды Константиновны”: около 36-38 лет от роду, выше среднего или даже высокого роста, худощавая, продолговатое бледное с морщинками лицо, тёмно-русая, интеллигентка, носит причёску и шляпу; детей не имеет; живёт с мужем и старухой матерью в Лонжюмо».
Выходит, что в Лонжюмо Крупская занималась почти тем же, что и агенты-провокаторы Охранки: перлюстрировала письма слушателей.
Б.В. Соколов. Арманд и Крупская: женщины вождя. – Смоленск: Русич, 1999, с. 107-108
– Хорошо помню Инессу Арманд. Нерусский тип. Миловидная женщина. По-моему, ну так, ничего особенного… Ленин обращался с ней очень нежно.
В. Молотов. Цит. По: Чуев Ф. И. Молотов: Полудержавный властелин. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000. С. 273
Член парижской группы большевиков, скрипач-любитель Гречнев-Чернов об этом времени вспоминал: «Когда она опускала пальцы на клавиши и начинала играть, вы сразу же чувствовали – это настоящий поэт рояля. Так тонко, трепетно ощущались ею дух, стихия, внутренний ритм исполняемого произведения. Виртуозно, с суровым вдохновением исполняла она сонаты Бетховена, притом не только Патетическую, Лунную, Апассионату, но и другие, порой читая их с листа».
Мельниченко В. С. 123
Инесса была хорошая музыкантша, сагитировала сходить всех на концерты Бетховена, сама очень хорошо играла многие вещи Бетховена. Ильич особенно любил «Sonate pathetique», просил её постоянно играть, – он любил музыку.
Н.К. Крупская. Воспоминания о В.И. Ленине в 10 томах. М.: Издательство политической литературы. 1989-1991. (Далее – ВоВИЛ), т. 2, с. 175
А.С. Гречнев-Чернов оставил ещё одно свидетельство об этих же днях: «В Париже, недалеко от улицы Толбияк, идущей прямо к парку Монсури, жила Инесса Фёдоровна Арманд, одна из активных работников партии. Она сняла комнату у находящегося в эмиграции уральского рабочего И.П. Мазанова. Я знал Мазанова по нелегальной работе в Донбассе. Посещая земляка, я довольно близко познакомился с И. Арманд. Этому помогли наши совместные занятия музыкой: я играл на скрипке, а она на рояле, который брала напрокат. Играла она много, хорошо владела техникой игры и обладала чувством настоящего музыканта. Владимир Ильич охотно слушал нашу игру. Он часто приходил к И.П. Мазанову, которого знал по ссылке в Сибири. С Инессой Арманд, которую Владимир Ильич очень ценил как работника, его также связывали дружеские узы. Иногда с ним приходила и Надежда Константиновна. Играли мы самые разнообразные вещи: и ноктюрны Шопена, и сонаты Бетховена; играли Моцарта, Баха, Венявского, Шумана, Шуберта, вариации Берио. Владимир Ильич усаживался в кресло позади рояля и молча слушал. Владимир Ильич очень любил музыку и понимал её. Он восторгался отдельными местами из сонат Моцарта, где торжественно и величественно звучали аккорды, он увлекался сонатами Бетховена, любил бурного и темпераментного Баха, спокойную, душевную музыку Шопена, Шуберта, Шумана, высокую технику вариаций Берио. Некоторые вещи, такие, например, как ноктюрн Шопена в ми-бемоль или “Легенда” Венявского, он просил повторять».
Б.В. Соколов. С. 115-116
Пожалуй, лучше всех сказала о себе сама Инесса Фёдоровна в одном из откровенных писем к своей старшей дочери: «Знаешь ли, я скажу про себя – скажу прямо – жизнь и многие жизненные передряги, которые пришлось пережить, мне доказали, что я сильная, и доказали это много раз, и я это знаю. Но знаешь, что мне часто говорили, да и до сих пор ещё говорят? “Когда мы с вами познакомились, вы нам казались такой мягкой, хрупкой и слабой, – а вы, оказывается, железная” … Неужели на самом деле каждый сильный человек должен быть непременно жандармом, лишённым всякой мягкости и женственности? – По-моему, это “ниоткуда не вытекает”, по выражению одного моего хорошего знакомого… Наоборот, в женственности и мягкости есть обаяние, которое тоже сила…».
В. Мельниченко. С. 122
В 1921 г. современник вспоминал: «Как сейчас вижу её, выходящую от наших Ильичей. Её темперамент мне тогда бросился в глаза… Казалось, жизни в этом человеке неисчерпаемый источник. Это был горящий костёр революции, и красные перья на её шляпе являлись как бы языками этого пламени».
Л. Фишер. С. 117
Несмотря на её разрыв с мужем, происшедший, кажется, без всяких драм, семья Арманд её снабжает средствами. Всё время своей эмиграции, т. е. до 1917 г., в деньгах она не нуждается.
Валентинов Н. С. 34
К Инессе очень привязалась моя мать, к которой Инесса заходила часто поговорить, посидеть с ней, покурить…
Н. К. Крупская, ВоВИЛ. Т. 2. С. 250
Всех мужчин и женщин, которых когда-либо Ленин встречал, он примерял только к делу, только по их отношению к делу, – и соразмерно отвечал им: так, как требовало дело, и до того момента, пока оно требовало. Лишь одна Инесса, хоть и вошла в его жизнь через то же дело, иначе быть не могло, никакая посторонняя не могла б и приблизиться, – но существовала как будто для него одного, просто для него, существо для существа… Пяти минут не умея провести впустую, чтобы не раздражиться, не отяготиться бездельем, – с Инессой он проводил и помногу часов подряд. И не презирал себя за то, не спешил отряхнуться, но вполне отдавался этой слабости. И вот высшая степень: когда всё без исключения доверяешь ей, когда хочется ей всё рассказать – больше, чем любому мужчине…
А.И. Солженицын. Ленин в Цюрихе. Екатеринбург.: У-ФАКТОРИЯ, 2002, с. 145
Помню, что В. И. в юности… читал и перечитывал по нескольку раз своего любимого Тургенева.
М.И. Ульянова. ВоВИЛ, т.1, с. 287
Если мотивы влечения Ленина к некоторым произведениям Тургенева («будучи в гимназии, – сказал он мне, – я очень любил «Дворянское гнездо») приходится узнавать лишь с помощью догадок, различных сопоставлений и сближений с различными его высказываниями, есть одна вещь Тургенева, в которой можно уже точно указать, какие в ней мысли им особенно ценились. Имею в виду рассказ «Колосов», а касаясь его, мы неизбежно придём к весьма интимной стороне жизни Ленина… По настоянию Ильича, говорила мне Крупская, [в сибирской ссылке] особенно тщательно мы перевели некоторые страницы из рассказа «Колосов». На эту вещь он обратил большое внимание ещё в гимназии и крайне ценил её. По его мнению, Тургеневу в нескольких строках удалось дать самую правильную формулировку, как надо понимать то, что напыщенно называют «святостью» любви. Он много раз мне говорил, что его взгляд на этот вопрос целиком совпадает с тем, что Тургенев привел в «Колосове». Это, говорил он, настоящий революционный, а не пошло-буржуазный взгляд на взаимоотношения мужчины и женщины».
Весьма заинтересованный тем, как же Ленин смотрит на «святость любви», я, конечно, отыскал «Колосова» и вновь прочитал его. Рассказ слабый, бесцветный, не я один, а обычно все проходят мимо него. Ничего из него не западает, ничто в нём не останавливает. Странно, думал я, как могла такая вещица «крайне цениться» Лениным! В Женеве я мог этим удивлением ограничиться и о том, что говорила Крупская, позабыть. Но в свете того, что с Лениным позднее случилось, о «Колосове» нужно поговорить подробнее.
Лицо, от имени которого ведётся рассказ, называет Колосова человеком «необыкновенным». Он полюбил девушку, потом разлюбил её и от неё ушел. Помилуйте, что же тут необыкновенного? Это ежедневно и ежечасно всюду случается. Необыкновенно то, отвечает рассказчик, что Колосов это сделал смело, порывая со своим прошлым, не боясь упреков.
«Кто из нас умел вовремя расстаться со своим прошлым? Кто, скажите, кто не боится упрёков, не говорю – упрёков женщины, упрёков первого глупца? Кто из нас не поддавался желанию то щегольнуть великодушием, то себялюбиво поиграть с другим преданным сердцем? Наконец, кто из нас в силах противиться мелкому самолюбию, мелким хорошим чувствам: сожалению и раскаянию? О, господа, человек, который расстаётся с женщиной, некогда любимой, в тот горький и великий миг, когда он невольно сознаёт, что его сердце не всё, не вполне проникнуто ею, этот человек, поверьте мне, лучше и глубже понимает святость любви, чем те малодушные люди, которые от скуки, от слабости, продолжают играть на полупорванных струнах своих вялых и чувствительных сердец. Мы все прозвали Андрея Колосова человеком необыкновенным. И если ясный простой взгляд на жизнь, если отсутствие всякой фразы в молодом человеке может называться вещью необыкновенной, Колосов заслужил данное ему имя. В известные лета быть естественным – значит быть необыкновенным».