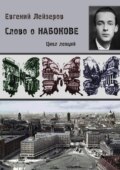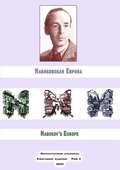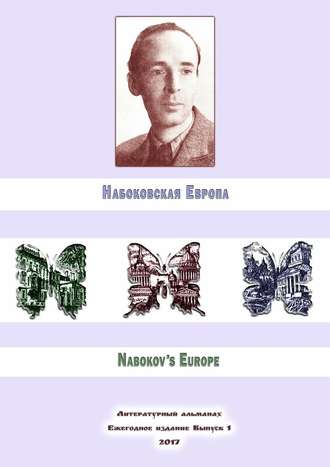
Евгений Лейзеров
Набоковская Европа
Акт третий
Собрание литературного кружка
Просторная, вытянутая гостиная, где справа от входа, широкий письменный стол, за которым сидит Васильев. Вдоль стен два длинных книжных шкафа (до потолка) и четыре этажерки. Напротив входа в комнату – диван, на котором сидят Александра Яковлевна, Любовь Марковна и Тамара. Справа от письменного стола столик ампир. В гостиной – несколько рядов стульев,
разделенных диваном, повернутых в сторону письменного стола. На них размещаются пришедшие на собрание. Рыжая, в зеленом выше колен, барышня помогает горничной разносить чай.
В гостиную входит Федор Константинович, три дамы на диване улыбаются ему, а Тамара указывает на свободный стул.
Александр Яковлевич (подходя и раскланиваясь):
Милостивый государь, знаете что, написали бы вы, в виде романизированной биографии, книжечку о нашем великом шестидесятнике. Да, конечно же, о Николае Гавриловиче Чернышевском. Да-да, не морщитесь, я все предвижу возражения на предложение мое, но, поверьте, бывают же случаи, когда обаяние человеческого подвига совершенно искупает литературную ложь, а он был сущий подвижник, и если бы вы пожелали описать его жизнь, я б вам много мог порассказать любопытного.
Федор, извиняюще улыбаясь А.Я., движется в направлении указанного Тамарой свободного стула. Кто-то сзади произносит с ответной объясняющей интонацией:
Годунов-Чердынцев.
Ат:
Когда молодые люди его лет, любители стихов, провожали его, бывало, тем особенным взглядом, который ласточкой скользит по зеркальному сердцу поэта, он ощущал в себе холодок бодрой живительной гордости: это был предварительный проблеск его будущей славы, но была и слава другая, земная, – верный отблеск прошедшего: не менее, чем вниманием ровесников, он гордился любопытством старых людей, видящих в нем сына знаменитого землепроходца, отважного чудака, исследователя фауны Тибета, Памира и других синих стран.
Александра Яковлевна (со своей росистой улыбкой):
Вот, познакомьтесь.
Скворцов:
Здравствуйте, Скворцов. Я недавно убыл из Москвы. Дорогой Федор Константинович, меня поражает полная неосведомленность за границей в отношении гибели Константина Кирилловича.
Скворцова (его жена):
Мы думали, что если у нас не знают, так это в порядке вещей.
Скворцов:
Да, со страшной ясностью вспоминаю сейчас, как мне довелось однажды быть на обеде в честь вашего батюшки и как остроумно выразился Козлов, Петр Кузьмич, что Годунов-Чердынцев, дескать, почитает Центральную Азию своим отъезжим полем. Да… Я думаю, что вас еще тогда не было на свете.
Федор (сухо перебив Скворцова):
А что сейчас происходит в России?
Скворцов:
Как вам сказать…
Адвокат (протискиваясь и пожимая руку Федору):
Здравствуйте, Федор Константинович, здравствуйте, дорогой.
Васильев (поднявшись со своего места и на мгновение опершись о столешницу легким прикосновением пальцев):
Дамы и господа, объявляю собрание открытым. Господин Буш, прочтет нам свою новую, свою философскую трагедию.
Герман Иванович Буш, пожилой, застенчивый, крепкого сложения, симпатичный рижанин, похожий лицом на Бетховена, садится за столик ампир, гулко откашливается, разворачивает рукопись; у него заметно дрожат руки и продолжают дрожать во все время чтения.
Ат:
Уже в самом начале наметился путь беды. Курьезное произношение чтеца было несовместимо с темнотою смысла.
Буш (читает по рукописи):
Первая Проститутка. Всё есть вода. Так говорит гость мой Фалес.
Вторая Проститутка. Всё есть воздух, сказал мне юный Анаксимен.
Третья Проститутка. Всё есть число. Мой лысый Пифагор не может ошибиться.
Четвертая Проститутка. Гераклит ласкает меня, шептая: всё есть огонь.
Спутник (входит). Всё есть судьба.
Недоуменно обмениваются взглядами несколько человек, Кончеев медленно и осторожно берет с этажерки большую книгу (альбом персидских миниатюр), медленно ее поворачивает то так, то сяк на коленях и начинает ее тихо и медленно рассматривать. У Чернышевской – удивленный и оскорбленный вид.
Буш читает быстро, его лоснящиеся скулы вращаются, горит подковка в черном галстуке, ноги под столиком стоят носками внутрь.
Васильев так тяжко поворачивается на стуле, что он неожиданно треснул, поддалась ножка, и Васильев рванулся, переменившись в лице, но не упал. Звериный, ликующий взрыв, чтение прерывается; пока Васильев переселяется на другой стул,
Буш что-то отмечает в рукописи карандашиком и приступает к дальнейшему чтению:
Торговка Лилий. Ты сегодня чем-то огорчаешься, сестрица.
Торговка Разных Цветов. Да, мне гадалка сказала, что моя
дочь выйдет замуж за вчерашнего прохожего.
Дочь. Ах, я даже его не заметила.
Торговка Лилий. И он не заметил ее.
Хор. Слушайте, слушайте!
Занавес (с легким ударением на последнем слоге)
Васильев:
Дамы и господа, перерыв.
Чернышевская (гневно):
Скажите, что это такое?
Васильев (виновато-благодушно):
Ну что ж, бывает, ну, знаете…
Чернышевская:
Нет, я вас спрашиваю, что это такое?
Васильев:
Да что ж я, матушка, могу?
Чернышевская:
Но вы же читали раньше, он вам приносил в редакцию? Вы же говорили, что это серьезная, интересная вещь. Значительная вещь.
Васильев:
Да, конечно, первое впечатление, пробежал, знаете, – не учел, как будет звучать… Попался! Я сам удивляюсь. Да вы пойдите к нему, Александра Яковлевна, скажите ему что-нибудь.
Федора Константиновича взял повыше локтя адвокат.
Адвокат:
Вас-то мне и нужно. Мне вдруг пришла мысль, что это что-то для вас. Ко мне обратился клиент, ему требуется перевести на немецкий кое-какие свои бумаги для бракоразводного процесса, не правда ли. Там, у его немцев, которые дело ведут, служит одна русская барышня, но она, кажется, сумеет сделать только часть, надо еще помощника. Вы бы взялись за это? Дайте-ка, я запишу ваш номер.
Васильев:
Господа, прошу по местам. Сейчас начнутся прения по поводу заслушанного. Прошу желающих записываться.
Кончеев, сутулясь и заложив руку за борт пиджака, извилисто пробирается к выходу. Федор следует за ним.
Занавес
Акт четвертый
Вымышленный диалог по самоучителю вдохновения
Ночная берлинская улица 20-х годов 20-го века. В перспективе видна трамвайная остановка. На улицу медленно выходят Годунов-Чердынцев и Кончеев.
Федор:
Какая скверная погода.
Кончеев:
Да, совсем холодно.
Федор:
Паршиво… Вы живете в каких же краях?
Кончеев:
А в Шарлоттенбурге.
Федор:
Ну, это не особенно близко. Пешком?
Кончеев:
Пешком, пешком. Кажется, мне тут нужно…
Федор:
Да, вам направо, мне – напрямик.
Федор прощается с Кончеевым. Кончеев уходит со сцены, а Федор удаляется по улице; в свете фонарей видна его спина и слышен его разговор с Кончеевым, причем, когда раздается голос Кончеева, возникает проекция его фигуры на сцене.
Федор:
…Но постойте, постойте, я вас провожу. Вы, поди, полуночник, и не мне, стать, учить вас черному очарованию каменных прогулок. Так вы не слушали бедного чтеца?
Кончеев:
Вначале только – и то вполуха. Однако я вовсе не думаю, что это было так уж скверно.
Федор:
Вы рассматривали персидские миниатюры. Не заметили ли вы там одной – разительное сходство! – из коллекции петербургской публичной библиотеки – ее писал, кажется, Риза Аббаса, лет триста тому назад: на коленях, в борьбе с драконятами, носатый, усатый… Сталин.
Кстати, мне сегодня попалось в «Газете», – не знаю уж, чей грех: «На Тебе, Боже, что мне негоже». Я в этом усматриваю обожествление калик.
Кончеев:
Или память о каиновых жертвоприношениях.
Сойдемся на плутнях звательного падежа, – и поговорим лучше «о Шиллере, о подвигах, о славе», – если позволите маленькую амальгаму. Итак, я читал сборник ваших очень замечательных стихов. Собственно, это только модели ваших же будущих романов.
Федор:
Да, я мечтаю когда-нибудь произвести такую прозу, где бы «мысль и музыка сошлись, как во сне складки жизни».
Кончеев:
Благодарю за учтивую цитату. Вы как – по-настоящему любите литературу?
Федор:
Полагаю, что да. Видите ли, по-моему, есть только два рода книг: настольный и подстольный. Либо я люблю писателя истово, либо выбрасываю его целиком
Кончеев:
Э, да вы строги. Не опасно ли это? Не забудьте, что как-никак вся русская литература, литература одного века, занимает – после самого снисходительного отбора – не более трех – трех с половиной тысяч печатных листов, а из этого числа едва ли половина достойна не только полки, но и стола. При такой количественной скудости нужно мириться с тем, что наш Пегас пег, что не все в дурном писателе дурно, а в добром не все добро.
Федор:
Дайте мне, пожалуй, примеры, чтобы я мог опровергнуть их.
Кончеев:
Извольте: если раскрыть Гончарова или…
Федор:
Стойте! Неужели вы желаете помянуть добрым словом Обломова. «Россию погубили два Ильича», – так, что ли? Или вы собираетесь поговорить о безобразной гигиене тогдашних любовных падений? Кринолин и сырая скамья? Или, может быть, – стиль? Помните, как у Райского в минуту задумчивости переливается в губах розовая влага? – точно так же, скажем, как герои Писемского в минуту сильного душевного волнения рукой растирают себе грудь?
Кончеев:
Тут я вас уловлю. Разве вы не читали у того же Писемского, как лакеи в передней во время бала перекидываются страшно грязным, истоптанным плисовым женским сапогом? Ага! Вообще, коли уж мы попали в этот второй ряд…
Федор:
Что вы скажете, например, о Лескове?
Кончеев:
Да что ж… У него в слоге попадаются забавные англицизмы, вроде «это была дурная вещь» вместо «плохо дело». Но всякие там нарочитые «аболоны»… нет, увольте, мне не смешно. А многословие… матушки! «Соборян» без урона можно было бы сократить до двух газетных подвалов. И я не знаю, что хуже – его добродетельные британцы или добродетельные попы.
Федор:
Ну, а все-таки. Галилейский призрак, прохладный и тихий, в длинной одежде цвета зреющей сливы? Или пасть пса с синеватым, точно напомаженным, зевом? Или молния, ночью, освещающая подробно комнату, – вплоть до магнезии, осевшей на серебряной ложке?
Кончеев:
Отмечаю, что у него латинское чувство синевы: lividus. Лев Толстой, тот был больше насчет лилового, – и какое блаженство пройтись с грачами по пашне босиком!
Федор:
Но мы перешли в первый ряд. Разве там вы не найдете слабостей? «Русалка»…
Кончеев:
Не трогайте Пушкина: это золотой фонд нашей литературы. А вон там, в чеховской корзине, провиант на много лет вперед, да щенок, который делает «уюм, уюм, уюм», да бутылка крымского.
Федор:
Погодите, вернемся к дедам. Гоголь? Я думаю, что мы весь состав его пропустим. Тургенев? Достоевский?
Обратное превращение Бедлама в Вифлеем, – вот вам Достоевский. «Оговорюсь», как выражается Мортус. В Карамазовых есть круглый след от мокрой рюмки на садовом столе, это сохранить стоит, – если принять ваш подход. Так неужели ж у Тургенева все благополучно? Вспомните эти дурацкие тэтатэты в акатниках? Рычание и трепет Базарова? Его совершенно неубедительная возня с лягушками? И вообще – не знаю, переносите ли вы особую интонацию тургеневского многоточия и жеманное окончание глав? Или всё простим ему за серый отлив черных шелков, за русачью полежку иной его фразы? Мой отец находил вопиющие ошибки в его и толстовских описаниях природы, и уж про Аксакова нечего говорить, добавлялон, – это стыд и срам.
Кончеев:
Быть может, если мертвые тела убраны, мы примемся за поэтов? Как вы думаете? Кстати, о мертвых телах. Вам никогда не приходило в голову, что лермонтовский «знакомый труп» – это безумно смешно, ибо он, собственно, хотел сказать «труп знакомого», – иначе ведь непонятно: знакомство посмертное контекстом не оправдано.
Федор:
У меня все больше Тютчев последнее время ночует.
Кончеев:
Славный постоялец. А как вы насчет ямба Некрасова – нету на него позыва?
Федор:
Как же. Давайте-ка мне это рыданьице в голосе: «загородись двойною рамою, напрасно горниц не студи, простись с надеждою упрямою и на дорогу не гляди». Кажется, дактилическую рифму я сам ему выпел, от избытка чувств, – как есть особый растяжной перебор у гитаристов. Этого Фет лишен.
Кончеев:
Чувствую, что тайная слабость Фета – рассудочность и подчеркивание антитез – от вас не скрылась?
Федор:
Наши общественно настроенные олухи понимали его иначе. Нет, я все ему прощаю за «прозвенело в померкшем лугу», за росу счастья, за дышащую бабочку.
Кончеев:
Переходим в следующий век: осторожно, ступенька. Мы с вами начали бредить стихами рано, не правда ли? Напомните мне, как это все было? «Как дышат края облаков…» Боже мой!
Федор:
Или освещенные с другого бока «Облака небывалой услады». О, тут разборчивость была бы преступлением. Мое тогдашнее сознание воспринимало восхищенно, благодарно, полностью, без критических затей, всех пятерых, начинающихся на «Б», – пять чувств новой русской поэзии.
Кончеев:
Интересно, которому именно вы отводите вкус. Да-да, я знаю, есть афоризмы, которые, как самолеты, держатся только пока находятся в движении. Но мы говорили о заре… С чего у вас началось?
Федор:
С прозрения азбуки. Простите, это звучит изломом, но дело в том, что у меня с детства в сильнейшей и подробнейшей степени цветной слух.
Кончеев:
Так что вы могли бы тоже…
Федор:
Да, но с оттенками, которые ему не снились, – и не сонет, а толстый том. К примеру: различные, многочисленные «а» на тех четырех языках, которыми владею, вижу едва ли не в стольких же тонах – от лаково-черных до занозисто-серых – сколько представляю себе сортов поделочного дерева. Не знаю, обращали ли вы когда-либо внимание на вату, которую изымали из майковских рам? Такова буква «ы», столь грязная, что словам стыдно начинаться с нее. Если бы у меня были под рукой краски, я бы вам так смешал сиену жженую и сепию, что получился бы цвет гуттаперчевого «ч»; и вы бы оценили мое сияющее «с», если я мог бы вам насыпать в горсть тех светлых сапфиров, которые я ребенком трогал, дрожа и не понимая, и если отодвинуть в боковом окне фонаря штору, можно было видеть, вдоль набережных фасадов в синей черноте ночи изумительно неподвижные, грозно-алмазные вензеля, цветные венцы…
Кончеев:
Огненные буквы, одним словом… Да, я уже знаю наперед. Хотите, я вам доскажу эту банальную и щемящую душу повесть? Как вы упивались первыми попавшимися стихами. Как в десять лет писали драмы, а в пятнадцать элегии, – и всё о закатах, закатах… «И медленно, пройдя меж пьяными…» Кстати, кто она была такая?
Федор:
Молодая замужняя женщина. Продолжалось неполных два года, до бегства из России. Она была так хороша, так мила – знаете, большие глаза и немного костлявые руки, – что я как-то до сих пор остался ей верен. От стихов она требовала только ямщикнегонилошадейности, обожала играть в покер, а погибла от сыпного тифа – Бог знает где, Бог знает как…
Кончеев:
А теперь что будет? Стоит, по-вашему, продолжать?
Федор:
Еще бы! До самого конца.
Кончеев:
Да, жалко, что никто не подслушал блестящей беседы, которую мне хотелось бы с вами вести.
Федор:
Ничего, не пропадет. Я даже рад, что так вышло. Кому какое дело, что мы расстались на первом же углу и что я веду сам с собою вымышленный диалог по самоучителю вдохновения.
Занавес
Акт пятый
Открытый литературный вечер
Большой, берлинский зал общества зубных врачей, по стенам портреты маститых дантистов; народу мало. В первом ряду сидит Елизавета Павловна. Увидев ее, к ней направляется Чернышевская. На сцене длинный стол, за ним, не торопясь, усаживаются писатель с именем, Ростислав Странный, трое молодых поэтов, пожилой в пенсне, две барышни, Кончеев и Годунов-Чердынцев. Среди публики, в средних рядах, – Зина Мерц.
Ат (медленно читается авторский текст, прожектор останавливается конкретно на том литераторе, о котором идет речь):
Наконец начали. Сперва читал писатель с именем, в свое время печатавшийся во всех русских журналах, седой, бритый, чем-то похожий на удода старик, со слишком добрыми для литературы глазами; он прочел толково-бытовым говорком повесть из петербургской жизни накануне революции, с героиней нюхавшей эфир, шикарными шпионами, шампанским, Распутиным и апокалиптически-апоплексическими закатами над Невой. После него некто Крон, пишущий под псевдонимом Ростислав Странный, порадовал нас длинным рассказом о романтическом приключении в городе стооком, под небесами чуждыми: ради красоты, эпитеты были поставлены позади существительных, глаголы тоже куда-то улетали, и почему-то раз десять повторялось слово «сторожко» («она сторожко улыбку роняла», «зацветали каштаны сторожко»). После перерыва густо пошел поэт: высокий юноша с пуговичным лицом, другой, низенький, но с большим носом, барышня, пожилой в пенсне, еще барышня, еще молодой, наконец – Кончеев, в отличие от победоносной чеканности прочих тихо и вяло пробормотавший свои стихи, но в них сама по себе жила такая музыка, в темном как будто стихе такая бездна смысла раскрывалась у ног, так верилось в звуки и так изумительно было, что вот, из тех же слов, которые нанизывались всеми, вдруг возникало, лилось и ускользало, не утолив до конца жажды, какое-то непохожее на слова, не нуждающееся в словах, своеродное совершенство, что впервые за вечер рукоплескания были непритворны. Последним выступил Годунов-Чердынцев. Он прочел из сочиненных за лето стихотворений те, которые Елизавета Павловна так любила, – русское:
Березы желтые немеют в небе синем… —
и берлинское, начинающееся строфой:
Здесь все так плоско, так непрочно,
так плохо сделана луна,
хотя из Гамбурга нарочно
она сюда привезена… —
и то, которое больше всего ее трогало, хотя она как-то не связывала его с памятью молодой женщины, давно умершей, которую Федор в шестнадцать лет любил:
Однажды мы под вечер оба
стояли на старом мосту.
«Скажи мне, – спросил я, – до гроба
запомнишь – вон ласточку ту?»
И ты отвечала: «Еще бы!»
И как мы заплакали оба,
как вскрикнула жизнь на лету…
До завтра, навеки, до гроба, —
однажды на старом мосту…
Но было уже поздно, многие продвигались к выходу, какая-то дама одевалась спиной к эстраде, ему аплодировали жидко…
Чернышевская (вставая с места и обращаясь к Елизавете Павловне):
Можно вас поцеловать?
Чернышевская трогательно целует Елизавету Павловну в щечку.
Занавес опускается, на сцене остается Федор.
Ат:
Федор Константинович с тяжелым отвращением думал о стихах, по сей день им написанных, о словах-щелях, об утечке поэзии, и в то же время с какой-то радостной, гордой энергией, со страстным нетерпением уже искал создания чего-то нового, еще неизвестного, настоящего, полностью отвечающего дару, который он как бремя чувствовал в себе.
На сцену выходит Елизавета Павловна. Вместе с Федором (на экране изображение берлинского вокзала 20-х годов 20-го века) она ждет прибытия парижского скорого поезда.
Елизавета Павловна (весело, на прощание):
Хочу тебе кое-что предложить. У меня осталось около семидесяти марок, они мне совершенно не нужны, а тебе необходимо лучше питаться, не могу видеть, какой ты худенький. На, возьми.
Федор:
С удовольствием.
Занавес
Акт шестой
Пушкин
Обстановка комнаты Федора (из первого акта).
Ат:
Задумчивый, рассеянный, смутно мучимый мыслью, что матери он как бы не сказал самого главного, Федор Константинович вернулся к себе, разулся, отломил с обрывком серебра угол плитки, придвинул к себе раскрытую на диване книгу…
На экране появляется портрет Пушкина.
раньше, в юности, пропускал некоторые страницы, – «Анджелло», «Путешествие в Арзрум», – но последнее время именно в них находил особенное наслаждение: только что попались слова: «Граница имела для меня что-то таинственное; с детских лет путешествия были моей любимой мечтой», как вдруг его что-то сильно и сладко кольнуло. Еще не понимая, он отложил книгу и слепыми пальцами полез в картонку с набитыми папиросами. «Жатва струилась, ожидая серпа». Опять этот божественный укол! А как звала, как п о д с к а з ы в а л а строка о Тереке («то-то был он ужасен!») или – еще точнее, еще ближе – о татарских женщинах: «Оне сидели верхами, окутанные в чадры: видны были у них только глаза да каблуки».
Так он вслушивался в чистейший звук пушкинского камертона – и уже знал, чего именно этот звук от него требует.
Но он еще ждал, – от задуманного труда веяло счастьем, он спешкой боялся это счастье испортить, да и сложная ответственность труда пугала его, он к нему не был еще готов. В течение всей весны продолжался тренировочный режим, он питался Пушкиным, вдыхал Пушкина, – у пушкинского читателя увеличиваются легкие в объеме. Учась меткости слов и предельной чистоте их сочетания, он доводил прозрачность прозы до ямба и затем преодолевал его, – живым примером служило:
Не приведи Бог видеть русский бунт,
бессмысленный и беспощадный.
Закаляя мускулы музы, он, как с железной палкой, ходил на прогулку с целыми страницами «Пугачева», выученными наизусть. За груневальдским лесом курил трубку у своего окна похожий на Симеона Вырина смотритель, и так же стояли горшки с бальзамином. Лазоревый сарафан барышни-крестьянки мелькал среди ольховых кустов. Он находился в том состоянии чувств и души, когда существенность, уступая мечтаниям, сливается с ними в неясных виденьях первосонья.
Пушкин входил в его кровь. С голосом Пушкина сливался голос отца. Он целовал горячую маленькую руку, принимая ее за другую, крупную руку, пахнувшую утренним калачом. Он помнил, что няню к ним взяли оттуда же, откуда была Арина Родионовна, – из-за Гатчины, с Суйды: это было в часе езды от их мест – и она тоже говорила «эдак певком».
Без отдыха, с упоением, он теперь по-настоящему готовился к работе, собирал материалы, читал до рассвета, изучал карты, писал письма, видался с нужными людьми. От прозы Пушкина он перешел к его жизни, так что вначале ритм пушкинского века мешался с ритмом жизни отца. Знакомые тома «Путешествия натуралиста» в незнакомых черно-зеленых обложках лежали рядом со старыми русскими журналами, где он искал пушкинский отблеск. Там он однажды наткнулся на замечательные «Очерки прошлого» А.Н.Сухощокова.
Говорят, – писал Сухощоков, – что человек, которому отрубили по бедро ногу, долго ощущает ее, шевеля несуществующими пальцами и напрягая несуществующие мышцы. Так и Россия еще долго будет ощущать живое присутствие Пушкина. Есть нечто соблазнительное, как пропасть, в его роковой участи, да и сам он чувствовал, что с роком у него были и будут особые счеты. В дополнение к поэту, извлекающему поэзию из своего прошедшего, он еще находил ее в трагической мысли о будущем. Тройная формула человеческого бытия: невозвратимость, несбыточность, неизбежность – была ему хорошо знакома.
Опускается занавес, на полотно которого проецируются кадры из фильма «Ключи Набокова», со слов: «Слушай, я совершенно счастлив. Счастье мое – вызов. Блуждая по улицам, по площадям, по набережным вдоль канала, – рассеянно чувствуя губы сырости сквозь дырявые подошвы, – я с гордостью несу свое необъяснимое счастье. Прокатят века, – школьники будут скучать над историей наших потрясений, – все пройдет, все пройдет, но счастье мое, милый друг, счастье мое останется, – в мокром отражении фонаря, в осторожном повороте каменных ступеней, спускающихся в черные воды канала, в улыбке танцующей четы, во всем, чем Бог окружает так щедро человеческое одиночество».
http://www.verbolev.com/#!film/ccam (хронометраж кадров: 1 мин. 15 сек. 21.21 – 22.34)